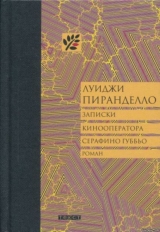
Текст книги "Записки кинооператора Серафино Губбьо"
Автор книги: Луиджи Пиранделло
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 15 страниц)
VI
Неприязнь эта направлена не столько на меня, Серафино Губбьо, сколько на кинокамеру. Рикошетом неприязнь попадает в меня, ведь я тот, кто вертит ручку и приводит механизм в движение.
Актеры не осознают до конца, что я, крутя ручку, являюсь для них своеобразным палачом. Каждый из них – я говорю, разумеется, о настоящих артистах, тех, кто предан своему искусству и любит его независимо от того, насколько велик их дар, – находится здесь отнюдь не по доброй воле. Просто здесь больше платят, притом за такую работу, которая, хоть и бывает хлопотной, не требует работы мозга. Зачастую, повторюсь, они даже не знают, какую роль играют.
Кино дает огромные доходы. Оно привлекает их заработком и может вознаградить лучше, чем любой театральный импресарио или хозяин труппы. Но не только поэтому. Кино, обеспечивая механическую репродукцию зрелища, продает по дешевке широчайшей публике фильмы,один за другим; кинозалы забиты до отказа, театры пустуют; все или почти все драматические труппы делают жалкие сборы; актеры, дабы не погрязнуть в нищете, вынуждены стучаться в двери киностудий. Они ненавидят мою камеру не только за то, что она лишает их куража и обрекает на бездарную, немую работу; они ненавидят ее главным образом потому, что она разлучает их с публикой, лишает священного слияния с ней. Прежде именно от публики они получали наивысшее удовлетворение и самое большое вознаграждение – удовлетворение видеть, чувствовать со сцены, как огромное число людей, затаив дыхание, внимательно следит за живымдействием, млеет, стонет, хохочет, доходит до точки кипения и взрывается аплодисментами.
Здесь же они ощущают себя как в ссылке: не только вдали от сцены, но и вдали от самих себя. Действия, живогодействия их живоготела, на полотне киноэкрана больше нет, есть только его изображение,схваченное в какой-то миг, в каком-то случайном, необязательном жесте, – оно мелькнет на экране и исчезнет, словно его и не было. Они смутно догадываются, испытывая едва уловимое, лихорадочно-тревожное чувство пустоты, а точнее, опустошенности, что тело у них отнято, упразднено, лишено жизни, дыхания, голоса, звуков, которые оно производит при движении, и стало только немым изображением, которое дрожит, мелькает с минуту на экране и молча – враз – исчезает, как бесплотная тень, как игра света на куске грязного полотна. Они чувствуют себя невольниками этой трескучей машинки, которая, со своим штативом на трех раздвигающихся ножках, напоминает гигантского паука, который притаился в засаде, готовый высосать всю их плоть, их живую реальность и затем превратить их перед глазами зрителей в тающее подобие бесплотного призрака, в игру, механическую иллюзию. И тот, кто лишает их реальности и швыряет ее в виде корма машинке, кто превращает в тень их живую плоть, – это кто? Это я, Серафино Губбьо.
Сами же они остаются здесь, словно задержавшись на театральных подмостках после дневной репетиции. Но театральный вечер, вечер спектакля, для них никогда не наступит. Зрителей они не увидят. О представлении, где они будут бесплотными тенями, позаботится кинокамера. А они пусть довольствуются тем, что разыгрывают спектакль перед нею одной. Разыграли, и их представление стало пленкой.
Могут ли они после этого любить меня?
От отчаяния их спасает только мысль, что не они одни умерщвлены в угоду этому механизму, который движет, манит, влечет к себе, лишая покоя и сна, толпы самых разных людей. Известные писатели, поэты, драматурги, романисты – все идут сюда, их распирает от гордости, они несут предложения о «преобразовании индустрии на принципах высокой художественности». Генеральный директор Боргалли держится с ними по-своему, а Коко Полак – по-своему. Первый, как руководитель учреждения, в белых перчатках; второй, как постановщик, – по-свойски и не чинясь, запанибрата.
Полак терпеливо выслушивает каждое сценарное предложение; слушает, слушает, потом вдруг взмахивает рукой и говорит:
– Нет, нет, не подойдет, много жестокости! Мы, уважаемый, обязаны думать об англичанах!
Эта находка с англичанами просто гениальна. В ней есть своя доля правды, поскольку большая часть продукции «Космографа» идет в Англии. Следовательно, в том, что касается выбора сюжетов, надо всегда приноравливаться к вкусу англичан. А послушать Полака, чего только эти англичане на дух не переносят! Уму непостижимо.
– Английская pruderie [12]12
Pruderie (фр.) – стыдливость, сдержанность.
[Закрыть], сам понимаешь… Стоит им сказать shocking [13]13
Shocking (англ.) – ужасающе, скандально.
[Закрыть], и пиши пропало! Я понимаю еще, если бы пленки прямым ходом попадали на суд зрителей, тогда другое дело, тогда нет-нет, но много чего наверняка бы прошло. Но ведь так не бывает, в Англии на импорте сидят агенты – эта непробиваемая стена, этот бич Господень! Агенты, все решают агенты, причем решают безапелляционно: это пойдет, это не пойдет. А каждый фильм,который «не пойдет», – это ведь огромное количество выброшенных на ветер либо недополученных средств.
Или же Коко Полак восклицает:
– Потрясающе! Дорогой мой, это драма, настоящая, гениальная драма! Ей обеспечен успех, и какой! Колоссальный успех! А вот в качестве фильма —вряд ли: тонко, понимаешь ли, слишком тонко, это я тебе говорю, дорогой мой! Нам требуется совсем другое. Ты для этого слишком талантлив, ты и сам догадываешься, я полагаю!
Хотя Коко Полак и зарезает их сценарии, он в то же время умеет польстить: дескать, не такие же они идиоты, чтобы писать для кино! С одной стороны, они вроде должны проникнуться чувством собственного достоинства и смириться, но с другой – им бы все-таки хотелось, чтобы сценарий взяли… В иных ситуациях и сто, и двести пятьдесят, и триста лир бывают нужны, как воздух… У некоторых, правда, мелькает подозрение, что похвала их уму и пренебрежение кинематографом как средством художественного выражения – это всего лишь предлог для того, чтобы отклонить их сценарий; но достоинство их осталось незатронутым, а посему они могут убираться ко всем чертям с высоко поднятой головой. Актеры издалека приветствуют их как братьев по несчастью.
– Все вынуждены идти сюда на поклон, – с тихим злорадством думают они. – Даже увенчанные лаврами! И всё ради того, чтобы на миг появиться на простыне!
Стою я как-то на днях с Фантапье возле кабинета художественной дирекции; тут же рядом во дворе расположен репетиционный зал.Вдруг видим: старичок какой-то вертится, оглядывается по сторонам; благообразные длинные волосы, ермолка на голове и бесподобно выдающийся нос. Стоит, щурит глазки за стеклами очков в золотой оправе, клинышек бородки распушился веником, сам старичок от испуга весь сжался, разглядывая большие афиши, наклеенные на стену, – желтые, голубые, красные, сверкающие на солнце всеми цветами радуги. Афиши фильмов,которые принесли наибольшую славу «Космографу».
– Господин сенатор! – вдруг как закричит Фантапье. Он даже подпрыгнул от неожиданности, кинулся к старичку, вытянулся перед ним в стойке «смирно» и отдал честь. – Вы на кинопробу?
– Мда… мда… мне на десять назначено, – прошамкал благородный сенатор и еще сильнее прищурился, пытаясь рассмотреть, с кем имеет честь разговаривать.
– На десять? Кто назначил? Полак?
– Как вы сказали?..
– Полак. Режиссер Полак.
– Никакой не поляк, а итальянец… Его все называли «господин инженер»…
– А, Бертини! Он вам на десять назначил? Живите спокойно. Сейчас десять тридцать, к одиннадцати он подойдет.
Это был знаменитый профессор Земе, выдающийся астроном и королевский сенатор, член Академии Линчеи [14]14
Академия Линчеи основана в 1603 г., это самая древняя и знаменитая научная академия в мире.
[Закрыть], обладатель национальных и зарубежных наград, а также участник званых королевских обедов.
– Вы меня простите, господин сенатор, – приставал к нему шут Фантапье, – не могли бы вы отправить меня на Луну?
– Кто, я? На Луну?
– Ну, натурально! По-киношному, разумеется, в кинофильме! «Фантапье на Луне» – это же класс! Шик-блеск! Снимаем так: вы поручаете мне отправиться с научной экспедицией на Луну и даете в помощь восьмерых солдат. Подумайте, сенатор! Я вам такую закачу комедию!.. Что, нет? Не хотите, отказываетесь?
Сенатор Земе отмел предложение как явно недостойное: он сказал «Нет!», пренебрежительно махнув рукой. Сказано было без особого гнева, но зато как величаво! Ученый его масштаба не допускал мысли, что наука может пойти в услужение буффонаде. Вот себя он согласился запечатлеть в разных позах в стенах своей обсерватории: это другое дело. Более того, он высказал пожелание, чтобы на экране появилась «Книга почетных посетителей обсерватории»: зрители непременно должны увидеть росчерк пера Их Королевских Величеств – короля и королевы, Их Королевских Высочеств – наследного принца и княжон, Его Величества короля Испании и проч. королей, господ министров и послов; все это ради служения его науке, в том числе для того, чтобы дать народу представление о «Чудесах в небесах» (так называется фильм),о недосягаемых скоплениях светил, среди которых он, сенатор Земе, был самым маленьким, но имел счастье проводить рядом с ними жизнь, вращаясь в их орбитах.
– Да катись ты! – как добрый пьемонтец воскликнул Фантапье и, скорчив одну из своих знаменитых гримас, уволок меня с собой за рукав. Однако нам тотчас пришлось бежать обратно, так как со двора донесся истошный вопль. Актеры, актрисы, операторы, режиссеры, машинисты высыпали из репетиционного зала,из гримерных и теснились вокруг Симона Пау, сцепившегося с сенатором Земе.
– Да какое, к черту, нравственное воспитание народа! – бушевал, не на шутку разойдясь, Симон Пау. – Я вас умоляю! Лучше отправьте Фантапье на Луну! Пусть он у вас там со светилами в шары играет! Да вы никак возомнили, что звезды принадлежат вам одному? Немедленно верните! Тащите их сюда и предоставьте в распоряжение божественной человеческой глупости, которая имеет право безраздельно владеть ими и забавляться с ними, как ей угодно, даже играть в шары. Кстати, позвольте полюбопытствовать, вы-то сами что с ними делаете? И кто вы вообще такой? Дальше своего объекта вы ничего не видите! В вашем сознании сидит только он один, ваш объект! Следовательно, это религия. И ваш бог – это подзорная труба. Вы полагаете, это лишь рабочий инструмент? Как бы не так! Это ваш бог, и вы его обожаете, ему одному служите! Вы то же самое, что и Губбьо с его аппаратом! Такой же, как он, прислужник, не в обиду будет сказано… Ну, священник, первосвященник (так вас больше устраивает?) этого бога, вы клянетесь догматом его нерушимости. Где Губбьо? Да здравствует Губбьо! Стойте, не убегайте, сенатор! Я пришел сюда ранним утром, еще засветло, чтобы утешить одного несчастного человека. Мы договорились свидеться здесь, он уже должен быть где-то поблизости. Подобно мне, несчастный является постояльцем приюта… Нет лучшего способа утешить страдальца, чем показать ему, что он не один такой. Я позвал его в круг этих замечательных друзей, актеров. Он ведь тоже артист. Да вот он, вот он! Он здесь, среди нас!
И несообразно длинный, согнутый, как коромысло, угрюмый человек со скрипкой, которого год назад я встретил в ночлежке, вышел из толпы, сосредоточенно уставившись на свои кустистые, хмуро сведенные брови.
Перед ним расступились, настала тишина. Кто-то прыснул со смеху, и кто-то попытался поддержать насмешника… Но у подавляющего большинства перехватило дыхание от абсурдности происходящего и от чувства гадливости, которое вызывал вид этого человека, тупо продвигавшегося вперед с опущенной головой и глазами, рыскающими в дебрях бровей, точно он избегал видеть свой огромный, багровый, свисающий до подбородка нос и устыдиться его тяжести и неприкрытого позора. Он продвигался вперед, словно говоря: «Тихо! Расступись. Разве не видите, до чего жизнь может довести нос порядочного человека?»
Симон Пау представил его сенатору Земе, который от возмущения удрал. Всем стало смешно. Но Симон Пау с самым серьезным видом продолжал знакомить его с актерами и актрисами, подводил его к режиссерам, обрывками рассказывая всем и каждому историю своего приятеля и объясняя, почему после скандального столкновения с механическим пианино он дал зарок никогда не прикасаться к скрипке. Под конец, совсем разгорячившись, Симон Пау воскликнул:
– Но сегодня, господа, он будет играть! Будет! Сегодня падут колдовские чары! Он дал мне слово, что сыграет! Но не вам, господа! Вы будете держаться в стороне. Он пообещал, что сыграет тигрице! Да-да, тигрице! Его желание свято для нас! Уж наверное, неспроста он так решил! Пойдемте, все пойдемте… Будем держаться поодаль… Он приблизится к клетке и будет играть.
Поднялись крики, смех, раздались аплодисменты, и все, увлеченные происходящим и подгоняемые живейшим любопытством, двинулись за Симоном Пау, который вел под руку своего приятеля, вернее, тянул его за собой; актеры за его спиной давали Симону Пау указания, куда следовало идти, чтобы попасть в зверинец. Как только показались первые клетки, он скомандовал всем остановиться и замолкнуть, а человека со скрипкой подтолкнул вперед.
Отовсюду – со строек, со складов – на шум сбежались рабочие, машинисты, наладчики, всем хотелось хотя бы издалека, из-за спин, посмотреть на происходящее.
Тигрица метнулась назад, в глубину клетки; выгнула спину, насторожилась, оскалила клыки и выпустила когти – она была готова к нападению. Ужасающее зрелище. Человек со скрипкой посмотрел на нее растерянно, сжался еще больше и, как затравленный, обернулся, ища глазами Симона Пау.
– Играй! – крикнул ему тот. – Не бойся! Играй! Она поймет!
Тогда с каким-то невероятным усилием, словно избавляясь от зловещих колдовских чар, человек вскинул голову, встряхнул ею и швырнул в сторону бесформенную шляпу; пригладил рукой растрепанные волосы, потом вынул из старого, некогда зеленого футляра скрипку, отшвырнув футляр туда же, куда отправилась шляпа.
Пока он настраивал скрипку, кто-то из рабочих отпустил в его адрес сальное словцо, послышался смех, едкие комментарии; но едва раздались первые звуки, наступила мертвая тишина. Эти первые звуки были какие-то несмелые, дрожащие, они спотыкались, словно его до боли ранило прикосновение к инструменту, которого он давно не держал в руках. Но потом, преодолев нерешительность и пересиливая дрожь, превозмогая болезненные ощущения, он несколько раз взмахнул смычком, энергично провел им по струнам, и, словно заметавшись в силках, понеслись, забились мучительные, задыхающиеся звуки, рожденные из странного сочетания отрывистых, глухих и визжащих нот. Звуки неслись, накапливались, сматывались в тугой растущий комок, а какая-то одна строптивая нотка ни за что не хотела влезать в него, словно ей хотелось подольше продержаться на свободе, глотнуть воздуха, дабы не захлебнуться в море рыдающих звуков. Наконец она оторвалась от остальных, распрямилась и, отряхнувшись от смертельной муки, развилась в светлую, глубокую, непередаваемо нежную мелодию, в которой едва уловимой дрожью вибрировала бесконечная, неутихающая боль: мы были потрясены, а на лице Симона Пау заблестели слезы. Вскинув руки, он приказал толпе молчать, дабы ничто, ни один посторонний звук не потревожил тишину, в которой чудесный, нелепый оборванец слушал свою обретающую голос душу.
Продолжалось это недолго. Опустошенный, уронив бессильно руки, в которых вяло болтались смычок и скрипка, человек повернулся к нам. Его лицо, мокрое от слез, было неузнаваемым. Он прошептал:
– Ну вот…
Взорвались оглушительные аплодисменты. Его подняли и понесли на руках. Потом отвели в ближайший трактир, и там, несмотря на просьбы, уговоры, угрозы Симона Пау, он безобразно напился.
Полак локти кусал от досады, что не подумал сразу послать меня за кинокамерой, чтобы заснять на пленку сцену «сонаты к тигрице».
Как он все хорошо понимает, этот Коко Полак! Я не смог ответить ему должным образом, потому что вспоминал взгляд мадам Несторофф, которая в течение всей сцены не могла оторвать глаз от скрипача, глядя на него в какой-то экстатической оторопи.
ТЕТРАДЬ ЧЕТВЕРТАЯ
I
У меня не осталось сомнений: она знает о нашей дружбе с Джорджо Мирелли. Ей известно и то, что Альдо Нути вскоре появится здесь.
Сведения эти, бесспорно, доставил Карло Ферро.
Но возможно ли, чтобы никто не вспомнил о том, что было между ней и Джорджо? И разве не следовало немедленно прекратить всяческие сношения с Нути? Исподволь и с недюжинным рвением потакал всему этому Коко Полак – он дружен с Нути, и Нути сразу обратился к нему за помощью. Поговаривают, будто Полак провернул удачную сделку: уговорил перепродать на самых выгодных условиях десять акций «Космографа», принадлежавших молодому человеку по фамилии Флечча, одному из тех, кто подвизается на кинофабрике в качестве «актера-любителя». Это похоже на правду, ибо Флечча уже который день ходит по фабрике и жалуется всем, что ему надоел Рим и надо бы махнуть в Париж.
Подобные молодые люди, а таких тут большинство, околачиваются на кинофабрике ради связи – либо уже состоявшейся, либо намечающейся – с какой-нибудь молодой актрисой; многие из них исчезают, если дельце не выгорело либо дружба стала им в тягость… Дружба – это мягко сказано. К счастью, словам несвойственно краснеть.
Ну вот, например: молодая актриса, исполняющая роль divette,певички, или танцовщицы, в платье с глубоким декольте бежит по дощатым настилам, то и дело останавливаясь пощебетать с кем-нибудь; пышная грудь на виду у всех; за актрисой следует молодой человек, ее друг, с коробочкой пудры и пуховкой в руках. Время от времени он проводит пуховкой по ее рукам, затылку, шее; он счастлив и горд, что ему доверена эта работа. Сколько раз я был свидетелем того, как Джиджетто Флечча бегает с пудреницей за малышкой Згрелли! Около месяца тому назад он с ней порвал. Стажировка успешно завершена, он едет в Париж.
Так что неудивительно, что Нути, богач и актер-любитель, спешит занять освободившееся место. Возможно, не всем известна либо позабыта драма его отношений с Несторофф.
Как же все-таки я порой наивен! Кто может спустя год вообще помнить о чем-либо? Разве в безумном круговороте городской жизни есть время о чем-нибудь помнить, будь то человек, великое деяние или просто происшествие? Вы, Дуччелла и бабушка Роза, в своем деревенском одиночестве можете помнить! А тут, если даже кто-то и вспомнит, что вышла драма, – подумаешь, мало ли драм бывает на свете! Круговорот жизни ни на миг не оставляет человека в покое. И никому не представляется уместным вмешаться в эту историю, дабы пресечь последствия появления Альдо Нути на кинофабрике. Какие еще последствия? Стычка с Карло Ферро, что ли? Но этого типа, Ферро, здесь все недолюбливают, не столько из-за его заносчивости, сколько из-за связи с Несторофф. Если стычка произойдет, то для посторонних глаз это только услада; что же до тех, кто должен заботиться о порядке, они, видимо, надеются воспользоваться этим предлогом, чтобы уволить Карло Ферро, а заодно и Несторофф – хотя ей и покровительствует кавалер Боргалли, она для всех здесь обуза. Или, может, надеются, что мадам Несторофф сама покинет киностудию, дабы избежать встречи с Нути?
Сомнений нет, именно ради этой цели Полак сделал все возможное, чтобы Нути приехал. Никому ничего не говоря, он устроил все так, чтобы Нути, если Боргалли, вопреки ожиданиям, встанет на защиту Несторофф, обзавелся по неслыханной цене акциями Джиджетто Флеччи и правом замены последнего в качестве актера.
Кого в конечном счете волнует, с какими намерениями приезжает сюда Нути? Предсказывают разве что стычку с Карло Ферро, ведь Карло Ферро у всех на виду, вот он, здесь, рядом, к нему можно прикоснуться. Трудно представить, чтобы между Карло Ферро и Несторофф кто-то мог втиснуться.
– Ты?! – воскликнули бы все, заговори я с ними об этом.
Я? Да вы шутите. Человек, которого вы не видите, к которому не можете прикоснуться. Словом, призрак, как в сказке.
Едва двое попытаются сойтись друг с другом, как этот призрак встанет между ними. Так уже было после самоубийства Джорджо Мирелли. Призрак заставил их в ужасе разбежаться в разные стороны. Прекрасный кинематографический прием – с вашей точки зрения, но не с точки зрения Альдо Нути. Как может он сейчас надеяться вновь сойтись с этой женщиной? Трудно представить, чтобы он забыл про призрак. Однако он, наверное, узнал, что у Несторофф появился другой мужчина. И это придает ему смелости вновь попытаться завоевать ее. Вероятно, он думает, что этот мужчина мощью своего тела заслонит от него призрак, увлекая его в ощутимуюборьбу, один на один. Может быть, Нути даже сделает вид, будто ввязывается в эту борьбу ради призрака, ибо Варя Несторофф, приблизив к себе другого мужчину, дала ясно понять, что забыла о «бедном покойнике».
Неправда, она не забыла. Об этом говорит ее взгляд. После того как Карло Ферро доложил ей, что я был другом Джорджо Мирелли, она смотрит на меня с презрением, с очевидной враждебностью, словно хочет унизить. Эту неприязнь я читаю в глазах Несторофф. И рад этому, ведь теперь я уверен, что все то, что я воображал и придумывал, наблюдая за ней, соответствует истине. Точно она сама в порыве откровения выплеснула на меня свои тайные чувства, настежь распахнула передо мной свою больную, растоптанную душу.
Два последних дня в моем присутствии она всячески демонстрирует свою привязанность к Карло Ферро: жмется к нему, виснет у него на шее и при этом дает понять окружающим, что она, как и все вокруг, прекрасно видит тупость, грубость манер и всю животную сущность этого человека. Она это понимает. Другие, воспитанные интеллигенты, презирают и избегают его, верно? Что ж, их дело, а вот она ценит его и привязана к нему именно в силу этих свойств, он не такой, как они, хлюпкий интеллигент.
Лучшего доказательства и не сыщешь. Но, кроме надменного презрения, что-то должно же трепетать в ее душе! Безусловно, она над чем-то раздумывает. В этом нет сомнений. Карло Ферро – ее прибежище, колючий, горький терновник, к которому, скрепя сердце и превозмогая себя, она льнет, дабы залечить незаживающую рану. Сейчас она еще сильнее прижимается к нему: с появлением Нути нависла угроза возвращения ее старой беды. Вовсе не потому, полагаю, что Альдо Нути имеет над ней большую власть. Тогда она с ходу подобрала его, как тряпицу, разорвала на части и вышвырнула. Но сейчас его появление означает одно: оторвать ее от Карло Ферро и воздвигнуть перед ней призрак Джорджо Мирелли. В этом, вероятно, она и усматривает свою беду. Вот оно, лихорадочное беспокойство ее странной души, подумать о которой не удосужился ни один из мужчин, с которыми она сходилась.
От этой беды она хочет избавиться любой ценой. Она знает, что в объятиях Карло Ферро можно невзначай и задохнуться. Но ее это устраивает.
Какая тебе радость оттого, что Нути не приедет, хочется мне крикнуть ей, не напомнит о твоей беде, коль скоро беда эта жива в тебе, придавлена, но не побеждена? Загляни в себя, в свою душу, не хочешь? Ты мчишься, как безумная! Чтобы убежать от себя, укрываешься в объятиях мужчины, у которого – ты это знаешь прекрасно – нет души, он может сжать тебя до смерти, но, случись что сегодня или завтра, больная душа вновь окунет тебя в прежние муки! Ах, лучше смерть, чем опять эти муки?! Муки, в которых утонет душа, страдая не весть почему и зачем?
Сегодня утром, когда я вертел ручку, у меня внезапно возникло подозрение, что она (она в это время, как безумная, трепыхалась в силках своей роли) готова покончить с собой. Вот именно, покончить с собой у меня на глазах. Не знаю, как мне удалось сохранить самообладание и оставаться бесстрастным. Я сказал себе: «Ты – рука, поэтому снимай! Она на тебя смотрит, смотрит пристально, смотрит только на тебя, словно хочет что-то сказать. Но ты ничего не знаешь, ничего не обязан понимать, верти лучше ручку!»
Начались съемки фильма отигрице. Фильмдлинный, и в нем задействованы все четыре труппы. Нагромождение безвкусных, глупейших сцен. Несторофф не будет в нем участвовать, ей не удалось добиться главной роли. Сегодня утром по специальному распоряжению Бертини она снялась в пробной сцене, где показан местный колорит, – ей поручили крохотную, второстепенную, но отнюдь не простую роль молодой индуски, дикой и фанатичной, которая закалывает себя в финале танца с кинжалами.
Отметив на земляной площадке границы кадра, Бертини расставил полукругом человек двадцать массовки, одетых и загримированных под индийцев. В центр вышла Несторофф, почти нагая, в одной набедренной повязке в желтую, зеленую, красную и голубую полоску. Но обворожительная нагота ее хрупкого и вместе с тем налитого тела была прикрыта презрительным безразличием, с которым она появилась перед всеми этими мужчинами, с высоко поднятой головой и опущенными руками, в которых она сжимала два наточенных кинжала.
Бертини коротко пояснил, что надо делать:
– Она танцует, это что-то вроде ритуала. Все благоговейно, с религиозным трепетом следят за ней. Внезапно, по моей команде, она в разгаре танца пронзает себе грудь кинжалами и падает замертво. Все сбегаются, наклоняются над ней, выражают ужас и удивление. Только, смотрите, следите за границами кадра. Вам там все ясно? Сперва все серьезно смотрим на нее, потом, как только она упадет, все к ней подбегаем. Но главное – границы кадра, не выходить за границы кадра.
Варя Несторофф стояла перед толпой, зажав в руках кинжалы, и вдруг устремила на меня столь пристальный взгляд, что у меня, стоявшего позади черного механического паука, который притаился в засаде на трехногом штативе, потемнело в глазах. К счастью, я расслышал команду Бертини:
– Мотор!
И, как заводной, принялся вертеть ручку.
Мучительно извиваясь в каком-то странном, пугающем танце с двумя коварно поблескивающими кинжалами, она ни на миг не отрывала от меня взгляда, смотрела мне прямо в глаза, и я следил за ее движениями, как околдованный. Я видел, как на ее высоко вздымающейся груди струйки пота прочерчивали полоски в слое желтого грима, которым было покрыто все ее тело. Ничуть не заботясь о своей наготе, она двигалась словно в забытьи и, не отводя от меня взгляда, сдавленным голосом повторяла:
– Bien comme ça? bien comme ça? [15]15
Так хорошо? так правильно? так годится? (фр.)
[Закрыть]
Будто ждала от меня ответа. Глаза – безумные. Наверное, в моем взгляде, помимо удивления, она прочитала панический страх: что будет, когда раздастся команда Бертини? Когда же команда последовала, она, приставив к груди оба кинжала, рухнула на землю; я на мгновенье подумал – она заколола себя, и готов был ринуться к ней в числе других, бросив крутить ручку камеры и позабыв обо всем на свете, в то время как Бертини орал массовке:
– Чего уставились? Бросайтесь к ней! Дайте же мне второй план! Вот так, годится! Всё, стоп, снято!
Я был выжат, как лимон; рука, вдруг налившись свинцом, механически вертела ручку.
Я видел, как раздраженный Карло Ферро в развевающемся фиолетовом плаще с гневом и нежностью подбегает к ней, помогает подняться и, укутав полою плаща, почти на руках уносит в артистическую.
Я заглянул в машинку и услышал, как голос, выходящий из моей гортани, докладывает Бертини:
– Двадцать два метра.








