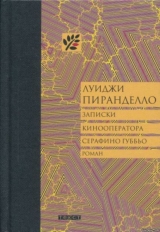
Текст книги "Записки кинооператора Серафино Губбьо"
Автор книги: Луиджи Пиранделло
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 13 (всего у книги 15 страниц)
III
Женщина, мгновенно прочитавшая на моем лице презрение, точно так же сразу поняла, что на душе у меня было скверно и мной владело отвращение ко всем и ко всему.
Презрение пришлось ей по душе, возможно, потому, что она собиралась воспользоваться им ради своих целей, и она уцепилась за него, приняла его с поистине трогательным умилением. Упадок духа и отвращение тоже оказались кстати: быть может, она ощущала их даже с большей силой, чем я. Ей не понравилась моя внезапная холодность, в которую я облачился, словно в мундир обычной профессиональной бесстрастности. Похоже, это задело ее. Холодно посмотрев на меня, она сказала:
– Надеялась увидеть вас вдвоем с синьориной Луизеттой.
– Я показал ей вашу записку, – ответил я, – когда она уже собиралась на «Космограф». Я просил ее поехать вместе со мной.
– Не пожелала?
– Не сочла нужным. Возможно, в качестве хозяйки дома, где я теперь живу…
– А-а… – сказала она, тряхнув головой. Потом заметила: – Кстати, я ее как раз потому и приглашала, что она сдает комнаты.
– Я ей намекнул, – сказал я.
– И она сочла, что ехать ни к чему?
Я развел руками.
Она некоторое время молчала, размышляя; потом со вздохом сказала:
– Я ошиблась. В тот день – помните? – когда мы вместе ездили в Боско-Сакро, она показалась мне миленькой, ей было приятно находиться рядом со мной. Понимаю, ведь в то время она еще не сдавала комнаты. Но позвольте, разве вы сами у нее не снимаете?!
Улыбнулась, чтобы побольнее ранить меня этим заранее заготовленным вопросом.
И несмотря на то что я дал себе слово держаться в стороне от всего и всех, мне, признаться, стало обидно; я ответил:
– Но вы догадываетесь, что из двух постояльцев одному можно отдавать предпочтение перед другим.
– А я-то думала, наоборот, – сказала она. – Вам это неприятно?
– Мне это безразлично.
– Неужели? Простите, я не вправе требовать от вас искренности. Хотя сама собиралась быть с вами сегодня искренней.
– А я приехал…
– …потому что синьорине Кавалене захотелось показать, кому из двух постояльцев она, как вы говорите, отдает предпочтение?
– Нет, сударыня, синьорина Кавалена сказала, что не хочет вмешиваться во все эти дела.
– И вы тоже.
– Я приехал.
– И я вас от всего сердца благодарю. Но вы приехали один! И это – возможно, я снова ошибаюсь – не внушает мне доверия. Не потому, заметьте, что я считаю, будто вы, подобно синьорине Кавалене, предпочитаете другого постояльца, как раз наоборот.
– Что вы имеете в виду?
– Что вам нет дела до другого постояльца. Более того, вам бы хотелось, чтобы с ним приключилась какая-нибудь неприятность, – в том числе потому, что синьорина Кавалена, не пожелав приехать, продемонстрировала свое предпочтение ему, а не вам. Понятно теперь?
– О нет, сударыня! Вы ошибаетесь, – решительно возразил я.
– Разве вас это не задевает?
– Нисколько. То есть… по правде говоря, задевает, но уже не меня. Я, честно говоря, чувствую себя посторонним.
– Вот видите! – воскликнула она, перебивая меня. – Этого-то я и боялась. Вы приехали один. Признайтесь, вы бы не чувствовали себя посторонним, будь сейчас с вами синьорина Луизетта…
– Но ведь я все равно приехал!
– Как посторонний!
– Нет, сударыня. Заметьте, я сделал даже больше, чем вам может показаться. Я долго разговаривал с этим несчастным и всячески пытался доказать ему, что претензии его лишены оснований после всего того, что случилось, – по крайней мере, если придерживаться его версии.
– Что он вам наговорил? – спросила Варя Несторофф, помрачнев и запинаясь.
– Много глупостей, сударыня, – ответил я. – Он бредит. Его следует опасаться, поверьте. К тому же он, по-моему, не способен ни на одно серьезное, по-настоящему глубокое чувство. Об этом говорит уже то, что он заявился с весьма определенными целями.
– Он хочет мести?
– Не совсем. Он и сам не знает, чего хочет! Легкие угрызения совести… от которых он не прочь избавиться. Он замечает лишь дразнящее его стрекало, ибо, повторюсь, не способен даже на искреннее раскаяние, которое помогло бы ему возродиться и прийти в себя. Он испытывает лишь легкое раздражение от мучающих его угрызений совести, чуточку злости или, скажем точнее, досады (злость ему не по плечу) – досады, смешанной с горечью, и он не хочет признаться в этом своем чувстве, ему кажется, будто его обвели вокруг пальца…
– Я?
– Нет. Он не хочет даже говорить об этом!
– Но вы думаете – я?
– Я думаю, сударыня, что вы его никогда всерьез не принимали и воспользовались им, чтобы расстаться с…
Я не пожелал произносить имя и только указал рукой на шесть полотен.
Варя Несторофф нахмурила брови, опустила голову. Я наблюдал за ней некоторое время и, решившись идти до конца, продолжил:
– Он говорит о предательстве. О предательстве Мирелли, который покончил с собой, потому что он собирался предоставить ему, Мирелли, доказательство того, что от вас можно легко добиться (прошу меня простить) того, чего Мирелли добиться не мог.
– Он так говорит? – вспыхнула Несторофф.
– Да, он так говорит, но клянется, что от вас ничего не добился. Он бредит. Хочет прильнуть к вам, потому что от такой жизни можно сойти с ума.
Несторофф посмотрела на меня в недоумении.
– Вы презираете его? – спросила она.
– Во всяком случае, ценю не слишком высоко. Его поведение способно вызвать во мне отвращение, но я могу и сжалиться над ним.
Она вскочила, словно ужаленная.
– Я гнушаюсь теми, кто способен на жалость.
Я ответил ей спокойно:
– Очень хорошо понимаю ваше чувство.
– И презираете меня?
– Нет, сударыня, напротив.
Она повернулась и посмотрела на меня; горько усмехнулась:
– Значит, восхищаетесь мной?
– В вас меня восхищает то, – ответил я, – что у других, вероятно, вызывает отвращение; то отвращение, которое вы сами стремитесь вызвать в людях, дабы избежать жалости.
Она еще пристальнее посмотрела на меня; подошла почти вплотную и спросила:
– Не хотите ли вы сказать, что жалеете меня?
– Нет, сударыня. Я восхищаюсь вами. Потому что вы умеете себя наказывать.
– Ах, вот как? Разве вы что-нибудь в этом понимаете? – сказала она, меняясь в лице; ее охватила дрожь.
– С некоторого времени понимаю, сударыня.
– Несмотря на то что все меня презирают?
– Наверное, как раз наоборот: из-за того, что все презирают.
– Я тоже поняла это некоторое время назад, – сказала она и крепко пожала мне руку. – Спасибо. Но я умею и наказывать, поверьте! – добавила она тут же с угрозой, высвобождая руку и погрозив указательным пальцем. – Я умею наказывать жестоко, ведь я и к себе никогда не испытывала и не хочу испытывать жалости.
Она принялась мерить шагами комнату, повторяя:
– Жестоко… жестоко…
Потом остановилась и сказала с недобрым блеском в глазах:
– Видите ли, вами, например, я не восхищаюсь, потому что вы умеете побеждать презрение жалостью.
– Тогда вы и собой не должны восхищаться, – сказал я с улыбкой. – Поразмыслите и скажите, для чего вы позвали меня сегодня утром?
– Думаете, из жалости к этому… несчастному, как вы выразились?
– Или к нему, или к кому-нибудь другому, или к самой себе.
– Ничуть не бывало! – выпалила она. – Нет! Нет! Не заблуждайтесь! Никакой жалости, ни к кому! Такой я хочу быть, такой и останусь. Я пригласила вас, чтобы вы дали ему понять: мне его не жаль и никогда не будет жаль!
– Но при этом вы же не хотите ему навредить?
– Именно что хочу, я желаю ему навредить, бросив его одного там, где он есть, и в том состоянии, в каком он находится.
– Но если в вас нет жалости, то вы могли бы причинить ему еще большее зло, приблизив его к себе. Разве не так? А вы, наоборот, стремитесь его оттолкнуть…
– Но я так хочу. Причинив ему еще большее зло, я бы сделала лучше себе, поскольку в этом случае я бы отомстила себе за его счет. Какой вред, по-вашему, может нанести мне такой, как он? Я не хочу, понимаете? Не потому, что мне его жаль, а потому, что мне по душе не жалеть себя. Мне дела нет до его проблем, и у меня нет цели расставлять ему сети. Хватит с него того, что есть. Пусть убирается, пусть катится восвояси и рыдает где-нибудь подальше отсюда. Я плакать не собираюсь.
– Боюсь, ему больше не захочется плакать, – сказал я.
– Чего же ему захочется?
– Ну, как сказать! Поскольку он ни на что не способен, как я уже говорил, в нынешнем своем состоянии он способен на все.
– Я его не боюсь, не боюсь! Понимаете? Я пригласила вас, чтобы сказать об этом, и вы должны это усвоить и донести до него. Я не боюсь, что он причинит мне какое-либо зло, пусть даже он убьет меня, пусть даже из-за него я окажусь в тюрьме. А такое вполне возможно, вам это известно! И я сознательно лезу на рожон, потому что знаю, с кем имею дело, и не боюсь. Мне казалось, я немного боюсь (но это было заблуждение), вот я и сделала все возможное, чтобы удалить отсюда человека, грозившегося отомстить мне и всем остальным. Но на самом деле я не боялась. И действовала хладнокровно, никакого страха! Любое зло, даже от этого человека, для меня пустяк. Еще одно преступление, тюрьма, даже смерть – все это пустяки по сравнению с тем, что я испытываю сейчас и с чем не желаю расставаться. Горе ему, если он попытается выжать из меня хоть каплю жалости к самой себе или к нему. У меня нет жалости! Если вам жаль его – а ведь у вас хватает жалости на всех, – сделайте так, чтобы он убрался отсюда. Вот чего я хочу от вас, именно потому, что ничего не боюсь!
Так она мне сказала, и ее отчаяние и беспокойство говорили о том, что она все-таки боится.
Я был озадачен и некоторое время сидел в растерянности, тоске и в то же время в восхищении; потом снова развел руками и, чтобы не давать пустых обещаний, рассказал о своем намерении съездить в Сорренто, на виллу.
Она сидела, напряженно слушала, возможно пытаясь пригасить боль воспоминаний о том доме и двух безутешных женщинах; закрыла глаза, покачала головой и сказала:
– Вы ничего не добьетесь!
– Кто знает, – вздохнул я. – Ну хоть попробую, что ли…
Она с силой сжала мою руку.
– Возможно, – сказала она, – я тоже смогу быть вам полезной.
Я посмотрел ей в глаза, больше со смущением, нежели с любопытством.
– Вы – мне? В чем?
Она пожала плечами. И с вымученной улыбкой заметила:
– Я говорю – возможно. В чем-нибудь. Увидите.
– Благодарю вас, – ответил я. – Но я, право, не представляю, чем вы мне можете быть полезны. Я всегда так мало хотел от жизни и еще меньше прошу у нее сейчас. Я у нее вообще ничего не прошу, сударыня.
Я распростился с ней и вышел, не понимая, что означало это ее странное обещание.
Что она задумала? Хладнокровно, как я и предполагал, она спровадила Карло Ферро, хотя знала, не опасаясь ни за себя, ни за него, ни за других, что он в любую минуту может свалиться как снег на голову и совершить преступление. И, предполагая все это, она еще думает, что может быть мне полезной? В чем?
Как меня угораздило попасть в этот клубок змей? Что, если она задумала впутать в него и меня? Ради чего? Обо мне она ничего не могла знать, разве что ей известно о моей давнишней дружбе с Джорджо Мирелл и и о смутном чувстве к Луизетте. Она не может навредить мне, используя эту дружбу к человеку, которого уже нет в живых, или чувство, которое во мне умирает. И все же, кто знает? Не могу успокоиться.
IV
Вилла.
Неужели она? Возможно ли это?
С виду ничего не изменилось. Только калитка другая: вместо той, со столбиками, с которых дедушка Карло сорвал мраморную табличку со своим именем, была новая, повыше.
Но разве могла эта новая калитка так изменить весь облик виллы?
Я видел – это та же самая вилла, и в то же время не узнавал ее. Тут все как раньше, отчего же она мне стала казаться другой?
Ах, как все это грустно! Воспоминания в своей попытке восстановить прошлое не находят точки опоры, и кажется, место уже не то, а совсем другое. Изменился я сам, это я стал другим. А мне-то думалось, что я приехал сюда с прежними чувствами и прежним сердцем!
Вот оно что. Зная, что места не живут иной жизнью помимо той, которую вливаем в них мы, и у них нет иного облика помимо того, которым мы их наделяем, я с растерянностью и бесконечным сожалением должен был признать: «Как я изменился!» Выходит, жизнь теперь такая. Другая.
Я позвонил. Еще раз. Но теперь уже не знал, то ли мне только кажется, что звонок звучит по-другому, то ли он действительно стал другим. Как же все это печально.
Показался старый садовник с лейкой в руке, в рубашке с засученными по локоть рукавами и шляпе без полей, наподобие той, что носят священники.
– Могу я видеть донну Розу Мирелли?
– Кого?
– Она умерла?
– Вы о ком?
– О донне Розе…
– А, может, и померла… Кто ж его знает?
– Значит, она здесь больше не живет?
– Не знаю, о какой донне Розе вы говорите. Тут такой нет. Тут живет господин Персико, дон Филиппо, кавалер.
– Он женат? На донне Дуччелле?
– Никак нет. Вдовый. Сейчас он в городе.
– Выходит, тут никого нет?
– Как нет? А я? Никола Тавузо, садовник.
Вдоль аллеи подстриженные кустарники в цветах: красные, желтые, белые, точно глазурованные, цветы безмолвствовали в чистом, тихом воздухе; после поливки на лепестках блестели капельки воды. Цветы распустились только вчера, но кустарники все те же. Я посмотрел на них, и мне стало не по себе. Цветы говорили, что занимается ими нынче Тавузо, что он их каждое утро старательно поливает и они ему благодарны: свежие, без аромата, смеющиеся всеми капельками воды.
На удачу, подошла старая крестьянка, грудастая, полная, с широкими бедрами, великанша с корзиной, полной овощей, на голове; один глаз у нее был закрыт из-за опухшего красного века, а другой – живой, ясный, небесно-голубой, подернут пеленою слез.
– Донна Роза? А, старая хозяйка! Они давно тут не живут… Жива, сударь, жива, бедняжка, а то как же! Старая уже… с внучкой, а то как же… донна Дуччелла, сударь… Добрые люди, Божий народ… Ушли из мирской жизни напрочь… Дом, вот видите, продали, и уже давно, дону Филиппу, проныре…
– Дону Персико, кавалеру.
– Да будет вам, дон Нику, все знают цену дону Филиппу! Вы, сударь, идите со мной, я отведу вас к донне Розе, это возле новой церкви.
Уходя, я бросил последний взгляд на виллу. Все исчезло: внезапно все исчезло; как будто с глаз моих вдруг спала пелена. Вот она, вилла, жалкая-прежалкая, старая, пустая… ничего от нее не осталось. Может, и от бабушки Розы, и от Дучеллы… тоже ничего не осталось? Может, они привиделись мне во сне? Тени, нежные мои, дорогие тени, и ничего больше…
По спине пробежал холодок. Кромешное, бесстыдное, ничем не прикрытое, непробиваемое тупоумие. Болтовня крестьянки: Добрые люди, Божий народ… Покинули мирскую жизнь напрочь…Мне уже мерещилась церковь: суровая, голая, ледяная, бездушная среди неулыбчивой зелени…
Я шел за крестьянкой. Не помню, о чем был тот длинный рассказ, который она вела всю дорогу про дона Филиппа, и правильно его прозвали пронырой,потому что… Этим «потому что», казалось, не будет конца: правительство в отставке, а он – нет; отец его… тоже Божий человек… но судя по тому, что говорили… И, уставший, с тяжелой головой, я отмечал по пути неприятные фрагменты реальности, грубой, бесстыдно голой, ледяной… заупрямившийся осел, обсиженный мухами, грязная улица, облупившаяся стена, зловоние, исходившее от толстухи-крестьянки… Было искушение повернуть к вокзалу и сесть на обратный поезд, раза два-три я порывался это сделать, но потом сказал себе: ладно, посмотрим, чем это все закончится.
Узкая, грязная, темная и пропитанная сыростью лестница. Снизу старуха кричала мне:
– Поднимайтесь, поднимайтесь! На третий этаж… Звонок не работает, сломан. Стучите громче, она глухая…
Но как будто глухим был я. «В таких условиях! – думал я, шагая по ступенькам вверх. – Как они тут оказались? Нищета, безденежье?.. Две одинокие женщины… И этот дон Филиппо…»
На площадке третьего этажа две рассохшиеся, низкие двери, недавно выкрашенные. Которая из двух – та или эта? Постучал в первую, громко, три раза. Попробовал позвонить во вторую, звонок не работал. Значит, сюда. И изо всех сил постучал три-четыре раза. Никого. Как так может быть? Дуччелла тоже оглохла? Или ее нет дома? Постучал еще сильнее. Собрался уже уходить, как вдруг слышу на лестнице тяжелые шаги: кто-то поднимался с большим трудом, едва переводя дыхание. Приземистая, коренастая женщина, одетая в коричневое платье, подпоясанное шнурком, – такое носят те, кто дал обет покаяния Богоматери кармелитов. Черная кружевная пелерина спадает на плечи, в руках – толстый молитвенник и ключ от квартиры.
Она остановилась на лестничной площадке и посмотрела на меня выцветшими, тусклыми глазами; лицо бледное, расплывшееся, под подбородком складки, над верхней губой и в уголках рта редкие волосики. Дуччелла.
Это было выше моих сил: прочь отсюда, бежать! Лучше бы уж на ее лице сохранилось то выражение вялой, тупой апатии, с каким она, запыхавшаяся, предстала передо мной на лестничной площадке! Так нет же, она пожелала устроить мне радостный прием, решила казаться милой и очаровательной – это она-то, теперешняя, с потухшим взглядом, который уже не был ее взглядом, с бледным, заплывшим монашеским лицом, грузным коренастым телом, голосом и улыбками, которых я не узнавал: в них сквозила натужная любезность, слащавость, фальшь, церемонность; ах, как же мило с моей стороны навестить их. И я непременно должен зайти повидаться с бабушкой, ей было бы приятно, такая честь, да, да…
– Проходите, прошу вас, проходите…
Вот бы избавиться от нее, я готов был дать ей пинка, пусть катится кубарем с лестницы! Сплошное мучение! Издевательство! Эта глухая, отупевшая, шамкавшая старуха с подбородком, загибавшимся к носу, и ее бледный язык, который вываливался из беззубого рта, и морщинистое лицо, бескровные губы, и эти большие очки, которые чудовищно увеличивали бесцветные глаза, перенесшие операцию при угрозе катаракты, и редкие брови, торчавшие словно усики насекомого!
– Вы добились высокого положения (с мягким «ж», по-неаполитански).
Больше сказать она ничего не могла.
Я бросился прочь, и мне даже в голову не пришло начать разговор, ради которого я приехал. Что говорить? Как вести себя? Зачем расспрашивать их о том, как они теперь жили? Действительно ли они впали в нищету, как можно было судить по одному только виду их дома? Они были всем довольны, глупы и блаженны, они обрели Бога. До чего чудовищна вера! Дуччелла, алый цветок… Бабушка Роза, сад, кусты жасмина…
В поезде мне казалось, что я еду навстречу безумию, в ночь. В каком мире я очутился? Мой попутчик, человек средних лет, темнокожий, с выпуклыми глазами, белки которых были точно покрыты эмалью, с напомаженными волосами – он принадлежал этому миру; спокойный, прочно и безмятежно обосновавшийся в своем скотстве, он знал все, что ему полагалось знать: куда он едет и зачем, где его дом и на какой станции он выйдет, знал, что его дожидается ужин. А я? Из какого мира я? Куда едет он, а куда – я?.. Его ночь и моя ночь… Я находился вне времени, вычеркнутый из этого мира, у меня не было ничего. Поезд целиком принадлежал ему, и он ехал в нем. Но как могло случиться, что в поезде ехал и я? Как так могло произойти, что я попал в его мир? Неужели та ночь была и моей тоже, коли я не знал, как мне ее прожить и зачем я в ней оказался? Ночь и время принадлежали ему, этому мужчине средних лет, который сейчас досадливо вертел шеей, окаймленной белоснежным воротничком. Нет ни времени, ни мира, ничего; я пребывал вне всего этого, вне жизни и себя самого. И не представлял ни где я, ни зачем я здесь. В моем сознании мелькали вещи и люди, но я не имел к ним никакого отношения; в голове толпились образы, картинки, фигуры, воспоминания о людях и вещах, которых никогда не было в действительности – в мире, который мой попутчик видел вокруг себя и к которым мог так легко прикоснуться. А я-то надеялся, что вижу их и прикасаюсь к ним тоже… Какое там! Вранье все это. Внутри себя я их не находил, да ведь их никогда там и не было: одни только тени, мечты, грезы… Но как они могли просочиться ко мне в сознание? откуда? зачем? Значит, я заглядывал в тот мир в облике «я», которого больше не было? Нет-нет, этот господин средних лет говорил мне, что я ошибаюсь и что другие люди существовали, каждый по-своему, каждый в своем мире и времени, но только не я. Меня не было. Хотя, если меня не было здесь, трудно сказать, где я был на самом деле и что я такое, оторванный от времени и от мира.
Я ничего больше не понимал. Не начал понимать и тогда, когда, приехав в Рим и к десяти вечера добравшись до дома, обнаружил в столовой веселых, словно за время моего отсутствия началась новая жизнь, Фабрицио Кавалену, который снова стал врачом и вернулся домой, Альдо Нути, Луизетту и синьору Нене.
Как? Почему? Что стряслось?
Я не мог побороть в себе ощущения, будто все они, такие веселые, помирились ради того, чтобы посмеяться надо мной и вот так отплатить за муку, которую я испытал ради них же; мало того, зная, в каком состоянии я должен был вернуться из своей поездки, они, дабы сразить меня окончательно, сговорились ткнуть меня носом в реальность, о которой я никогда не мог помыслить.
Больше прочих выказывала пренебрежение по отношению ко мне Луизетта, изображавшая влюбленную Дуччеллу, ту Дуччеллу – алый цветок, – о которой я ей столько рассказывал. Мне хотелось крикнуть ей, сказать, какой я застал эту Дуччеллу, пусть она, Бога ради, прекратит эту комедию, недостойный и гротескный фарс! И ему, молодому человеку, который по какому-то волшебству стал таким, каким был много лет назад, мне хотелось рассказать, в каком виде и где встретил я Дуччеллу и бабушку Розу.
Но все вы хороши! Те двое бедняжек нашли утешение в Боге, вы тут утешаетесь с дьяволом! Добряк Кавалена стал не только врачом, но и молодым супругом, сидит рядом со свежеиспеченной женою! Нет, благодарю покорно, мне нет места среди вас, сидите, не беспокойтесь, я не голоден. И ни в чем не нуждаюсь. Я хотел осчастливить вас тем, чего вам даром не надо, вы это знаете; хотел дать вам немного своего сердца, которое мне ни к чему, ведь мне нужно единственное – рука. Не за что, следовательно, меня благодарить! Извините за беспокойство. Я заблуждался и виноват в том, что некстати вмешался. Сидите, не тревожьтесь ни о чем. Спокойной ночи.








