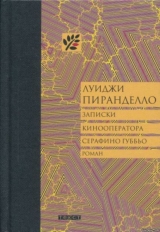
Текст книги "Записки кинооператора Серафино Губбьо"
Автор книги: Луиджи Пиранделло
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 9 (всего у книги 15 страниц)
Но быть может, замаскированное под жалость к жене и дочери чувство есть не что иное, как желание бежать от ненадежной, неустойчивой жизни, которая ему отныне не по вкусу? Кстати, разве у него нет права испытывать жалость к себе? Кто довел его до такого состояния? Может ли он в свои годы начать жизнь заново, оборвав все нити и лишившись средств к существованию, и тем самым доставить удовольствие жене? Нет уж, назад, назад в заточение, в тюрьму!
Он так расписал, бедолага, во всех подробностях, свои горести и страдания, которые вынужден терпеть, он так старательно демонстрирует свои несчастья – каждым шагом, взглядом, жестом, – а когда находится рядом с женой, то опасается, как бы в этом шаге, взгляде, жесте она не выискала повода для безобразной сцены. Так что, при всей испытываемой к нему жалости, не смеяться над ним невозможно.
Мужчина сорока пяти лет, доведенный до такого состояния женой, которая вдобавок беспощадно его ревнует, просто смешон! И это не единственная его беда, есть еще другая, пренеприятнейшая, безобразная: раннее облысение в результате тифозной инфекции, после которой он чудом выжил. Страдалец вынужден носить под шляпой парик. Дерзкий вид этой шляпы и выбивающихся из-под нее завитых локонов столь резко контрастируют с запуганным, хмурым и подозрительным выражением лица, что это, ей-богу, сводит на нет все его попытки выглядеть достойно и солидно и доставляет дочери бесконечные мучения.
– Нет, видите ли, уважаемый господин… как вы сказали?
– Губбьо.
– Губбьо, благодарю. Я – Кавалена, к вашим услугам.
– Кавалена, благодарю, я знаю.
– Фабрицио Кавалена. В Риме меня знают…
– …как шута!
Кавалена обернулся – лицо белее мела, рот разинут от изумления – и посмотрел на жену.
– Шут, шут, шут! – с пеной у рта повторила она.
– Нене, побойся Бога, соблюдай хотя бы… – угрожающе начал Кавалена, но внезапно осекся. Он зажмурился, сморщил лицо, сжал кулаки, как будто у него внезапно прихватило живот. – Нет, нет, все в порядке.
Это нечеловеческое усилие он совершает над собой каждый раз, сдерживается, возвращаясь к осознанию того, что он врач и поэтому должен обходиться с женой как с несчастным больным человеком.
– Вы позволите?
Он взял меня под руку и отвел в сторону.
– Это типично, типично, знаете ли?.. Бедняжка… От меня требуется столько мужества, чтобы все это вынести. Возможно, если бы не наша малышка, у меня бы его не хватило. Но довольно! Я говорил ей… этот Полак… этот Полак, благословен Господь… этот Полак! Помилуйте, разве можно, зная мое несчастье, позволять себе такие вольности? Увозить дочурку на съемки… с продажной женщиной… с актером, чья репутация… Представьте, что после этого творилось у меня дома! И вдобавок присылает эти подарки… ошейник для животинки и пятьсот лир!
Я попытался объяснить ему, по крайней мере, что Полак послал подарки и пятьсот лир без всякого злого умысла. Что? Да никакого злого умысла он, Кавалена, тут не видел, какой еще злой умысел? Напротив, он был очень доволен, просто счастлив, что все так сложилось; признателен Полаку, который разрешил его дочурке сняться в кино. Но чтобы успокоить жену, ему приходилось делать вид, будто он задет за живое, возмущен до глубины души. Я это заметил сразу. Мои уверения, что ничего, в сущности, плохого не произошло, приободрили его. Он схватил меня за руку и потащил к жене.
– Ты слыхала, слыхала?.. Ну и дела… этот господин говорит, что… Прошу вас, скажите, скажите. Я буду молчать. Я приехал вернуть подарки и пятьсот лир. Но если, как говорит этот господин, речь идет… Ну, просто ни за что оскорбить человека… грубостью ответить тому, кто даже не помышлял оскорбить и обидеть нас, поскольку считал… не знаю, не знаю… тут нет ничего такого… Прошу вас, ради Бога, скажите… скажите моей жене все то, что давеча вы так любезно объяснили мне!
Но госпожа Кавалена не дала мне и рта раскрыть, накинулась на меня, глаза – стеклянные, фосфоресцирующие, как у кошки.
– Не слушайте этого шута, лжеца, комедианта. Дочь тут ни при чем, да и оскорбление тоже. Просто он тут собирается околачиваться, тут он будет как петух в курятнике, среди женщин, без которых жить не может, артисток, как и он сам, кривляк и самовлюбленных дур. Он бесстыжий хитрец, прикрывается дочерью ценой ее репутации… да он погубить ее хочет, убивец! Вы же не понимаете, у него будет отличный предлог привозить сюда дочь! Он исключительно ради дочери…
– Ты тоже будешь приезжать! – в отчаянии воскликнул Фабрицио Кавалена. – Разве ты сейчас не со мной, не здесь?
– Я? – взревела жена. – Я? Сюда?..
– А что? – как ни в чем не бывало продолжал Кавалена и, обратившись ко мне, сказал: – Подтвердите, разве Земе здесь не бывает?
– Земе? – опешив, переспросила жена и нахмурила брови. – Кто такой Земе?
– Земе, сенатор! – воскликнул Кавалена. – Королевский сенатор, ученый с мировым именем!
– Значит, он еще больший паяц, чем ты!
– Земе, которого принимают в Квиринальском дворце? Приглашают на все званые королевские обеды? Почтеннейший сенатор Земе, слава Италии, директор обсерватории? Да постыдись ты! Уважай если не меня, то хоть гордость нации! Он ведь здесь был, правда? Ну скажите же, сударь, скажите, умоляю вас! Земе здесь был, он снимался в фильме«Небесные чудеса», ты поняла? Он, сенатор Земе! Следовательно, сюда приезжает Земе, и если Земе, ученый с мировым именем, разрешает снимать себя в фильме…значит, я тоже могу здесь бывать, могу сниматься. Но мне все равно. Больше я сюда ни ногой. Я только хочу доказать ей, что это не позорное место, куда я, якобы из грязных побуждений, хочу затащить дочь на ее погибель. Вы меня поймете, сударь, и простите, ведь я ради этого и говорю! Мне стыдно произносить такие речи перед дочерью, словно я желаю ее скомпрометировать, унизить, приведя в бесчестное место. Сделайте милость, проводите меня к Полаку, я должен вернуть эти подарки и деньги и поблагодарить его. Когда человеку выпадает несчастье иметь такую жену, ему остается только поставить на себе крест! Проводите меня к Полаку!
Но мне и здесь не повезло. Не постучавшись, я открыл дверь в «Художественную дирекцию», где сидит Полак, и увидел такое, отчего мгновенно переменилось мое настроение; я уже не мог думать о семействе Кавалена и вообще перестал понимать, что происходит.
Перед Полаком, согнувшись пополам, сидел человек и плакал, спрятав лицо в ладонях. Плакал навзрыд. Полак, заметив меня, резко поднял голову и взглядом приказал мне уйти. Я послушно закрыл дверь. Человек, рыдавший в кабинете Полака, был, без сомнения, Альдо Нути. Кавалена, его жена и дочь в недоумении смотрели на меня.
– Что происходит? – спросил Кавалена.
У меня не хватило духа сказать правду:
– У него… люди.
Спустя некоторое время Полак вышел из дирекции, он был раздосадован. Увидел Кавалену, попросил его подождать.
– Мне нужно поговорить с тобой. – И, даже не подумав поздороваться с дамами, взял меня за руку и отвел в сторону.
– Приехал. Его ни в коем случае нельзя оставлять одного. Я сказал ему про тебя, он помнит тебя прекрасно. Где ты живешь? Постой. Мне бы хотелось…
Он повернулся к синьору Кавалене:
– Ты ведь сдаешь две комнаты? Сейчас они свободны?
– Еще бы, – вздохнул Кавалена, – уже три месяца пустуют.
– Губбьо, – сказал мне Полак, – съезжай со своей квартиры. Заплати, сколько надо, за месяц, два или три. Сними комнату у Кавалены. Другую снимем для него.
– Вот так удача! – воскликнул Кавалена и пожал мне обе руки.
– Не мешкайте, – продолжал Полак, – ступайте, ступайте! Ты ступай готовь комнаты, а ты – за вещами, перевози к Кавалене. Потом возвращайся сюда. Решено!
Я покорно развел руками.
Полак вернулся к себе в кабинет, а я отправился с Каваленами – они опешили и с нетерпением ожидали от меня разъяснений касательно всей этой мистерии.
ТЕТРАДЬ ПЯТАЯ
I
Я вышел из комнаты Альдо Нути. Почти час ночи.
В доме, где я в первый раз ночую, все спят. Тут новый запах, пока мне неприятный; вещи, вкус жизни, расположение предметов – приметы чужих, неизвестных привычек.
В коридоре, закрыв за собой дверь комнаты Нути, я зажег спичку и увидел на противоположной стене свою гигантскую тень. Затерявшись в тишине этого дома, я вдруг почувствовал, что душа моя размером с грош. В сравнении с ней гигантская тень на стене казалась чудовищем.
В глубине коридора входная дверь; на ковровой дорожке пара туфелек – синьорины Луизетты. Я приостановился на минуту, чтобы взглянуть на свою громадную тень, которая вытянулась до самого порога, и мне показалось, будто это туфельки не выпускают мою тень из дома. За дверью, на крыльце, старушка Пиччини, навострившая уши уже, наверное, при первом поскрипывании половиц, дважды глухо тявкнула. Когда хлопнула дверь комнаты Альдо Нути, она не залаяла, но едва услышала, что я остановился на мгновение, и учуяла, что моя мысль устремилась к комнате ее хозяюшки, сразу зарычала.
Вот я в своей новой комнате. Она не должна была стать моей. Когда я прибыл сюда со скарбом, Кавалена был вне себя от счастья – подумать только, я поселюсь у них. Его радушие объяснялось не только дружеской симпатией ко мне; похоже, он надеялся, что я помогу ему пробиться на «Космограф». И он дал мне другую комнату, просторнее, удобнее, лучше обставленную.
Разумеется, поселить меня в эту комнату решил не он, и тем более не синьора Нене. Наверняка это дело рук Луизетты, которая так внимательно и взволнованно слушала утром мой рассказ о приключениях, выпавших на долю Нути. Скорее всего, насчет комнаты распорядилась она. Это подтверждала пара туфелек на коврике в коридоре.
Досадно. Если бы мне показали обе комнаты, я бы сразу уступил Нути большую, а ту, что поменьше, взял бы себе. Синьорина Луизетта обо всем догадалась и, не говоря ни слова, перенесла мои веши куда следует. Безусловно, не сделай она этого, я бы огорчился, видя, что Нути дали комнату поменьше и не такую уютную. Следует ли думать, что она избавила меня от огорчения? Вряд ли. Обидно, что она, не говоря ни слова, сделала то, что сделал бы я сам, хотя признаю: именно так все и должно было произойти в силу того, что я это признаю.
Ах, какое чудотворное действие оказывают на женщин слезы в глазах мужчины, особенно если это слезы любви! Но, по правде говоря, то же действие они оказали и на меня.
Он продержал меня у себя почти четыре часа. Ему хотелось говорить и лить слезы; я запретил ему лить слезы, мне просто стало жаль его глаз. Никогда не видел, чтобы от слез с глазами случалось такое.
Нет, я выразился неточно. Наверное, даже нескольких слезинок (а плакал он не переставая) хватило бы, чтобы довести его глаза до столь плачевногосостояния.
И все-таки странно: кажется, что, рыдая, он не плачет. Судя по тому, что он говорит, судя по планам, которые строит, не было ни оснований, ни особой надобности рыдать. Слезы жгут ему глаза и скулы, вот он, вероятно, и догадывается, что плачет. Но своих слез не чувствует, не осознает. Глаза его плачут от чужой боли, от боли, которую доставляет сам плач. Боль эта нестерпима, и он не хочет этих слез, он их презирает.
Но еще более странным мне показалось в нем следующее: когда, рассказывая о своих бедах, он до того разволновался, что расплакаться было бы совершенно естественным, слезы вдруг прекратились. Его трясло, как в лихорадке, голос дрожал, а глаза – красные и распухшие – вдруг, напротив, стали сухими и колючими, свирепыми. Стало быть, его речь и взгляд не находили общего языка.
И вот что интересно. Именно в его глазах, а отнюдь не в том, что он говорит, чувствуется искренность и сердечность, поэтому я нарочно позаботился о его слезах. Пусть молчит и плачет, плачет и чувствует свои слезы – это лучшее, на что он способен.
Слышу за стеной его шаги. Я посоветовал ему лечь и попробовать уснуть; он утверждает, что не в состоянии, что давно уже потерял сон. Отчего эта бессонница? Не из-за угрызений же совести. Судя по тому, что он говорит, угрызений нет и в помине.
Среди многочисленных проявлений человеческой природы одно из наиболее распространенных и вместе с тем странных, подлежащих изучению – ожесточенная, непримиримая борьба, которую человек, хоть и раздавленный чувством вины и скорбью, упрямо ведет против доводов разума, стремясь отвергнуть вину, дабы не испытывать угрызений совести. Пусть эту вину признают другие, пусть его покарают, посадят в тюрьму, назначат самое суровое наказание, пусть убьют его, нет разницы, лишь бы он сам, в душе, не признавал справедливости кары; правда, совесть-то продолжает его грызть.
Кто он? Ах, если бы каждый из нас хоть на мгновение избавился от собственной метафоры – метафоры самого себя, – которую мы вынуждены создавать своими бесчисленными притворствами, сознательными или нет, превратными истолкованиями собственных поступков и ощущений. Случись так, вмиг стало бы ясно: этот «он» – другой,совсем другой человек, у него нет ничего (либо есть крайне мало) общего с нами; и настоящий «он» – это тот, кто внутри нас раскаивается в содеянном, это наша сокровенная суть, зачастую приговоренная к пожизненному молчанию. Любой ценой мы стремимся сохранить, уберечь и не скомпрометировать метафору самих себя, нашу гордость и любовь. Из-за этой метафоры мы терпим муки, губим себя, а между тем до чего приятно признать себя побежденными, сдаться своему внутреннему «я», которое становится грозным и беспощадным, если идти ему наперекор, но стоит только признать свою вину, как оно тут же – сама снисходительность, и нам прощаются все прегрешения. Однако нам это кажется предательствомпо отношению к себе, слабостью, недостойной мужчины. И так будет до тех пор, пока мы не откажемся от мысли, что наша внутренняя суть заключена в придуманной нами метафоре самих себя.
В рассказе Альдо Нути о событиях, сломивших его, отчетливо просматривается попытка спасти эту метафору, а также его мужское тщеславие, которое, растоптанное и жалкое, тем не менее не хочет сдаваться. Нути не желает смириться и признать, что он был глупой игрушкой в руках женщины, маленьким паяцем и Варя Несторофф, решив поразвлечься, заставляла этого паяца распахивать в просительных объятиях ручки, нажимая пальцем ему на грудь, а потом зашвырнула искалеченную игрушку в угол. Но маленький паяц потихоньку оправился от увечий. Личико и фарфоровые ручки разбиты, просто ужас – ручки без пальчиков, личико без носа, все расколото, в трещинах; пружинка на груди прорвала красный шерстяной кафтанчик и выпрыгнула наружу, сломанная. И все же маленький паяц кричит: нет, неправда, эта женщина не заставляла его то раскидывать в стороны, то смыкать на груди руки, желая посмеяться над ним, а насмеявшись вдоволь, взяла да разбила. Неправда все это!
Сговорившись с Дуччеллой и бабушкой Розой, он вместе с влюбленной парой отправился из Сорренто в Неаполь, чтобы спасти бедного Джорджо, чересчур наивного и ослепленного очарованием этой женщины. Спасти его ничего не стоило! Достаточно было дать Варе Несторофф понять, что она – женщина, которую он хотел сделать своей, – выйдя замуж, вполне могла принадлежать ему, как, впрочем, и любому другому, для этого вовсе не обязательно становиться ее мужем. И вот, заключив с Джорджо пари, он обязался тотчас же предоставить ему доказательство своей правоты. Бедняга Джорджо считал, что такое невозможно, ведь Несторофф, из самого обыкновенного расчета (что вообще свойственно подобным женщинам), даже с ним держалась очень строго и казалась неприступной, а на Капри он видел, с каким презрением она смотрит на всех, как сторонится мужского общества. Предательство было ужасным. Но со стороны не Альдо Нути, а Джорджо Мирелли! Тот пообещал, что, получив доказательство, бросит эту женщину. Вместо этого покончил с собой.
Такой версии драмы придерживается Альдо Нути.
Но как же так получается? Игру-то ведь затеял он, маленький паяц. Отчего ж это он разбился вдребезги, коль игра была столь простой и легкой?
Долой вопросы, долой удивление. Тут надо делать вид, будто всему веришь. Альдо Нути не следует брать вину на себя, напротив, он должен вызывать жалость, лгать, сочинять небылицы про маленького паяца, который есть не что иное, как воплощение его собственного тщеславия: личико с отколотым носом, ручки без пальцев, пружинка на груди выпрыгнула и разорвала кафтанчик. Пусть себе врет! Тем более что ложь ему нужна, чтобы слезы лились обильнее.
Это не настоящие слезы, поскольку, даже плача, он не желает испытывать истинной боли. Он не хочет слез, презирает их. Он хочет большего, и за ним нужен глаз да глаз. Для чего, с какой целью он явился сюда? Ему некому мстить, коль скоро предателем оказался Джорджо Мирелли, покончив с собой и швырнув свой труп между сестрой и ее женихом. Так я ему и сказал.
– Я знаю, – ответил он. – И все же виной всему эта женщина. Если бы она не явилась, не взволновала юного Джорджо, если бы не поймала его на крючок, не соблазнила, не распалила уловками (которые, по правде говоря, только неопытному мужчине могут показаться коварными; они вовсе не коварны, и такой, как я или вы, сразу поймет, что на самом деле они – гадюки, которых можно обезвредить, выбив ядовитый зуб), я бы не оказался в таком дурацком положении! Она сразу распознала во мне врага, понимаете? И решила ужалить исподтишка. Я с самого начала дал ей понять, что ужалить меня ничего не стоит. Я хотел, чтобы она вонзила в меня свои зубы, и это обезвредило бы ее навсегда. И мне удалось! Но Джорджо, Джорджо, Джорджо был отравлен! Ему следовало предупредить меня, что напрасно и пытаться выбить у этой гадюки ядовитый зуб!
– Какая же она гадюка, помилуйте! – не удержался я и заметил: – Слишком наивная для гадюки, вы уж меня простите! Так быстро, так легко ужалить вас… Может быть, она хотела гибели Джорджо Мирелли?
– Возможно!
– Но для чего? Если ей уже удалось погубить Джорджо Мирелли, выйдя за него замуж? Не подыграла же она вам, не позволила же выбить ядовитый зуб до того, как добилась цели?
– Но она и не подозревала о моих намерениях!
– Да какая же после этого она гадюка, бросьте! Вы полагаете, гадюки существа не подозрительные? Гадюка укусила бы после, а не до того! Если она укусила до – значит, либо она не гадюка, либо хотела расстаться со своим ядом ради Джорджо. Нет, постойте, выслушайте меня… Я говорю вам все это потому, что… я согласен с вами, видите ли. Она хотела отомстить Джорджо, но еще до того, как появились вы, в самом начале. Я так думаю. Я так думал всегда.
– Отомстить? За что?
– За нанесенную обиду, которую женщина нелегко прощает.
– Да какая она женщина, эта…
– Бросьте, она женщина, господин Нути! Вы хорошо знаете женщин, знаете, что все они одинаковы, особенно в этом.
– Какая обида? Не понимаю.
– Послушайте, Джорджо был целиком поглощен своим искусством, да или нет?
– Да.
– На Капри он встретился с этой женщиной, и она стала для него объектом созерцания, идеальной моделью.
– Да, умышленно.
– Он не видел, не хотел видеть в ней ничего, кроме тела, которое мог ласкать кистями на холсте, в игре цвета и света. Вот тогда она, обиженная и рассерженная, решила отомстить ему и соблазнила его. Я с вами согласен! Соблазнив его, она, из желания сделать месть еще более жестокой, не отдавалась ему до тех пор, пока Джорджо, ради обладания ею, не предложил ей руку и не отвез в Сорренто, к бабушке и сестре. Не так ли?
– Нет, в Сорренто – это она потребовала, это было ее требование!
– Ладно, пусть так. Я мог бы сказать: обида за обиду. Но теперь не скажу, теперь я хочу придерживаться вашей версии, господин Нути! А сказанное вами заставляет меня думать, что она попросила Джорджо представить ее бабушке Розе и сестре, с тем чтобы найти предлог для разрыва с ним.
– Разрыва? Но зачем?
– Так ведь она уже достигла цели! Месть состоялась! Джорджо был побежден, ослеплен, захвачен ею, ее телом до такой степени, что собирался на ней жениться! Этого ей было довольно, большего не требовалось! Все остальное – свадьба, совместная жизнь, которая наверняка сразу же привела бы его в отчаяние и заставила раскаяться в содеянном, – все это принесло бы несчастье обоим, брак стал бы для них обузой… Вероятно, она думала не только о себе, ей и его было жалко.
– Вы так полагаете?
– Да вы ведь сами меня в этом убеждаете, сами заставляете так думать! Вы же считаете эту женщину коварной! Послушать вас, синьор Нути, так ее поведение оказывается нелогичным для коварной женщины! Представьте только: коварная женщина, которая потребовала свадьбы и с такой легкостью отдалась вам еще до замужества…
– Отдалась мне? – вскричал Нути и вскочил, загнанный моей логикой в тупик. – Кто вам сказал, что она отдалась мне? Да она никогда не была моей, никогда… Вы думаете, я мог на это надеяться? Мне нужно было только доказательство, что с нее станется… доказательство для Джорджо!
Я на минуту опешил и смотрел на него разинув рот.
– И эта гадюка сразу предоставила доказательство? И вам ничего не стоило его заполучить? Стало быть, стало быть… простите…
Я считал, что победа наконец-то в моих руках и вырвать ее не удастся. Мне еще предстояло усвоить, что именно в тот момент, когда логика, сражаясь со страстью, полагает, будто победа непременно останется за ней, страсть внезапно вырывает у нее эту победу и пинком прогоняет ее со всем набором разумных доводов и выводов.
Какие тут еще могут быть доводы, если несчастный Нути, охмуренный этой женщиной и преследующий вполне очевидные цели, не смог обладать ею и в теле его засела злость после всех страданий, которые выпали ему на долю? Маленький, глупенький паяц из тщеславия счел вначале, что сможет легко обвести вокруг пальца такую женщину, как Варя Несторофф. Как теперь убедить его в том, что ему лучше уехать отсюда, и заставить его признать, что нет смысла затевать ссору с другим мужчиной и домогаться женщины, которая знать его не желает?
И тем не менее… тем не менее я попытался уговорить его уехать и спросил, чего он наконец хочет и на что надеется.
– Не знаю, не знаю, – крикнул он. – Она должна быть со мной, страдать вместе со мной. Я не могу без нее, не могу больше так жить, один. Я сделал все, что было в моих силах, чтобы сломить Дуччеллу, я заставил вмешаться наших общих друзей, но ясно, что все кончено. Они не верят моим мукам и отчаянию! Мне нужна опора, я не выживу в одиночку. Понимаете, я схожу с ума, схожу с ума! Знаю, эта женщина – ничтожество, но цену ей набавляет то, что я столько страдал из-за нее и продолжаю страдать. Это не любовь, это – ненависть, это кровь, пролившаяся из-за нее. И раз уж она пожелала утопить мою жизнь в этой крови, то мы оба пойдем на дно, прильнув друг к другу. Терпеть одиночество я больше не могу!
Я вышел из его комнаты, лишив его возможности высказаться, излить душу. Вот сейчас я могу открыть окно и смотреть на звезды, а он там у себя мучается и льет слезы, охваченный злостью и отчаянием. Если б я вернулся к нему и с радостью воскликнул: «А знаете, господин Нути, на небе есть звезды. Вы точно об этом забыли, но звезды есть!» Что бы случилось?
Скольким мужчинам, затянутым в омут страсти, угнетенным, раздавленным нищетой или грустью было бы неплохо вспомнить, что выше потолка есть небо и на нем – звезды, даже если это и не приносит им религиозного утешения. Когда мы смотрим на звезды, исчезает, словно в бездне, растворяется в пустоте галактик наше немощное ничтожество и любая причина страданий начинает казаться смехотворной, пустой. В минуты тревоги и волнения следовало бы думать о звездах. Я – думаю, потому что с недавних пор смотрю на мир и на себя самого как будто издалека. Если бы я вошел к Нути и сказал, что на небе есть звезды, он попросил бы передать им пламенный привет и выгнал бы меня, как шелудивого пса.
Разве после всего этого я могу быть его стражем, как хотелось Полаку? Представляю, каким взглядом смерит меня Карло Ферро, встретив в компании Нути на «Космографе». Но, Бог свидетель, у меня нет оснований предпочитать одного другому.
Я предпочел бы, с привычной бесстрастностью, продолжать работу кинооператора. Я не стану смотреть на звезды через распахнутое окно. Увы, с тех пор как на «Космограф» заявился этот треклятый Земе, я и на небе уже вижу кинематографические чудеса.








