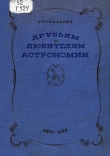Текст книги "Картины Парижа. Том II"
Автор книги: Луи-Себастьен Мерсье
Жанры:
Публицистика
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 25 (всего у книги 28 страниц)
Слово Двор теперь уже не производит на нас такого впечатления, как во времена Людовика XIV. Двор уже не поставляет нам господствующих мнений, не создает репутаций, какого бы рода они ни были; теперь уже не говорят со смешным пафосом: Двор высказался за то-то и то-то. Приговоры Двора оспариваются; теперь говорят, не стесняясь: Двор в этом ничего не понимает; у него нет на этот счет никаких мнений, да и быть не может, – это не его дело.
Двор и сам не осмеливается высказывать своего мнения ни по поводу новой книги, новой пьесы или нового шедевра, ни по поводу какого-нибудь из ряда вон выходящего события: он ждет приговора столицы, он даже старается поскорее его узнать, чтобы не попасть впросак, высказав мнение, которое будет кассировано обществом, да еще с уплатой судебных издержек.
Во времена Людовика XIV Двор был образованнее города, в настоящее время город образованнее Двора. Их мнения редко согласуются, и это не должно удивлять, так как полученное ими образование чересчур различно, чтобы не сказать – противоположно. Двор молчит по поводу многих вопросов из осторожности и даже из робости, до такой степени голос совести громче, чем желало его выставить угодничество. Город говорит с уверенностью решительно обо всем, Двор чувствует, что не должен рисковать высказывать свое мнение по поводу целого ряда вопросов из боязни получить суровую отповедь. Город, в котором сосредоточены все искусства и науки, – причем их смешение придает им еще бо́льшую мощь, – смело берется все решать, потому что сознает свою силу и уверен в своей правоте, уже неоднократно испытанной, тогда как Двор смутно чувствует, что ему недостает многих знаний, способных подтвердить его мнение.
Таким образом, Двор утратил свое прежнее влияние на изящные искусства, литературу и все, что в наши дни с ними связано. В прошлом веке ссылались на одобрение того или иного царедворца или принца, и никто не осмеливался противоречить. Тогда суждения о тех или иных вопросах не были еще ни достаточно обоснованы, ни достаточно быстры; приходилось руководствоваться мнением Двора. Философия (вот еще одно из ее преступлений!) расширила горизонт, и Версаль, являющийся лишь точкой на этом горизонте, занял подобающее ему место. Происшедшая перемена во взглядах и мыслях еще очень нова. Когда подумаешь о том, что прежде мнениями руководила власть и отдашь себе отчет, как эти мнения возникали, когда вспомнишь, что представлял собой Двор Людовика XIV с точки зрения идей и вспоминаешь царившие в нем предрассудки, когда подумаешь о том, что представляла собой набожность того времени, что проделывалось версальским проповедником, руководителем совести, духовником короля; когда вспомнишь, что обвиненный Люксембург{236} намеревался искать защиты у отца Ла-Шеза, – тогда с удивлением видишь, не смея еще этому верить, какая невероятная разница существует между прошлым веком и настоящим.
Теперь одобрение или неодобрение, воспринимаемое потом всем королевством, исходит от города.
Людовик XIV дрожал при звуке голоса Боссюэ, вселившего в его душу воображаемые страхи. В наши дни Боссюэ и его проповеднический вид, его тон, его угрозы были бы освистаны и он не внушил бы мистических страхов даже самому незначительному чиновнику. Именно город показал Двору действительную ценность того, что́ его некогда ужасало.
348. Крайности сходятсяВельможи и чернь очень близки друг к другу своими нравами. Первые не боятся предрассудков, так как уверены в своем влиянии и богатстве; вторая, которой нечего терять – ни чести, ни уважения, живет распущенно, ничем не стесняясь. Я нахожу даже, что в характере их ума тоже много общего. У селедочниц, если отбросить их стиль, найдется не мало очень удачных выражений, точно так же, как и у знатных особ: то же богатство языка, та же оригинальность оборотов, та же свобода выражений и образов. Здесь, безусловно, существует аналогия для того, кто умеет снимать внешние покровы: тут воняет рыбой, там пахнет мускусом.
Вельможи не щедрее нищих, но получите что-нибудь от вельможи, и он будет к вам привязан. А почему? Потому что, дав вам, он будет ждать от вас процентов. Точно так же поступает и бедняк: если он даст взаймы какому-нибудь несчастному, он уже не отстает от него и удваивает благодеяния, не желая потерять своего. Некто попросил у кардинала де-Флёри{237} одно экю. – «На что вам экю»? – «Дело в том, что, дав мне сейчас одно экю, вы потом дадите мне еще несколько», – ответил тот.
Если вы служите у какого-нибудь принца, постарайтесь, чтобы он для вас что-нибудь сделал, – этим вы составите себе состояние. Нищий поэт попадает к его высочеству; принц из тщеславия делает для него все возможное. Он его не любит и не уважает, но благодаря поэту слава принца возрастет, так как будут говорить: Он облагодетельствовал одного поэта! Всякий приближающийся к нему бывает щедро осыпан милостями, вполне соответствующими высокому положению принца.
Сила знатных, – говорила одна очень умная женщина, – только в представлении простых людей. И разве это не удивительное явление, по поводу которого умеющий размышлять мог бы написать целую книгу?
Вельможи, как и простолюдины, не верят в честность. Все они говорят: Честность взвешивается. Всего труднее им понять, что человек может быть нравственным и добродетельным.
У них всегда просят. Они редко дают за заслуги, чаще за лесть и интриги. Богатые и знатные должны беспрестанно помогать окружающим, – говорит г-жа де-Шуази девице де-Монпансье, – иначе они ни на что не нужны.
Вельможа считает свое мнение непогрешимым. Раз он сказал да, он из гордости никогда от этого не откажется, так как не хочет, чтобы могли подумать, что у него две различные точки зрения. Среди его слуг может оказаться десяток мошенников, что он и сам поймет впоследствии, но все же он будет продолжать им покровительствовать; свое упрямство он сочтет за благородную стойкость, непомерная гордость введет его в заблуждение, подобно тому как недостаток знаний постоянно вводит в заблуждение простолюдина.
Голодный кричит без стеснения, потому что голод поневоле заставляет его жаловаться. Иной вельможа из честолюбия громко ратует за общественную свободу и произносит громовые речи в храме правосудия, а за его стенами сам нарушает законы. Чего добивается первый? Куска хлеба. Чего добивается второй? Важной должности.
Вельможи не платят своих долгов так же, как не платит их и младшая братия. Первые вечно берут взаймы у неимущих, которым, после того как они долгое время служили пищей богачам, удается в конце-концов, объединившись, расстроить состояние надменного заемщика.
Я редко встречался с вельможами, но мельком я их все же видел. Я знаю, что гордость присуща всем; их же гордость основана обычно на влиянии и могуществе. Они прекрасно знают, что могут оскорблять безнаказанно, и охотно пользуются этим преимуществом. Они словно считают своим долгом презирать всех и вся; гений и добродетель их пугают и раздражают; они хотели бы смеяться над гением и добродетелью не из зависти, но из чувства ненависти, потому что они всегда ставят свое звание и состояние выше действительных достоинств, какими являются талант и добродетель. Титулы и богатство служат им щитом, с помощью которого они уклоняются от самых священных обязанностей. Их внешнее добродушие в большинстве случаев только ловушка или же разновидность еще более утонченной и обдуманной гордости. Их благодеяния носят такой оттенок, что не вызывают чувства благодарности. Их блестящие речи, их вежливое обращение могут ослепить только неопытного человека; вообще же не трудно составить о них правильное мнение и увидеть, что у большинства из них мелкие, тщеславные душонки и что ум их лишен благотворного света полезных знаний; они раздирают родину, а не служат ей; они умеют только строить козни, чтобы делать зло, хитрить при Дворе и обманывать младшую братию, ослепляя ее обещаниями[39]39
Некто сочинил нижеследующие стихи:
Я давно уже стою на последнем месте,Но этим не обижен, не сержусь, не смущен.Я не воспользовался ни малейшей милостью,Зато не получал и позорного отказа. Прим. автора.
[Закрыть].
Беда тому, кто им поверит: он зря потеряет свои лучшие годы. Нужно изредка посещать великих мира сего, – говорил Ла-Брюйер: – не ради их самих, но ради тех умных и достойных уважения людей, которых можно у них встретить.
Будьте уверены, вельможи будут всегда тщеславиться своим богатством, будут стараться его раздувать, никогда не будут довольствоваться тем, что имеют, и всегда будут унижать тех, кто живет более полезным и почтенным трудом, чем они. Однажды какой-то министр с презрением отозвался о тех, кто, как он сказал, пишет ради денег. На его несчастье, он сказал это в присутствии Жан-Жака Руссо. «А вы, ваше превосходительство, для чего пишете?» – скромно спросил его философ.
Низшие и высшие слои общества соприкасаются. По этому поводу, друг читатель, я расскажу вам сейчас маленькую басню. Я позабыл имя ее автора.
349. Светские мудрецыСтупеньки
Где больше двух в одной объединились рамке,
Там дело не пройдет без ссор.
Ступеньки лестницы-стремянки
Затеяли однажды спор
О рангах и происхождении
Ступенька верхняя на первенство права
Отстаивала, и слова
Лились у ней рекою в подтвержденье:
«Как вам далеко до меня, друзья!
Притом же всякому из вас своя
Дана судьба и положенье,
А этим самым упразднен
И безрассудный равенства закон».
В ответ ей: «Все ведь мы из дерева, однако,
И только случай нас поставил всех».
«Допустим! Но уж раз поставлен всякий,
То преимущества освящены навек!
Святит нам время то, что случаи создали;
Чтоб ниспровергнуть этот строй,
Уж вы немножко опоздали;
Теперь молчанию язык учите свой!»
Мудрец, с досадою услышав этот вздор,
Подходит к лестнице, не чающей сюрприза,
И, верх перепрокинув книзу,
Тем самым прекращает спор[40]40
Перевод А. А. Соколовой.
[Закрыть].
Светские мудрецы не только двуличны, но и двуязычны. Один знатный вельможа, и к тому же честный человек, сказал однажды своему сыну: «Вы очень неосторожны». – «Что же я такое сделал?» – спросил тот. «Вспомните, как вы вчера злословили…» – «Но, сударь, я сказал то же самое, что говорил вам на прошлой неделе; мне казалось, что вы были того же мнения». – «Верно, – ответил отец, – но тогда мы были наедине; к тому же тот, о ком вы говорили, тогда еще был не у дел».
350. Апология литераторовЯростная клевета особенно нападает на литераторов. Их изображают нарушителями спокойствия государств, потому что они проявили себя врагами злоупотреблений и покровителями общественной свободы. Какими только полезными идеями мы им ни обязаны! Из какой бездны заблуждений и жалких предрассудков ни вывели они правителей народов! Чему другому учат они, как не любви к человечеству и правам человека и гражданина? Есть ли хоть один важный общественный вопрос, который бы они не исследовали, не обсудили, не выяснили? Если деспотизм смягчился, если монархи стали бояться народного голоса и научились уважать этот верховный суд, то единственно только перу литераторов мы обязаны этой новой, доселе неизвестной уздой. Может ли теперь министр или король похвастаться тем, что его беззаконный поступок прошел безнаказанным? И самая слава королей не ждет ли санкции философа? Он безвестен и бессилен, но он заставляет громко звучать голос всемирного разума. В жизни литераторы представляют собой небольшую группу граждан, рассеянных по разным местам и то скорбящих о несчастьях родины и человечества, то – что особенно часто – облекающих себя в добродетель, если и не вполне бесплодную, то, во всяком случае, такую, плоды которой так медлительны и неощутимы, что ум порой начинает в них сомневаться.
В то время как на них нападает людская злоба и невежественность, они презирают эти стрелы, которым все равно суждено сломаться, ибо ничто не может противостоять мировой известности. Благодаря превосходству разума литераторы предвидят похвалы, которые получат от восприимчивых людей настоящего и будущего поколения, и награду за свои труды усматривают в укреплении всего того, что способствует общественному благу.
А потому следует всячески чтить этих людей; они расширяют наши знания и созидают как нравственный кодекс народов, так и гражданские добродетели частных лиц. Поэма, драма, роман – любое литературное произведение, живо изображающее добродетель, воспитывает читателя, незаметно для него самого, по образцу тех добродетельных личностей, которые действуют в книге. Они увлекают читателя и тем самым учат нравственности, не говоря о ней. Писатель не углубляется в рассуждения, часто сухие и утомительные. Путем искусно скрытой работы он представляет читателю различные душевные качества, облеченные в образы, которые способствуют их восприятию. Он заставляет нас любить великодушные поступки, и человек, противящийся рассуждениям и догматическим наставлениям, наслаждается простодушной и искренней кистью, которая пользуется восприимчивостью человеческого сердца, чтобы внушить ему то, что обычно отвергается ожесточенным себялюбием. Автор заставляет себя слушать, доставляя наслаждение; и предписания самой суровой морали оказываются воспринятыми, а цель писателя при этом не обнаруживается: Pectora mollescunt[41]41
Сердца смягчаются (лат.).
[Закрыть].
Монтень говорит, что хорошо родиться и жить в развращенный век, потому что, по сравнению с другими, можно легко сойти за добродетельного человека. В данном случае Монтень неправ: в такое время не верят в чужую добродетель и не радуются своей собственной; самым бескорыстным поступкам приписывают низкие и подлые побуждения; человека лишают чести и не чувствуют к нему никакой благодарности за его самопожертвование. При всеобщей испорченности все выглядят одинаково; из толпы выделяются только ловкие люди да несчастные.
351. Литературные ссорыКогда хотят унизить литераторов, говорят о их ссорах, носящих резкий и нередко скандальный характер. Правда, в пылу споров они выказывают себя плохо понимающими свои собственные интересы и оттачивают друг против друга оружие, которое должны были бы повернуть против врагов.
Пора бы им об этом подумать. Их враги стали бы тогда бессильны, а литература без этих печальных междоусобиц приобрела бы внушительность, которая покорила бы ее противников. Было бы гораздо достойнее, если бы литераторы оставались равнодушными к мелочным нападкам, вместо того чтобы проявлять чрезмерную чувствительность, выражающуюся в ребяческих воплях. Самые маленькие писатели, будучи неизменно самыми гордыми, обычно поднимают много шума из-за малейшего укола, причиненного их самолюбию. Что же касается знаменитых литераторов, то они или позволяют себе раз и навсегда отомстить своим оскорбителям с тем, чтобы больше к этому уже не возвращаться, или, что гораздо мудрее, – презирают нанесенное им оскорбление. Оно само рушится, как только начинаешь его презирать, – говорит Тацит.
В конце-концов, литераторов можно упрекать только в том, в чем упрекают и все остальные сословия – адвокатов, докторов, художников и др. Часто по какому-нибудь самому ничтожному поводу люди, слывущие за наиболее мудрых, затевают ярые ссоры и наносят друг другу оскорбления, которые нередко заканчиваются кровопролитием; когда же литературные противники желают уничтожить путем злобных насмешек плоды наших трудов и бессонных ночей, от нас требуют исключительной сдержанности! Хотят, чтобы мы вели борьбу хладнокровно, вежливо, умеренно, в то время как задевают наши самые чувствительные струны! Да! Стоит прислушаться к какому-нибудь спору, возникшему во время разговора о чем-нибудь самом незначительном, – какое столкновение мнений! Сколько пыла вносят обе спорящие стороны! Какое соревнование иронии и сарказма! Когда же начинают презрительно отзываться о наших произведениях, когда нас упрекают в том, что мы плохо поняли прочитанное, плохо размышляли, плохо написали, от нас требуют хладнокровия, которое все так часто теряют по самому ничтожному поводу! Не значит ли это требовать слишком многого от тех, кого считают одаренными большей чувствительностью сравнительно с остальными людьми?
Но, осуждая споры литераторов, публика лицемерит; в сущности, она ничего против их споров не имеет, так как ее забавляет зрелище такой нелепой борьбы. Публика, в общем, лукава, беспечна и очень жадна до всякого рода сатир, – все это качества, как раз подходящие для того, чтобы выслушивать колкости, посылаемые друг другу враждующими сторонами. Не награждает ли она пальмой первенства наиболее заядлого спорщика, того, кто с наибольшим искусством и горячностью пускает наиболее острые, и язвительные стрелы? Разве не говорят: Лагарп ловко поддел Клемана и Клеман ловко поддел Лагарпа? Не доставляет разве публике удовольствия видеть удары, наносимые и возвращаемые литераторами друг другу? Не обсуждает ли она вопросы о сравнительной силе нанесенных противниками ударов? Не считает ли она их почти равными по мощи и достойными быть увенчанными одним и тем же лавром и достойными продолжать издание журнала, чтобы устраивать подобные представления на потеху зрителям?

Игроки. С гравюры Романе по рисунку Вилля (Гос. музей изобраз. искусств в Москве).
В разговорах бранят писателей, желая придать себе этим полный достоинства и приличия тон, но это не мешает бежать за сатирическим листком, лежащим в передней, и торопливо искать в нем желанную эпиграмму. Если же она недостаточно резка, если, забыв свою обычную желчь, журналист на этот раз сдал, то, пожимая плечами, говорят: В этом номере нет ничего пикантного. Когда ненасытная злоба читателя, громко проповедующего согласие и миролюбие, не находит удовлетворения, он с презрением бросает листок, говоря: Если так будет продолжаться, я прекращу подписку.
Сказать ли правду о большинстве читателей? Пословица говорит: Не будь укрывателей, не было бы и воров. Если бы большинство не было склонно покровительствовать всему, что унижает известных писателей, то они не вели бы между собой войны. Таким образом, публика ответственна за те крайности, которые писатели позволяют себе, так как она подкупает толпу журналистов и поощряет их рвать друг друга на части. За последние несколько лет журналисты особенно охотно идут навстречу этим оскорбительным ожиданиям публики. Никогда еще презрение к благопристойности не заходило так далеко; а что касается критики, то она сделалась такой резкой, такой педантичной, что утратила влияние, на которое рассчитывала.
Эти мелкие и бесцельные ссоры, порождаемые завистью и партийным духом мелких писателей, желающих кичиться друг перед другом своими преимуществами, столь же смешны, как и постыдны, так как в большинстве случаев дело идет о рифмах, полустишьях, о неудачном слове и т. п. Чем пустяшнее причины, тем ожесточеннее нападки. Незначительность предмета спора выставляет обе стороны в самом смешном свете, ибо и те и другие так горячатся, точно все кругом рушится.
Ей-ей, и судей, и истцов, – всех нужно бы связать!
Но бесполезно было бы увещевать по этому поводу поэтов: они приходят в неистовство, превращаются в каких-то одержимых, споря об изяществе того или иного стиха, о превосходстве той или иной трагедии Расина, о вкусе, – слово, которое они постоянно употребляют и о смысле которого обычно не имеют никакого понятия. Я присутствовал при совершенно невероятных прениях по этому поводу, и если бы я передал во всех подробностях диалог выступавших, здравомыслящие люди обвинили бы меня в намеренном искажении действительности. Свои статьи спорщики пишут непосредственно после таких безобразных схваток, чем и объясняется, что в них так много слов и так мало мыслей.
Правда, публика, занятая другими событиями, видит литературные дела сквозь некий туман; она не обладает действительным знанием того, о чем идет речь. А потому она мирится со всякой грубостью, и так как лень лишает ее возможности вынести точный и обоснованный приговор, то ей нужен кто-нибудь, кто подсказал бы ей то или другое решение (хотя бы и неправильное) и время от времени побуждал бы ее выносить произведению смертный приговор. Ибо что может быть грустнее, как выслушивать похвалу своим современникам?! В Париже, если и хвалят что-либо, то только под влиянием общего увлечения или под влиянием партийных выгод. А – как говорил Гельвеций – все, что не божественно, становится отвратительным. В иных кружках приходится быть одновременно и строгим хулителем и восторженным энтузиастом и быстро переходить от одной из этих крайностей в другую, чтобы слыть за человека, умеющего правильно судить о людях и о книгах.
Считают, что такому громадному городу, как Париж, необходимо получать ежедневно известную порцию легких сатир для поддержания постоянного волнения и беспокойства, и совершенно был прав тот, кто сказал, что хорошая брань всегда лучше принимается и запоминается, чем любое хорошее рассуждение. Вот в нескольких словах вся теория журналистики.
Когда появляется какая-нибудь хорошая книга, – здравомыслящие люди, прежде чем высказать о ней свое мнение, читают ее и думают о ней; глупцы же сразу начинают кричать, кричат долго и марают кучи бумаги. Вспомните, как было встречено появление Духа законов, Эмиля и тому подобных книг.
Счастливы литераторы, не ведающие этой прискорбной войны! Ее можно избежать, заботливо наблюдая за своим самолюбием, так как борьбе обычно дает начало чересчур гордящийся своими знаниями ум, желающий заставить всех думать по-своему. Противоречат же для того, чтобы унизить ближнего, чтобы удовлетворить затаенную досаду, а вовсе не для того, чтобы чему-нибудь научиться. Колкость спешит сорваться с пера, часто даже помимо нашей воли, а стоит позволить себе нанести кому-нибудь несколько ударов, как уже становишься врагом этого человека. Нападающий прощает всегда менее охотно, чем пострадавший.