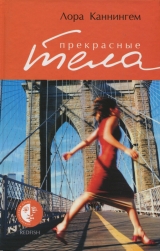
Текст книги "Прекрасные тела"
Автор книги: Лора Каннингем
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 22 страниц)
– Ничем мужика не остановишь, – со смехом подытожила Грета, – если он хоть раз сходил налево.
И вот теперь Боб, любимый ею на протяжении пятнадцати лет муж, вступил в братство неверных. Что ж, Сью Кэрол не пойдет по стопам своей матери – ни прощения, ни печенья, ни злобных ток-шоу. Она – другая, даже если Боб такой, как все.
Она умная, талантливая, симпатичная, в чем нет никаких сомнений. Ей стоит только свистнуть, чтобы привлечь любого понравившегося мужчину; в сущности, они сами к ней липли, а она только их отталкивала. Сью Кэрол стройная, но с большим бюстом. В Кентукки о таких говорили: «фигуристая» или «с такой фигурой не пропадешь». К тому же Сью Кэрол поет. Если в своем актерском даровании она время от времени сомневалась, то голос не давал повода для сомнений. Она поет ничуть не хуже Долли и почти так же душевно, как Лоретта. [18]18
Долли Партон и Лоретта Линн – известные фолк-певицы.
[Закрыть]У нее настоящее колоратурное сопрано, и голос поможет ей выбраться из беды, как дюжину раз случалось в юности. Сопрано Сью Кэрол помогло ей удрать из «дома в колониальном стиле» и вообще из Кентукки. Во многом благодаря своим вокальным данным она вышла замуж за красивого, убийственно красивого актера, происходившего из семьи со «старыми деньгами». Правда, его вдовствующая мамаша (Сью Кэрол называла ее Женщиной-пауком) не давала сыну ни цента из этих денег, но все же они существовали неким фоном, внушали какую-то зыбкую надежду.
Сью Кэрол ненавидела мать Боба, эту самку скорпиона, той особой ненавистью, которую женщина может испытывать к своей свекрови из-за того, что та загубила мальчика, который вырос, чтобы стать ее супругом.
Женщина-паук то сюсюкала («Ну же, малыш, поцелуй, поцелуй свою мамочку!»), то огрызалась («Оставь меня в покое, не видишь, у меня мигрень?»). Вот поэтому Боб совершенно запутался и, уже став взрослым, по привычке исповедовал такую же любовь-ненависть, занимаясь сексом все с новыми и новыми женщинами, видимо, чтобы разобраться в этой путанице. Может быть, он искал свою Женщину-паука – такую, чтобы не сбрасывала его со своих коленей? Но особенно ужасно мать Боба вела себя, когда дело касалось денег. Она унаследовала миллионы, но всегда держала при себе только маленькую блестящую сумочку из паучьей… то есть змеиной… кожи (размером с пачку бумажных салфеток), словно иллюстрируя свою любимую фразу: «У меня просто нет к ним доступа, милый. Ты уж лучше попробуй заработать сам». Ее дочь Дафна, сестра Боба, находилась в психиатрической клинике. Время от времени ее выпускали, и она сразу же отправлялась в «Блумингдейлс» или «Бергдорфс» и совершала – по кредитной карточке – покупки на сотни тысяч долларов. Все вещи мать аккуратно возвращала в магазин, как возвращала и Дафну – в больницу «Силвер-Хилл», где ей назначали какое-нибудь новое лечение. «Деньги свели всю семейку с ума, – думала Сью Кэрол, – и все-таки это лучше, чем не иметь вообще ни гроша».
Сью Кэрол всегда предполагала, что на счету у Женщины-паука куча денег, а значит, когда-нибудь Бобу и его сестре тоже кое-что перепадет. Происходить из семьи с деньгами совсем не то же самое, что из семьи без денег: Боб казался более уверенным в себе, как будто у него есть невидимая подушка безопасности на случай, если он попадет в аварию.
Деньги.
Что ж, теперь им с Бобом предстоит развод, и перед Сью Кэрол встает вопрос: стоит ли ей претендовать на часть его денег или нет? В течение пятнадцати лет она была ему хорошей женой, так почему бы и нет? А что с квартирой? Может быть, спустя какое-то время заявить свои права на «11 H» («H», как в «hell», [19]19
Ад (англ.).
[Закрыть]так она всегда объясняла разносчикам из тайского ресторана, когда заказывала лапшу)? Разве измена Боба дает ему право единолично владеть двухкомнатной квартирой с фиксированной квартплатой и видом (пусть и отдаленным) на Центральный парк, а также на кусочек реки? А встроенные шкафы, а кухня, отделанная мореной сосной (Сью Кэрол лично этим занималась)? А как насчет ее медных горшков, бразильской пальмы, дивана, покрытого старым лоскутным одеялом из Бутчер-Холлоу? Разве Сью Кэрол, как пострадавшая сторона, не может рассчитывать на компенсацию? Может быть, даже на алименты?
Сью Кэрол выпрямилась, ухватившись за шест, и попыталась оглядеться «видящим» глазом. Нет, черт подери, она не возьмет ни цента. Он подонок, а деньги подонка ей не нужны. Она покажет ему, покажет, что может преуспеть сама по себе. И пусть оставляет себе квартиру: он ее осквернил, так пусть она будет его холостяцким логовом. Да, Сью Кэрол тридцать шесть, но выглядит она на двадцать шесть, значит, и на мир надо смотреть глазами двадцатишестилетней. Еще не слишком поздно: она все еще может стать той, кем призвана стать… причем сама по себе.
Сью Кэрол посмотрела вниз, на сумки, заключавшие в себе все, что было ей дорого, всю ее историю. Она почувствовала себя своим самым любимым персонажем во всей мировой драматургии – Бланш Дюбуа. [20]20
Героиня пьесы Теннесси Уильямса «Трамвай „Желание“».
[Закрыть]
«Я всегда зависела от доброты первого встречного». [21]21
В пьесе Бланш Дюбуа произносит эту фразу перед тем, как ее увозят в психиатрическую лечебницу.
[Закрыть]
Разве какой-то мужчина не помог ей перенести сумки через турникет? Разве не найдется в Нью-Йорке человек, который поможет ей найти другую работу, другую квартиру с низкой арендной платой? Да, если она будет упорно добиваться своего и сохранит веру в свои силы, то все у нее получится.
«Что ж, здорово», – подумала Сью Кэрол, а поезд тем временем с грохотом прибыл на «Четырнадцатую улицу».
Вагон дернулся, и на Сью Кэрол навалился какой-то толстяк.
– Простите, мисс, – сказал он с ударением на слове «мисс».
Сью Кэрол порадовалась, что сняла обручальное кольцо (оно было витое, и переплетения золотых нитей ассоциировались со змеями). Мисс.Видимо, она уже выглядит одинокой. А может, просто молодой. Все говорят, что она выглядит моложе своих лет. На прошлой неделе ей даже предложили сыграть пятнадцатилетнюю, а две недели назад мужчина в очереди в банк сказал: «Эта девушказдесь стояла».
Девушка.Хотя в свои тридцать шесть Сью Кэрол гордилась званием женщины и не имела ничего против, если ее считали за таковую, она все же залилась румянцем и приняла это обращение «девушка» как неожиданный комплимент. Девушка.Это значило, что у Сью Кэрол больше шансов, что можно не сокрушаться о потерянных годах, а нужно взять и выкинуть их из памяти «Просто забудь о последнем десятилетии, – скомандовала она себе. – Ты начинаешь новую жизнь».
Сью Кэрол унеслась в заоблачные выси, иначе как объяснить, что, хотя она собиралась выйти на «Четырнадцатой улице», двери поезда открылись и закрылись прежде, чем рассеянная пассажирка успела подхватить свои пожитки. Она отвлеклась на толстяка, на собственные мысли, на свое «одноглазое» видение.
Дьявол,она пропустила свою остановку. Или просто остановку? Где, черт подери, эта Бутан-стрит? На какую ветку, на какой поезд ей нужно сесть, на какой станции выйти? Сью Кэрол глубоко вздохнула, собираясь спросить об этом толстяка. Кто-то ведь должен знать, как туда добраться. А она должна попасть к Джесси, без сомнений, хоть и с опозданием, но она все-таки туда приедет.
«Я уже скоро, – послала она мысленный сигнал подругам. – Не волнуйтесь обо мне, девочки, я уже скоро. Еду, чтобы поддержать Клер. Помочь вам, чем могу». А если она скажет хоть слово о том, чтонатворил Боб и чтоона наконец узнала об этом чужом человеке, пятнадцать лет делившем с ней постель, она убьет себя. Нет уж, сегодняшний вечер посвящается Клер, иначе и быть не может. Поэтому она не станет говорить о Бобе, ни словечка не проронит. Произошедшее сегодня слишком оскорбительно и ужасно, чтобы об этом упоминать.
«Вещественное доказательство», которое она везла с собой, собираясь хранить его вечно, на тот случай, если вдруг забудет о чудовищном поведении Боба, ни в коем случае нельзя предъявлять подругам. Потому что это накроет вечеринку мрачной завесой, испортит всем настроение. Сью Кэрол только надеялась, что подруги не обратят особого внимания на ее заплаканные глаза (она проревела весь день, а один глаз, возможно, еще и повредила). Но если кто-то из подруг похлопает ее по плечу или скажет хоть одно доброе слово, она не выдержит. Она еще может снести доброту «первого встречного», но только не подруг. Она приняла бы это слишком близко к сердцу, потеряла бы контроль над собой, рассказала бы им всю гнусную историю от начала до конца и даже предъявила бы им проклятое доказательство, спрятанное в полиэтиленовый пакет. Сью Кэрол не хотела плакать, не хотела распадаться на части на глазах у подруг. Это ее жизнь: она должна играть свою роль, полностью контролируя свои действия и реакции. Она молила Бога, чтобы ей удалось обмануть их бдительность, чтобы никто не заметил красных глаз, севшего голоса и, как она догадывалась, несколько искусственной манеры держаться. «Вспомни, чему тебя учили», – приказала себе Сью Кэрол и вымученно улыбнулась.
Поезд прибыл на конечную станцию. Машинист сделал какое-то объявление, но расслышать его не было никакой возможности из-за металлического скрежета тормозов и общего шума. Только выйдя на платформу, Сью Кэрол поняла, что он объявил название конечной станции: «Бруклинский мост». Значит, она приехала к Бруклинскому мосту. О господи, неужели она когда-нибудь вообще найдет дорогу в Нохо, на Бутан-стрит, где уж они там находятся?
Сью Кэрол бесстрашно подхватила свое барахло и поспешила вверх по ступенькам. Она собиралась вернуться назад. «Я уже скоро, – послала она мысленный сигнал подругам. – Девочки, я уже скоро…»
Ровно сорок три минуты спустя она стояла перед домом Джесси. Ей пришлось довольно долго плутать по улицам, но ничего страшного не случилось. Увы, ей не встретился открытый магазин, где продавалось бы хоть что-нибудь, подходящее для малыша. Пришлось ей заглянуть в корейскую лавочку, последний островок света и торговли перед тундрой, ведущей к улице, где жила Джесси. Тут Сью Кэрол порядком поломала голову, высматривая (одним глазом!) хоть что-нибудь для Клер. Но ей не попалось ничего, ничего, хотя бы отдаленно напоминающего подарок на бэби-шауэр. Конечно, она могла бы купить цветы, но эта идея показалась ей неподходящей. В итоге под влиянием внезапного импульса она все-таки сделала покупку, не будучи уверенной, что это приличный подарок, – и ринулась преодолевать оставшиеся пять кварталов. Она не хотела опоздать еще больше… Кстати, не так уж она и опаздывала.
От бега на холодном воздухе Сью Кэрол почувствовала острую резь в легких. Она начала задыхаться, а потом ощутила и колотье в левом боку. Вдобавок она подвернула правую ногу – дал о себе знать привычный вывих. «Запоминай это, – сказала себе Сью Кэрол, в точности, как учил ее педагог по мастерству, – запоминай эти симптомы… Симптомы большого разочарования, потери, смущения и отчаяния… Но, твердо опираясь на свою левую ногу, я показываю решимость моей героини превозмочь трудности, добраться до места назначения… И, черт бы вас всех подрал, я доберусь. Тресну, но доберусь».
Глава третья
«ПОЕЗД „ЖЕЛАНИЕ“ ПРИБЫЛ НА КОНЕЧНУЮ СТАНЦИЮ „КЛАДБИЩЕ ВУДЛОН“»
В которой Нина Московиц, делает шоколадный торт, размышляет, безопасно ли оставлять маму этим вечерам, и с недоумением, вспоминает неприятного любовника.
Вот уже две недели Нина не ела твердой пищи. Если бы ее мама, Мира Московиц, все еще оставалась ее мамой, то наверняка что-нибудь сказала бы по этому поводу. В наше время девушки слишком худы, это нездорово. У Нины широкая кость, и на этой кости должно быть мясо. К чему морить себя голодом, пытаясь похудеть до восьмого размера, если кости у тебя – двенадцатого. Но Нина не могла с этим смириться, поскольку посвятила всю свою жизнь борьбе с природой, по чьей воле была тем, чем была, – пышкой.
Перед уходом на вечеринку в честь Клер Нина приготовила пузырьки с лекарствами и написала подробные инструкции (их она ежедневно обновляла на своем портативном компьютере). Инструкции предназначались сиделкам, которые должны были присмотреть за мамой, пока Нина веселится с подругами. Листки с инструкциями для сиделок лежали на столе рядом с брошюрой, оставленной сотрудницей хосписа: «Семь признаков приближения смерти».
Нина предпочитала не зацикливаться на том, что говорилось в брошюре: «Дорогой вам человек начинает „теребить“ простыни, отказывается от еды, видит призраки умерших родственников…» Стараясь об этом не думать, Нина стала готовить любимую мамину еду – кошерную солонину с вареной картошкой и яблочный струдель. А в духовке уже стоял ее знаменитый шоколадный торт без муки, ее кулинарное подношение Клер.
Нина занималась различными приготовлениями так, словно бы ее поход на вечеринку был уже делом решенным, но на самом деле в течение последнего часа она постоянно волновалась, правильно ли поступает, оставляя маму одну. Хотя Нина всячески старалась забыть о «семи признаках приближения смерти», она не могла избавиться от гнетущего чувства, что сегодня распознала один из них. Пребывая в нерешительности, Нина всегда предпочитала заняться каким-нибудь делом, лучше всего – кулинарным. Принятие решения она отложила до появления сиделок: они выскажут свое мнение, и тогда Нине будет легче определиться. А пока она испечет торт и постарается не думать ни о мамином состоянии, ни о своем последнем сексуальном приключении, случившемся в первой половине дня…
Занимаясь стряпней, Нина прихлебывала специальный диетический напиток, выданный ей в оздоровительном центре. Вот уже две недели она сидела на низкокалорийных молочных коктейлях, и, по правде сказать, они ей не нравились. Под пенистой сладостью скрывался неприятный привкус – как подозревала Нина, это и были хваленые аминокислоты, призванные «съесть» ее собственную лишнюю плоть. Но результаты были налицо: ее талия, столь долгое время не подававшая признаков наличия, снова появилась. Нине казалось, что даже ее щеки как-то сдулись по сравнению с их обычным состоянием, словно раньше она прятала за ними орехи на зиму.
Нина представляла собой тип красоты, который ее мама называла «еврейским»; она была красавицей или, по крайней мере, могла бы ею быть, если бы жила лет сто назад в Российской империи, где девушки с колышущимся бюстом, широкими бедрами и могучей кормой удостаивались похвалы, а не презрения. Глаза у Нины были черные, чуть раскосые (когда она смеялась, они почти пропадали), а тон кожи скорее азиатский, нежели европейский. Кожа у Нины была смуглая, будто круглый год покрытая загаром, и это внушало мысль о том, что у нее и кровь более темного – скажем, бордового, – оттенка.
«Черт бы побрал эту кровь», – мысленно выругалась Нина, шинкуя капусту, чтобы подать ее на гарнир к солонине. Внутренний термостат Нины был всегда раскален до предела. Начиная с тринадцатилетнего возраста, когда в этой самой квартире она впервые случайно вызвала у себя неожиданную серию спазмов (тогда она еще не догадывалась, что это называется оргазм), она знала, что наделена мощной сексуальностью. Может, ее сексуальность выходила за пределы нормы? Нине казалось, что она всегда или влюблена в какого-то мужчину, или просто к нему вожделеет, во всех подробностях представляя себе, как «познает» его в библейском смысле этого слова, и она никак не могла понять: – просто ли она страстная женщина или ее либидо не лишено патологии? И вот теперь она вернулась в эту квартиру, в этот мир, где вновь стала маминой дочкой. Судя по сегодняшним действиям Нины, она вернулась и к своей подростковой сексуальности, с этими неуверенными попытками самоконтроля. Но как могло такое случиться с ней, тридцативосьмилетней, вроде бы обладающей большим опытом?
Подсказки были разбросаны по всей квартире. Самый важный документ Нина нашла прямо в день своего возвращения сюда: дневник в розовой ледериновой обложке, который она все эти годы держала запертым в своем детском столе, теперь по большей части занятом маминой «галантереей». Да, он все еще лежал здесь, ее сексуальный дневник… Она вела его в старших классах. На самом деле розовая девичья тетрадь была, скорее, «антисексуальной», поскольку здесь фиксировалась нравственная борьба Нины с самой собой. Снова и снова встречи с соседскими мальчиками заканчивались ничем. Ведь как бы ни менялись нравы, всегда считалось, что особа женского пола может быстро потерять уважение, а Нина вовсе не хотела казаться «легкой добычей». В их доме жила девушка, Линда Муха, запечатленная в граффити на стене помещения для сжигания мусора: «Линда Муха… рифмуется со…» Нина читала это каждый раз, когда по просьбе мамы выбрасывала мусор. Там, среди бушующего пламени, среди вони горящего мусора, Нина накрепко запомнила одну вещь: не приведи Господь, чтобы ееимя было написано на этой стене.
Пять месяцев назад Нина совершила нечто невообразимое: снова поселилась вместе с мамой, а заодно продолжила, почти сразу, вести свой дневник. Она прожила вне «дома» (если только можно назвать «домом» квартиру на двадцать первом этаже здания «Объединенный проект», построенного под влиянием социалистических идей) почти двадцать лет. Конечно же, Нина сохранила свою квартиру на углу Семьдесят седьмой улицы и Риверсайд-драйв: и думать было нечего отказываться от хорошей квартиры на Манхэттене, куда она рассчитывала вернуться после смерти матери. Однако в настоящее время было куда проще жить в Бронксе, в доме «Объединенный проект».
Мире Московиц оставалось уже недолго, а о том, чтобы она жила одна, не могло быть и речи. Такое решение Нина приняла прошлым летом, в то утро, когда Мира хотела поджарить тосты и, сама того не замечая, подожгла кухонные занавески. Вместо того чтобы отреагировать на визг пожарной сигнализации (весьма настойчивый), старая женщина поплелась в спальню и закрыла за собой дверь. Соседи учуяли дым и позвонили интенданту, а тот, в свою очередь, сообщил о случившемся Нине.
То, что вначале казалось простой забывчивостью, вскоре обернулось полной деградацией. Однажды Миру Московиц в розовом пеньюаре и меховых тапочках обнаружили на оживленной улице, едва ли не посреди проезжей части. В ходе обследования Мире поставили диагноз: закупорка артерий и сердечная недостаточность. Также было упомянуто старческое слабоумие. Нине пришлось выбирать из трех вариантов: отправить маму в дом для престарелых, перевезти ее в свою квартиру или самой – на неопределенный срок – переехать в квартиру «21 L» в корпусе «А».
Вначале Нина попыталась переселить маму в свою квартиру на Семьдесят седьмой улице, но обеим женщинам эта попытка показалась неудачной. В глубине души Нина была рада, что мама предпочла вернуться в Бронкс. Вид больничной койки, почти целиком заполнившей гостиную, где Нина в разные периоды жизни предавалась любовным утехам на пушистом ковре, настолько угнетал ее, что она предпочла временно переехать в Бронкс. Маленькая, но аристократически убранная квартирка Нины предназначалась исключительно для романтических отношений: пальмы в кадках, шезлонг, пышные подушки у камина, толстые персидские ковры. А появившиеся здесь с приходом мамы больничная кровать, комод, ходунки, все эти атрибуты старости, немощи, наконец, смерти, пугали Нину, пугали гораздо больше, чем необходимость совершить это долгое путешествие на север, в Бронкс, в прошлое, туда, откуда Нина когда-то сбежала.
Бедная Мира. Доставленная санитарами в квартиру на Семьдесят седьмой улице, она, видимо, была сбита с толку нарядным интерьером. Казалось, она и сама чувствует, что ее вязаная шапочка с блестками и розовый пеньюар плохо сочетаются с гаремной обстановкой жилища дочери. Ее замутненный разум бесцельно блуждал, и она все время спрашивала Нину: «Что это за гостиница?» В какой-то момент Мира даже вообразила, что снова оказалась в Одессе. Она была очаровательна, что свойственно некоторым старикам, когда то и дело напевала пустячную песенку: «Одесса – это месса». По ночам Мира отправлялась блуждать по квартире, стуча ходунками и натыкаясь на стены. На вторую ночь она заплакала, как ребенок, и попросилась домой – в Россию, откуда ее увезли еще девочкой. Нина, конечно же, не могла отвезти ее прямо в Одессу, но отправить маму в «Объединенный проект» было вполне реально. Дочь хорошо представляла себе, чтонужно матери: привычная обстановка, которая будет благотворно на нее действовать. В такой ситуации «привычное» и «знакомое» оказывались единственными значимыми критериями, а «удобное» и «красивое» отступали на второй план. Маме была необходима ее собственная квартира с привычным освещением, залежи вышивок, накопившиеся за шестьдесят лет, урчание ее старого холодильника.
Нина собрала несколько чемоданов, взяла компьютер и на больничной машине повезла Миру в северный Бронкс – туда, где конечная станция ветки метро была конечной в буквальном смысле слова: она называлась «Кладбище Вудлон». Так Нина вернулась в «запретный город» из белого кирпича, в район «Объединенного проекта», где она провела детство. Здания «Объединенного проекта» строились для квалифицированных рабочих, состоявших в профсоюзе; дома эти были высоки и рассчитаны на средний класс. Они были такой же высоты, что и скала с видом на реку и на рычащую автотрассу внизу, и в то же время чем-то напоминали поселения индейцев. Комплекс состоял из четырех башен, на удивление естественно реагировавших на грохот скоростной магистрали: из-за напряженного движения стекла в окнах дрожали и покрывались бельмами сажи. Почти всем жителям (да и всем предметам) в этих домах было под восемьдесят. Как только Нина вошла в подъезд, ее сразу же захлестнули запахи горелого мусора, куриного бульона, вареной капусты и средства для мытья пола. Так вернулось Нинино детство, детство, на сей раз обремененное необходимостью заботиться о Мире, организовывать дежурство сиделок, а в последние недели еще и визиты сотрудников хосписа, социальных работников, двух медсестер и еще нескольких нянек. По мере того как возрастала ответственность Нины, ее внутреннее «я» как будто становилось более инфантильным: она жила в своей старой комнате, занимала свою некогда любимую кроватку с пологом. В возрасте десяти лет она мечтала об этой кроватке, умоляла купить ее, а теперь, когда ей исполнилось тридцать восемь, постель казалась ей нелепой, созданной для карлика. Когда Нина садилась за свой старый письменный стол, то коленями упиралась в выдвижной ящик. Она чувствовала себя гигантом, Алисой не в той Стране Чудес, нависающей над каждым предметом, слишком огромной, чтобы выйти через обычную дверь.
Миниатюрность комнаты и мебели, возможно, стала одним из мотивов, побудивших Нину сесть на диету, хотя, впрочем, Нина никогда особенно не нуждалась в мотивах. Она была «диетоголиком» – сидела на диете уже лет десять. Она испробовала все: диету из одних углеводов, безуглеводную диету, капустную диету, фруктовую диету, жидкую диету, злаковую диету, комбинированную диету. Поздней ночью она смотрела по телевизору рекламу фитнеса (для страдающих бессонницей) и заказывала травяные микстуры, чтобы еще больше снизить вес. В минуту почти маниакальной озабоченности своими габаритами Нина заказала «Суп для потери веса»: «Хотите посмотреть, как ваш жир хлынет в канализацию?»
Отметим, что, несмотря на эту одержимость диетами, Нина Московиц вовсе не была толстой. Она весила ровно сто сорок девять фунтов (без обуви), а рост ее был пять футов восемь дюймов (тоже без обуви). Однако нынешние стандарты заставляли ее ощущать себя низенькой и коренастой – почти такой же, как старушка миссис Беленкова, время от времени помогавшая смотреть за мамой.
Здесь, в Ривердейле, Нина чувствовала себя почти стройной, но чем дальше она ехала в южном направлении, тем короче и толще казалась в сравнении с тамошними жительницами. В своем собственном районе, в южном Вест-Сайде, Нина ощущала себя на грани дозволенного, но где-нибудь в Сохо ей казалось, что она годится только на то, чтобы толкать перед собой тележку с овощами. А уж когда она посещала «южных подруг» Джесси и Лисбет, то всегда обнаруживала, что идет вслед за какой-нибудь газелеподобной двадцатилетней девицей, демонстрирующей неестественно огромное расстояние между ляжками. Они что, не знают, что ляжки должны тереться друг о друга? И вообще, откуда берутся такие девицы? Они похожи на инопланетянок – длинные, худые, но с непомерно большими грудями (при этом все поголовно разгуливают без лифчиков). Эти груди устремлены вперед и словно вынюхивают самое интересное в ночной жизни города.
У Нины была большая грудь; в Бронксе такую грудь называли «бюст». Что и говорить, Нина обладала выдающимся бюстом, но лучше бы он так не выдавался. Едва начав созревать, ее груди стали причинять ей неудобства. Начать с того, что они появились слишком рано и развивались асимметрично. В начальной фазе развития правая грудь была крупнее левой. Потом груди выровнялись, приняли форму чашечек и стали привлекать больше внимания, чем Нине хотелось бы (надо сказать, все это происходило еще в начальной школе). Мальчишки преследовали ее, норовили ущипнуть за грудь и тут же смыться. Когда Нина шла, прижимая к груди свою папку с тетрадками, паршивцы отпускали реплики по адресу ее «титек», или «буферов». Но, видимо, этих страданий оказалось мало, и вскоре груди покорились силе притяжения и отвисли, сильно давя на лямки Нининого лифчика. За несколько лет на плечах у Нины образовались желобки – следы от лямок, оттянутых тяжелой ношей.
Одно время Нина подумывала, не сделать ли операцию по уменьшению груди, но потом оставила эту мысль. Каждый год ей встречалось определенное число «трудолюбивых» мужчин, которые были не прочь за ней приударить. Само собой, Нина не хотела терять этот контингент. Таким мужчинам нравилась большая грудь, вне зависимости от ее упругости. Они зарывались в изобилие этих подушек плоти, целовали их, лизали, ласкали, трогали. Нина могла с точностью утверждать, что груди играют важную роль в ее сексуальной жизни, а потому смирилась с их чрезмерным весом.
Нина мечтала о тугих бедрах и заглядывалась на рекламу: «Стройные бедра за тридцать шесть часов». Диета и упражнения всегда занимали ее мысли. Постепенно ее одержимость переросла в профессию: в конце 1990-х салон «Маникюр от Нины» (в Ривердейле) расширился и перерос свой изначальный статус. Маникюрный салон стал настоящим салоном красоты «Венера Милосская», где милашки северного Бронкса могли загорать и тренироваться, посещать сауну и пользоваться услугами массажисток. Бизнес шел отлично: Нина в буквальном смысле слова жила за счет подкожного жира (правда, чужого). Даже сейчас, в ее отсутствие, все мастера постоянно были заняты. Нина прекрасно вымуштровала свой штат: они легко справлялись без нее.
Но сама она по-прежнему хотела похудеть. Единственной техникой (или патологией?), которую она не принимала, была булимия. Как бы Нина ни сожалела о съеденном, ей и в голову не приходило спровоцировать рвотный рефлекс: уж если она что-то съела, то это принадлежит ей, и точка. Однако Нину интересовали рассказы об уменьшении желудка хирургическим путем до размеров кошелька для мелочи. Ей нравились рекламные плакаты, изображавшие, как похудевшие женщины влезают обеими ногами в одну свою старую брючину.
По мере того как уменьшался Нинин вес, ее ум как-то оскудевал, а кругозор сужался до «желтой прессы» и развлекательного телевидения. Книги в старой спаленке (в доме «Объединенный проект») были все тем же чтивом ее детства: Нэнси Дрю, «Энн из Грин-Гейблз», «Маленький домик в прерии». [22]22
Популярная литература для девочек. Серия о Нэнси Дрю, девочке-детективе, была создана Кэролин Кин, «Энн из Грин-Гейблз» принадлежит перу Люси Мод Монтгомери, а «Маленький домик в прерии» – одна из серии книг, написанных Лорой Инголлз Уайлдер.
[Закрыть]Каждую ночь Нина сворачивалась калачиком, подложив под бок старого плюшевого мишку, и читала очередную часть «Домика в прерии». Ее и тревожило, и радовало, что благодаря этим книгам она вновь обретает радости своего детства.
Мира, чье зрение ослабевало так же быстро, как и рассудок, казалось, была счастлива снова оказаться в квартире «21 L» (корпус «A»), Трудно поверить, что типовая планировка двухкомнатной квартиры (с ванной без окон и узкой кухней) могла внушать ностальгию. Но Мира жила здесь в течение двадцати лет, и этот дом был битком набит важными для нее предметами, кусочками России, бережно сохраненными в северном районе Бронкса. Здесь были и чехлы на старых креслах, и диван с вышитыми подушками, и лоскутные одеяла в стиле «воздушная кукуруза», которые Мира мастерила всю свою жизнь. Куда ни взгляни – всюду ручная работа: куколки, подушки, абажуры. Все было одето кружевом, на всем красовались вышивки и оборки, включая саму Миру Московиц.
Мира была маленькой женщиной с пышной грудью (очевидно, эта генетическая особенность передалась Нине от нее). Ее лицо следовало тоже отнести скорее к русскому типу: хотя глаза у нее были раскосые, но кожа более светлая, чем у дочери, а губы она складывала сердечком. В молодости Мира во многом походила на кукол, которых мастерила. Теперь едва заметный тик заставлял ее подергивать головой и поджимать губы, что придавало ей сходство с более современными куклами, работающими на батарейках. Все ее движения казались механическими, словно она была запрограммирована на несколько действий. Мира то и дело выдавала целые серии оставшихся в ее памяти ритуальных заклинаний перед сном или во время еды. Но если речь шла о новой информации, о новых впечатлениях, она все больше обращалась к своему опорному словцу: забыла. Забыто. Все забыто.
История с этим «забыла» начиналась вполне буднично. Мира забыла, куда положила очки, ключи, список покупок, лекарства. Потом она забыла свой адрес, а теперь даже собственное имя. Правда, она, кажется, помнила имя дочери (Нина воспринимала это как выражение безмерной благосклонности). Единственным, что Мира Московиц помнила до конца, была ее любовь к своему единственному чаду. Возможно, Мира во многом путалась, но каждое утро она приветствовала дочь бессвязным потоком слов, выражавших привязанность:
– Учинка, тучинка, мамала, омала… [23]23
Ничего не значащие слова с русско-идишским звучанием.
[Закрыть]
Тепло, заключавшееся в этих словах, с лихвой компенсировало отсутствие в них смысла.
Каждый день мать и дочь начинали с ритуальных приветствий. Утром Нина входила к матери с подносом, на котором был всегда один и тот же завтрак: яйцо-пашот, цельно-зерновой пшеничный тост с абрикосовым джемом, стакан апельсинового сока и кофе без кофеина.
– Мама-ле? – говорила Нина.
– Нина-ле, учинка, тучинка, – отвечала Мира.
Вечером Нина желала матери спокойной ночи:
– Спи, мамала…
– Нет, ты, Нина-ле. Учинка, – отвечала та.
Нина заранее боялась того молчания, что неминуемо придет на смену такому вот ласковому общению, когда Мира умрет (по прогнозам сотрудников хосписа, это должно было произойти менее чем через шесть недель). Надо сказать, Нина считала забыть в некотором роде милостью: ее мать забыла о тяжелой смерти своего мужа, Нининого отца Саула. Он умер несколько лет назад от рака костей. Мира забыла грустную историю жизни своих родителей, она забыла даже холокост. Она сохранила только радужные воспоминания, песенки, шуточные стишки и… аппетит. Если на свете и существовала счастливая смерть, то, судя по всему, именно такая кончина ожидала Миру Московиц. С утра до вечера солнце заливало квартиру «21 L», длиннохвостый попугай Рич-ч-чард весело щебетал, Мира Московиц пела свои песенки и встречала гостей, даже не понимая, что этим людям платят за то, чтобы они облегчили ей смерть.








