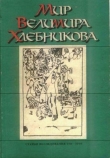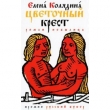Текст книги "Литературная Газета 6300 ( № 45 2010)"
Автор книги: Литературка Литературная Газета
Жанр:
Публицистика
сообщить о нарушении
Текущая страница: 13 (всего у книги 20 страниц)
Люди, приблизившиеся к богам
Наше московское кино
Люди, приблизившиеся к богам
ДОКУМЕНТАЛЬНО
Студия «Единственный дубль» завершает работу над циклом документальных фильмов «На пути к Олимпу».

Восемь 26-минутных картин, снятых по заказу правительства Москвы, рассказывают о спортивных достижениях и личной жизни известных российских спортсменов, представляющих зимние виды спорта.
Рассказать о них предложил известный спортивный журналист, автор более 60 документальных фильмов о спорте и 10 книг о выдающихся советских и российских спортсменах Евгений Богатырёв.
Создатели цикла не ставили перед собой задачи представить всех известных или перспективных спортсменов, да это практически и невозможно. Были выбраны несколько человек из тех, которые себя уже проявили, – для того, чтобы на их примере показать, что значит быть профессиональным спортсменом, какой труд стоит за каждой медалью и как спорт определяет течение их жизни.
Спортсмены, о которых идёт речь в цикле, очень разные – это и опытный саночник, участник шести Олимпиад Альберт Демченко, это и Никита Крюков – молодой лыжник-спринтер, которому высшая ступень пьедестала покорилась на его первой Олимпиаде-2010; это и фигуристка Аделина Сотникова, которая только готовится к участию в Олимпийских играх. Это и успешные хоккеисты Александр Овечкин и Илья Ковальчук, и олимпийская чемпионка Ванкувера биатлонистка Ольга Зайцева и олимпийский призёр Иван Скобрев…

Это фильмы о преодолении, самоотверженности и силе духа профессионального спортсмена. О том, с какими сложностями ему приходится сталкиваться – от недостаточного финансирования до неверия в его талант. Но именно на фоне этих сложностей спорт предстаёт не просто как профессия, а как раскрытие возможностей человеческой воли. Почти каторжный, выматывающий труд, подчиняющий себе человека, обретает величие, когда его озаряет огонь олимпийской победы. Да, олимпийцы – это люди, приблизившиеся к богам.
Прокомментировать>>>
![]()
Общая оценка: Оценить: 0,0 Проголосовало: 0 чел. 12345
![]()
Комментарии:
«Современный человек – по своей сути язычник»
Портфель «ЛГ»
«Современный человек – по своей сути язычник»
ИНТЕРТЕКСТ
Александр Владимирович Кузнецов родился в 1963 году. Учился на журфаке МГУ, работал на Дальнем Востоке. Повести и рассказы публиковались в журналах «Континент», «Дружба народов», «Новый мир», «Октябрь», «Москва», еженедельниках, альманахах. Автор книг «Язычник» и «Человек из рая». Роман «Язычник» выдвигался на премии им. Аполлона Григорьева и «Национальный бестселлер», дважды входил в номинацию «Выдающееся произведение русской литературы» премии «Ясная Поляна» имени Л.Н. Толстого. Рассказ «Брат брату брат» принёс автору в 1998 году премию им. Андрея Платонова. Живёт в Туле.
– Прежде всего ты заметен и интересен как неординарный работник со словом. Но вот фраза из начала того самого рассказа «Брат…»: «Пассажиры повалили наружу, будто поезд – огромный живородящий червяк, а пассажиры – перезревшие личинки». И такого тебя я не люблю. Ты мне ближе вот в таком исполнении. Из «Язычника»: «Бывали эпохи, когда такие маленькие морские поселения спасали огромную страну. Без хлеба и мяса, она годами сидела на селёдке, и весь мир дивился, что голодная страна оставалась жива и воинственна. Теперь, до нового бунта или войны, тихие поселения, как маленькие забытые открывателями государства, будут плыть в собственном времени, ничего не разыскивая, не запоминая пути и не намечая себе никаких причалов в будущем». Кто тебе близок именно своей словесной лабораторией?
– «Поезд-червяк» – это всё-таки не от усердия. Что греха таить – от выпендрёжа. Как ни крути, литературный текст – это проекция на бумагу психического состояния автора. Автор же может переживать разное: от тяжёлой депрессии и желания каяться до вот такой заносчивости. Если же автор пыхтит, с усердием подбирая слова, а не пишет, что на душу легло, то текст утрачивает важнейшее свойство – искренность. Проницательный читатель обязательно это почувствует и не поверит автору!.. Я, например, верю, когда читаю Андрея Платонова. Так и вижу сутулящуюся от тягот фигуру, которая упорно пробирается через нагромождения революции. И совершенно не верю Андрею Белому, хотя труд, конечно, титанический, усерднейший.
Я думаю, что ответить на вопрос, кто мне близок своей словесной лабораторией, просто невозможно. Произвели впечатление или даже потрясли, а значит, чему-то научили очень многие. На самом деле в моём восприятии это что-то единое, массив, вроде «книги песка» Борхеса, которая не имеет ни начала, ни конца, ни строгого порядка… Счастье для современного писателя, если его страницы вольются в эту бесконечную книгу, а не пойдут на килограммы в пункты приёма макулатуры.
– В твоём методе много жёсткого, порой жестокого и по отношению к слову, и к героям. Насколько я знаю, критик Валентин Курбатов даже предлагал тебе убрать из рукописи книги рассказ «Ужас, ужас» как «безнравственный для публикации». А есть ли для тебя тексты безнравственные?
– Рассказ «Ужас, ужас» Валентин Яковлевич назвал, скорее, недоразумением. Но я опять же вернусь к тому, что текст может быть рождён не только в минуты благонравные и вдумчивые. Может появиться и такая вот ересь. И это тоже часть меня. Рассказ всё-таки писался, что называется, по горячим следам. Мою дачу в течение сезона дважды обворовали, и я думаю, что как дачник я имел полное право рвать и метать. Но, понятно, что я не стал в реальной жизни воплощать планы мести, а решил сесть за стол и сделать это на бумаге. Мне было интересно поставить себя на место мелкого обывателя, который копается в своём крошечном мирке и готов глотку порвать любому, кто посягнёт на его микроскопическую собственность. Получился «Ужас, ужас», хотя, конечно, и доведённый до гротеска, до пародии. Что ж, признаюсь, в те минуты я был безнравственен. Но я вынес хороший урок: я стал понимать, как именно рождаются тексты безнравственные, что служит побудительным мотивом для их написания. Увы, есть авторы, просто одержимые собственными комплексами, страхами и закономерно вытекающей из этих качеств изощрённой мизантропией. Их писательство – нечто иное, как месть человечеству за всё человеческое, что оно содержит и что им просто по их природе недоступно.
– «Язычник» ты называешь романом-символом. Он символизирует человека духовно обобранного, не нашедшего себя, хотя по форме сильного, протестующего, бунтующего. При этом по прочтении возникало ощущение, что на территории бывшей советской империи ничего хорошего долгое время и не предвидится. Ты и сейчас так считаешь?
– А без прочтения романа, просто осматриваясь по сторонам, разве не возникает такого ощущения? Мы рискуем превратить наш мирный разговор о литературе в воинственный памфлет, посвящённый современному экономическому и политическому устройству России. Я в своё время как журналист много поработал в этих темах, и мне есть что сказать. Впрочем, мы всё это можем прочитать в некоторых уцелевших от цензурного гнёта современных изданиях. Я бы только добавил, что для России нет простых решений: нельзя, например, просто сменить рулевых, выбрать новых и направить корабль по нужному курсу. Ничего не выйдет, поскольку почти вся команда с гнильцой – раз уж она без зазрения совести в одночасье продала своего Бога, то и корабль продаст, глазом не моргнув. Но всё это, конечно, не значит, что нужно презирать свою страну. Как у Розанова: любить счастливую и великую родину не мудрено, любить её нужно, когда она унижена, слаба, порочна… Не помню дословно. Большинство моих героев, пусть это и звучит несколько высокопарно, но это так, несмотря на все свои недостатки, по преимуществу относятся к людям, неравнодушным к своей родине, и они готовы противостоять тем, кто её терзает, несмотря на то, что почти никаких перспектив для бывшей империи они не видят.
– В одном из интервью ты сказал, что «современный человек – по своей сути язычник». Что это означает?
– И опять же не я автор мысли. Кто назвал современный мир неоязыческим, не знаю – термин давно стал настолько обиходным, что авторство уже и не важно. И я открытий никаких не делаю. Современное язычество – это, конечно, не только те разочаровавшиеся в городе чудаки, которые поехали жить в тайгу, построили там вигвамы, соответствующим образом нарядились и поставили на поляне деревянные идолы, чтобы дважды в день припадать к ним. И не только герой моего романа, который так же – пока только интуитивно – формирует для себя что-то вроде наивных первобытных верований: вера в солнышко, в силу океана, в тёмные и светлые силы природы. Чтобы понять, что такое современный язычник, нужно принять постулат, что человек вообще, априори, не может обходиться без веры. Современный политеизм – это в первую очередь астрология, барабашки, колдовство, гадание на картах и прочая дребедень… Всё это такие явные метки, временное только замещение пантеона богов, которому ещё предстоит появиться. Есть язычество более тонкое, например эгоизм – обожествление самого себя. Истовая мать способна сделать богом своего ребёнка. Атеист обожествляет науку и, что самое смешное, полагает, что наука что-то объясняет. Или мещанство! Это же целый комплекс языческих верований, в которых обожествление касается главным образом вещественного мира, например своего жилья, своего автомобиля, которому, по принципу тотемных верований, часто даётся имя. В любом случае человеку нужно ощущение тверди под ногами – вера. Если её нет, человек обязательно найдёт ей замену.
– Роман неоднократно входил в разные премиальные списки, но так до победы и не добрался. Не считаешь ли ты, что налицо явный заговор именно против регионального писателя? И что вообще провинциальным авторам куда как труднее пробиться?
– Заговора я не вижу. Так сложилось, что в жюри некоторых конкурсов входили люди, которые в принципе не могли воспринять мои тексты, а кроме романа выдвигались ещё и рассказы. Ну как, скажи, пожалуйста, может дамочка, выросшая в весьма тепличных условиях, образование получившая в метро, о природе судящая по Измайловскому парку, о русском народе по тем мордам, которые мелькают на Курском вокзале, – или соответствующий ей состарившийся маменькин сынок с нежными ручками, – как они могут воспринять текст о жизни и смерти, который списан с реальной России, «смердящей» за МКАДом? Для меня важнее другое: рассказывали, что Валентин Курбатов, весьма уважаемый не только мною видный русский литературовед, участвовавший в жюри такого конкурса, демонстративно покинул заседание, когда трое из пяти членов отказались проголосовать за мой роман. Это ли не признание того, что ты занят стоящим делом?
Что касается вообще региональных писателей, то, как видно на множестве примеров, для стоящих авторов дороги в столичную литературу не закрыты. Ну а графоманов плодить – нет смысла, в Москве такого добра и своего с избытком.
– Что бы ты пожелал молодым авторам?
– В первую очередь похоронить амбиции и понять, что ничего нового в литературе они не скажут, поскольку ещё Экклезиаст поставил точку под этой темой. А уже отталкиваясь от такой твёрдой основы, попробовать определиться, что лично для них означают литературные занятия. Всё остальное потечёт само собой: либо мы получим очередного сумасшедшего, который будет сутками упорно долбить по клавиатуре, либо очнувшийся человек вытряхнет из души нелепые фантазии, поднимется из-за стола и пойдёт проживать нормальную здоровую жизнь.
Беседу вёл Александр ЯКОВЛЕВ
Прокомментировать>>>
![]()
Общая оценка: Оценить: 0,0 Проголосовало: 0 чел. 12345
![]()
Комментарии:
Последний идиот
Портфель «ЛГ»
Последний идиот
Отрывок из романа
Александр КУЗНЕЦОВ-ТУЛЯНИН

Нанервничавшись, Сошников не спал полночи. Утром добрался до работы в полусне, наглотавшись таблеток от головной боли. И весь день толком ничего не мог делать. Ему принесли диктофон с записью маленького интервью, надо было написать небольшую рекламную заметку. Он два часа расшифровывал двадцатиминутную запись, потом ещё два часа писал семьдесят строк. К нему несколько раз подходили, спрашивали работу. Наконец он сдал эти строчки. Но ещё через час рекламодатель вернул их по электронке. Пришлось переписывать. Накануне у Сошникова ушло бы на эту работу не больше часа.
При первой же возможности он сбежал домой, но вышел не на своей остановке, а дальше, на той, где возвышался храм из тёмного кирпича, громоздкий, тяжёлый, чем-то похожий на бронированные корабли, которые появились в те же десятилетия, когда и храм строился.
Сошников прошёл во двор, потом, опустив глаза, мимо старой нищенки, попутно желавшей ему счастья на десятерых, но подать ей было нечего – не было мелочи, в кармане лежала сторублёвая купюра. В храме он встал у самых дверей, прислонившись спиной к запертой створке.
До службы было далеко. В объёмном гулком пространстве бродило всего несколько человек, и они казались маленькими, особенно перед большим иконостасом. Горели редкие свечи, свет приглушённо лился из-под купола, не проникая в тёмные углы. Сошников видел, как высокая женщина в тёмном пиджачке и юбке и в тёмной же косынке бродит от иконы к иконе, словно пьяна и не совсем понимает, что делает. Иногда она останавливалась перед иконой, ставила свечку, некоторое время стояла неподвижно и шла дальше. Ещё пожилая женщина, почти старуха, обходила высокие подсвечники и собирала огарки – её кривые пальцы были сноровисты и цепки. Прошла служительница в синем халате, высоко подняв лицо в очках, с ведром в одной руке и шваброй в другой. Потом из алтаря вышел совсем молоденький, наверное, дьячок, в длинных пёстрых одеяниях, делавших его похожим вовсе не на херувима, а скорее, на принцессу из детской книжки, вынес большой бронзовый подсвечник и скрылся в двери правого придела.

И почти тут же из этой двери показался священник в простой, без всяких изысков и даже сильно выцветшей пепельной рясе. Молодое лицо его было холёное, розовое и весёлое, хотя не полное и даже не упитанное, а скорее, худощавое, и ещё большую ухоженность ему придавали аккуратные мягкие длинные волосы с ранней проседью, такая же аккуратная с лёгкой проседью бородка. Он медленно, глубоко и радостно о чём-то задумавшись, подошёл к той лавке, что была справа от Сошникова, остановился, подумал о чём-то, наклонился и сказал в окошко служительнице, которая, сама подхватившая его радость, вся подалась навстречу, так что почти высунула из окошка голову в тёмно-красной косынке:
– Всё подтвердилось, слава Богу. Можете приносить и передайте ему, чтобы ни о чём не беспокоился…
– Слава-то Богу, слава Богу… – Женщина быстро закрестилась в своём окошке.
И тогда Сошников сделал к нему два шага, на ходу хрипло проговорил:
– Позвольте задать вопрос…
– Что? – Священник, продолжая благодушно улыбаться, будто не сразу нашёл взглядом того, кто к нему обращался.
– Позвольте задать вопрос…
Улыбка на молодом бородатом, но всё же слишком нежном для такой бороды с проседью лице скользнула вниз, он всё ещё благодушно, но с уже наметившейся осторожностью сказал:
– Слушаю вас…
– Мой товарищ, который… – так же хрипло заговорил Сошников. – Он стесняется сам, и вот я за него пришёл спросить…
– Конечно… – кивнул священник, но чувствовалось, что он вовсе не настроен сейчас вести беседы.
– Вопрос, можно сказать, из теории… Могли бы вы благословить человека… моего товарища… который должен отправиться на войну?
– Почему же из теории… – Священник благодушно чуть склонил голову набок. – Если воин нуждается в благословении на ратный подвиг, в этом нет никакой теории… Ему нужно прийти самому, это будет самое правильное. Если дело его правое и отечество призвало его… – Он на секунду замолчал и в подтверждение себе опять кивнул: – Вероятно, он едет на Кавказ?
– А что… вы считаете происходящее на Кавказе правым делом?
Священник улыбнулся как-то иначе, теперь улыбка его и чуть прищурившиеся глаза говорили: ну вот, опять псих; можно было догадаться сразу – эти будто что-то высматривающие стремительные глаза.
– А вы хотите осудить русских солдат на Кавказе? – сделав усилие, чтобы придать лицу строгость, парировал священник. – Когда они умирают там, а мы здесь, в тепле и безопасности, будем обсуждать и осуждать их?
Кажется, ему удалось осадить этого странного человека, тот немного сник и заулыбался уже как-то жалко.
– Ни в коем случае я не хочу их осуждать. Я вообще пришёл не осуждать, я пришёл искать оправдания… – Сошников запнулся и добавил: – Моему товарищу. Тем более он не на Кавказ отправляется… Он вообще никуда не отправляется. Он собирается здесь, в нашем городе, уничтожить мразь, которая стоит десяти боевиков. И это даже не враг, а хуже – предатель.
– Подождите, подождите, я не совсем понимаю, – встряхнул головой священник. – Какой предатель?
– Обычный, – всё с той же напускной наивностью улыбнулся Сошников. – Таких вокруг сотни, если не тысячи. Воруют, грабят, убивают. Доподлинно знаю: убийца и грабитель. Но посудите сами: если у этой мрази цель жизни – уничтожить наше, как вы его называете, отечество и все усилия, которые эта мразь прилагает в жизни, все до единого, направлены на уничтожение нашего отечества, – то кто он, как не оккупант и даже хуже – предатель?
– Я вас не совсем понимаю…
– Что тут понимать… Мой товарищ поставил перед собой цель уничтожить врага, убийцу, предателя, оккупанта. А для этого ему нужно ваше благословение.
– А вы сами-то понимаете, что говорите?.. – Теперь священник вытаращил на него глаза. – Ваш товарищ что, собирается совершить убийство?..
– Убийство… – усмехнулся Сошников. – Если уничтожение врага назвать убийством…
– Вы что, шуточки шутите? – Теперь священник прищурился.
– Никаких шуточек. Всё очень серьёзно, – даже немного зло проговорил Сошников.
– И вы что… пришли в храм с такой нелепой… чудовищной просьбой?.. – Священник пригнул голову, прикоснулся кончиками пальцев к своему лбу и покачал головой. Опять поднял возмущённые глаза. – Да если вы видите беззаконие… Существует же закон… И можно, и нужно привлечь оступившегося к законному ответу… А человек – разве имеет право судить и казнить?
– Да вы не волнуйтесь так, – тихо и даже снисходительно вымолвил Сошников. – Дело в том, что эти бандиты сегодня сами – закон… И я на самом деле совсем не вижу разницы между ними и кавказскими бандформированиями, они одинаково опасны для моей страны. И следовательно, не может быть никакой разницы между солдатами, воюющими на Кавказе, и моим товарищем, который хочет совершить свой маленький подвиг. Он такой же солдат и заслуживает благословения.
– Что вы говорите! Разве можно сравнивать солдата и убийцу? Дело солдата тяжкое… Да, оно несёт на себе печать смерти. Но солдат подобен врачевателю!.. И солдат, и врач оба делают больно, но через боль они приносят очищение и выздоровление. Врач спасает человека, одну душу, и его дело благородно и достойно, а солдат спасает отечество, и его дело также благородно и достойно. А вы мне что?..
– Значит, солдат спасает отечество, а мой товарищ, герой-одиночка, который пришибёт злодея, не спасает отечество? Да он самым конкретным образом спасает и отечество, и сотни людей, которые должны быть ограблены, а некоторые даже умерщвлены.
– Ничего он не спасает! Он убивает, он губит человеческую душу и губит свою душу. Он – убийца! Без всяких сомнений.
– Солдаты за последние триста лет спасали отечество только два раза, а всё остальное… и та война, на которую вы согласились поначалу благословить моего товарища, – откровенный бандитизм.
– Но кто сподобил вашего товарища совершать злодеяние?
– А кто сподобил идти на войну солдата? Государство?
– Именно государство. Это общенациональное дело. Неужели вам это непонятно?
– Непонятно… Выходит, если бандиты государства посылают наших мальчишек убивать средневековых горцев на их же землю, а те, в свою очередь, режут наших мальчишек, то это дело можно назвать общенациональным и благословить его? А когда честный человек, патриот родины, хочет пришибить предателя и убийцу, который принёс вреда родине больше, чем отряд горцев, то такое дело благословить нельзя? Не понимаю. – Сошников кисло улыбался, глядя в лицо священника, не сумевшего удержаться на важных поучающих тональностях.
– Нет, нельзя благословить! – с раздражением сказал священник. – Это будет убийство, которое осудит и Божий суд, и человеческий. Убийство…
Рядом остановилась маленькая старушенция, широко открыв рот и испуганно глядя на батюшку.
– Проходите, проходите… – улыбаясь и крестя её, ласково проговорил он. И опять повернулся к Сошникову: – Прежде чем воевать со злом, человек должен разобраться, нет ли зла в нём самом… А зло самое пагубное, которое может разгореться в нём…
– Всё это чепуха… – с задумчивостью перебил его Сошников. – То, что вы сказали про врача и солдата, – полнейшая чепуха. Неуместно и как-то неуклюже… Совершенно неуклюжий софизм… Так и передайте тем, кто его придумал… Покажите мне врача, который убил двадцать человек ради того, чтобы кого-то там спасти. Может быть, есть такие врачи – вроде доктора Менгеле, но, как я понимаю, восторга они ни у кого вызвать не могут.
– Вы совсем неправильно мыслите. Врач, как и солдат, через боль приносит очищение. Врач через боль спасает человека, солдат через боль спасает отечество.
– Опять вы за своё, – поморщился Сошников. – Боль, очищение… Боль – не смерть, а смерть – не боль и никак не очищение. Боль – это и есть жизнь, а жизнь – самая что ни на есть боль… Но смерть здесь при чём? Смерть – это смерть…
– Вы сами не понимаете, что говорите, и не понимаете, как далеко зашла ваша гордыня и в какой тупик приведёт…
– Всё я хорошо понимаю, – опять перебил его Сошников. – Я даже понимаю то, что скрыто в вас, что вы знаете, да только сказать не можете. Благословлять именем Христа войну – это в обязательном порядке благословлять убийство детей, если хотите, которое всегда происходит на войне. А значит, самим быть душегубом детей и предателем Христа. Это всё очень просто и пространных обсуждений не требует, а укладывается в два слова: «Не убий». Эти два слова я не хуже вашего понимаю. А мой товарищ детей идёт спасать, из двух зол он выбирает меньшее… Но если честно, то не за благословением вашим я и приходил, а то я не знал, что вы можете мне ответить…
– Что же вам тогда понадобилось в храме, если вы всё давно для себя решили? – холодно сказал священник.
– А вы храм не трогайте, – тихо, с напором проговорил Сошников. – У вас на него монополии нет. Его, кстати, один из моих прапрадедов строил, и в храме мы все равны… А мне нужно было… Да, мне, может быть, и нужно было только увидеть, что вы так же беспомощны перед правдой и перед грехом… И я увидел. И даже ещё беспомощнее… Потому что у меня нет необходимости юлить… Если я грешен, то так и говорю: грешен и проклят. А вы говорите: свят и аминь… Дело не в этом. А происходит один странный фокус… Не знаю почему, но вот эта ваша беспомощность… почему-то она придаёт мне уверенности и силы. Это всё искренне. Не обижайтесь.
Он быстро подошёл к выходу, открыл дверь, вышел, быстрым шагом стал пересекать церковный двор, как услышал:
– Постойте!.. – Священник с неподобающей прытью едва не бегом догнал его. – Постойте!..
Сошников остановился, повернулся вполоборота.
– Вы должны, – испуганно заговорил священник, – просто простить… Бросьте вы эту тёмную диалектику и просто, ради Бога, простите того человека, который вас обидел…
– Почему же я должен его прощать? – хмуро спросил Сошников.
– Потому что… когда человек прощает… потому что он прежде всего не в том человеке, которого прощает, признаёт частичку Бога, он в себе прежде признаёт… А я буду молиться за вас… Скажите своё имя…
Сошников с недоумением пожал плечом, отвернулся и пошёл со двора, уже не слыша за собой шагов.
Прокомментировать>>>
![]()
Общая оценка: Оценить: 4,0 Проголосовало: 3 чел. 12345
![]()
Комментарии: