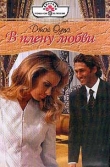Текст книги "Линни: Во имя любви"
Автор книги: Линда Холман
Жанры:
Современная проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 24 (всего у книги 31 страниц)
Глава двадцать девятая
Я приподнялась на локте и посмотрела на тлеющие остатки костра. За ними, освещенный первыми солнечными лучами, спал мужчина по имени Дауд. Его ресницы отбрасывали тень на щеки, подбородок потемнел от пробившейся щетины.
Я легла на спину и посмотрела в небо, окрашенное во все оттенки розового. Почувствовав аромат цветов, я сделала глубокий вдох. В ветвях раскидистой чинары послышался шорох, и я увидела пару прихорашивающихся золотистых иволг. Они чистили перышки маленькими острыми клювами, надували грудки и с восхищением оглядывали друг друга блестящими глазками. Затем птицы вдруг сорвались с дерева, хлопая крыльями, и через секунду я поняла почему – на ветку этого же дерева сел большой зеленый дятел с красным пятном на голове. Он нагло на меня посмотрел, а затем принялся долбить твердый ствол длинным острым клювом. Как только раздался стук, Дауд мигом вскочил на ноги, сжимая в руке нож и встревоженно озираясь по сторонам.
Я, поморщившись, села и молча указала ему на дерево. Увидев блестящую головку занятой своим делом птицы, Дауд разочарованно пожал плечами и заткнул нож обратно за пояс. Дауд повернулся в сторону озера и некоторое время смотрел на неподвижную воду. Затем одним резким движением он сбросил с себя жилет, стянул рубашку через голову и подошел к берегу. Я с удивлением заметила, что его кожа, там, где она не была покрыта загаром, оказалась значительно светлее, чем можно было предположить. Дауд поплескал водой на лицо, волосы, руки и грудь, затем выпрямился и отряхнулся, разбрызгивая во все стороны жемчужные капельки. После этого он вытащил нож и принялся бриться. Затем Дауд пошел вдоль берега и скрылся за камнями. Я направилась к тому же укромному месту, где купалась вчера, и осторожно потрогала волдыри. За ночь они засохли. Я надела панталоны, умылась и пальцами пригладила волосы.
Сидя у потухшего костра, мы съели оставшуюся со вчерашнего вечера рыбу и по нескольку горстей земляники. Дауд засыпал остатки костра песком, затем свистнул, подзывая Расула. Он показал на свой кушак, который я вчера оставила возле седельной сумки. Я взяла его, сложила и засунула себе в панталоны, на этот раз не раздумывая.
Дауд усадил меня на Расула, и за несколько часов мы пересекли предгорье и въехали в долину. Я чувствовала, как моя грудь прижимается к спине Дауда, ощущала его бедра под своими руками. В этом не было ничего особенного, но ощущение показалось мне непривычным.
Дауд остановился, чтобы напоить Расула из небольшого озерца, и я посмотрела на раскинувшуюся перед нами долину. Это был рай буйной растительности, везде цвели весенние цветы – синие горечавки и фиолетовые фиалки сражались за место под солнцем с более крупными разноцветными анемонами.
– Мы уже в Кашмире? – спросила я.
Дауд кивнул.
– Сейчас ты видишь его во всей красе, – сказал он с ноткой гордости в голосе. – Здесь, на севере, зима бывает очень длинной и суровой. Жители Кашмира ждут весну, как ястреб ждет зайца. Здесь она проходит быстро, но это зрелище способно смягчить самую черствую душу. Каждый год я надеюсь застать Кашмир во время его пробуждения.
Он указал на низкий пологий холм, окаймленный деревьями.
– За этими деревьями есть небольшое селение. В нем сейчас находятся мои лошади и некоторые из моих людей. Я оставлю тебя там.
Дауд смотрел вперед, но, прежде чем увести Расула от воды, оглянулся на меня.
– Как тебя зовут?
– Линни, – сказала я и добавила: – меня зовут Линни Гау.
Я произнесла это без задней мысли, хотя в следующий миг поняла, что назвалась своим прежним именем. Здесь я была Линни Гау. Не Линни Смолпис и не Линни Инграм. Здесь не было нужды притворяться. Впервые за долгое-долгое время я была сама собой.
– Линни Гау, – повторил Дауд, и эти слова в его устах прозвучали для меня сладкой музыкой.
Лагерь был расположен в роще возле небольшой речушки и представлял собой сочетание черных палаток и загонов для животных, построенных из камня и дерева. В одном из просторных загонов находились великолепные лошади, на огражденных пастбищах поменьше, расположенных отдельно, содержались кобылы с жеребятами. Когда Расул с плеском пересек речку, я увидела, что в самом маленьком из загонов, окруженном грубой каменной стеной, громко и жалобно блеяла обрюзгшая, хромая, больная паршой коза.
Мы были на месте. Дорога до лагеря заняла у нас четыре дня – всего четыре дня, но этот мир разительно отличался от того, что я видела в Симле. Мое дыхание участилось. Какая судьба ждала меня здесь? Что, если эти люди враждебно ко мне отнесутся? Бросится ли Дауд мне на помощь?
Когда конь ступил на низкий берег, здесь уже собралась толпа мужчин, женщин и детей. Все они что-то говорили и указывали на нас пальцами. Одежда мужчин была такой же, как у Дауда, – темные штаны, белые рубашки и вышитые жилеты; некоторые носили белые тюрбаны. Все мужчины племени гилзай отличались крепким телосложением. У некоторых из них над губой виднелись аккуратно подстриженные тонкие усики. Женщины были более изящными, с кожей цвета молочных тянучек и со светло-карими глазами, хотя волосы, заплетенные в свисающие на спины косы, напротив, были очень черными. Женщины носили длинные просторные рубашки, бледно-голубые, зеленые, сливовые или красные, а сверху надевали нечто вроде халата, доходящего до икр. Их широкие черные штаны были присобраны на щиколотках. На ногах у них были мягкие вышитые туфли с загнутыми носами. У большинства женщин на голове сидели маленькие темно-синие шапочки с прикрепленной к ним вуалью. У одних вуаль прикрывала лицо, а другие откидывали ее назад. Все женщины без исключения были увешаны многочисленными серебряными украшениями – браслетами на руках и на щиколотках, серьгами и кольцами для носа, – которые у мусульман считались знаком того, что женщина замужем.
Когда Дауд спешился, а затем помог мне спуститься на землю, все они затихли. Ребенок, сидевший на руках у матери, повторял что-то пронзительным тонким голоском, пока та не прервала его щебет одним резким словом. Я не знала, куда деть глаза. Никто из них не улыбнулся и не подошел к нам. Все они стояли и смотрели. Я потупила взгляд, прекрасно осознавая, что веду себя странно, но я не хотела, чтобы они заметили, что мне не по себе.
Дауд заговорил, и я наконец решилась поднять глаза. К нему подбежал мальчик лет двенадцати или тринадцати, одетый в муслиновые бриджи, рубашку, вышитый жилет и шапочку. Дауд вручил ему поводья Расула. Юный конюх гордо увел огромного коня, и, когда он ушел, к Дауду подошел мужчина постарше. Они поприветствовали друг друга объятиями. Затем мужчина что-то сказал вопросительным тоном, и все глаза в толпе обратились ко мне, затем снова вернулись к Дауду. Тот говорил долго, и все снова посмотрели на меня. Я желала знать, что именно он им рассказывал, и молилась, чтобы это не настроило их против меня.
Дауд снова что-то произнес, и я с облегчением заметила, что некоторые из женщин доброжелательно кивают. Мои страхи развеялись.
Затем Дауд взглянул на меня.
– Женщины о тебе позаботятся, – сказал он на хинди. – Это жены гуджар – кашмирских пастухов. Их мужья перегоняют коз на пастбище, а женщины нанимаются к нам, чтобы готовить пищу. Махайна! – позвал он.
Из толпы вышла молодая женщина с ребенком.
– Махайна знает несколько языков, – сказал Дауд и обратился к ней на хинди. – Эту ференгхи зовут Линни. Она говорит на хинди. Накорми ее и дай ей чистую одежду. Она будет спать с тобой в палатке.
Дауд ушел размашистой походкой, и его люди последовали за ним.
Женщина, глаза которой напоминали ягоды терна, кивнула ему вслед, затем повернулась к своим соплеменницам и заговорила высоким пронзительным голосом. Около двадцати из них подошли ко мне и протянули огрубевшие, обветренные руки, чтобы потрогать мое платье, волосы, кожу. Они тихо перешептывались, словно оценивали животное на ярмарке. Должно быть, они никогда раньше не видели белую женщину.
Наконец женщина по имени Махайна их утихомирила. Ее ребенку, большеглазому, с шапкой курчавых темных волос на голове, на вид можно было дать около года. Махайна так долго стояла передо мной, что у меня снова участилось сердцебиение. Чего она от меня ждала? Наконец я протянула руку и прикоснулась пальцами к пухлой ладошке ребенка.
– У тебя очень хороший малыш, – сказала я. – Это мальчик или девочка?
Я все сделала правильно: лицо Махайны расплылось в широкой улыбке, и я увидела дырки на месте недостающих зубов.
– Сын. Это мой первый ребенок, который родился живым.
Я улыбнулась ей в ответ.
– Сын. Это большая удача. Аллах тебя благословил.
Ребенок играл с моими пальцами, и я инстинктивно прижалась губами к маленькому кулачку.
Махайна, все еще улыбаясь, снова заговорила с женщинами. Они дружно кивали, шумно ахая и, видимо, соглашаясь с моими словами. Отовсюду, словно по мановению волшебной палочки, появились дети – из-под широких рубашек, из перевязей у бедер и из-за спин. Все они были одеты в крошечные муслиновые рубашки, вышитые цветами, и совсем уж крохотные матерчатые шапочки, тоже вышитые. Вокруг меня один за другим возникали множество младенцев и детей постарше.
– Пожалуйста, прикоснись к ним, – попросила Махайна. – Говорят, прикосновение иноземной женщины приносит удачу.
Я послушно гладила мягкие щечки и пухлые ручки, улыбаясь каждой матери. Трогала головки и плечи детей постарше, толпившихся у моих ног. Затем Махайна взяла меня за руку и отвела к небольшой палатке. За нами по пятам следовали женщины и их дети. Махайна жестом показала мне, куда сесть, и я осторожно опустилась на истоптанную траву рядом с палаткой. Остальные женщины сели на землю.
Махайна с важным видом время от времени забегала в палатку и возвращалась, чтобы помешать содержимое висевшего над костром закопченного котелка. Затем она зачерпнула жестяной чашкой варево, в котором я узнала дал[35]35
Дал – индийское блюдо, густая похлебка из бобов и чечевицы со специями. (Примеч.перев.)
[Закрыть], переложила его в глиняную миску и протянула мне. Я отбросила волосы назад, затем пальцами зачерпнула немного риса с чечевицей и отправила кушанье в рот. Махайна внимательно за мной наблюдала. Когда я посмотрела на нее и сказала: «Вкусно, Махайна. Хороший дал», она захлопала в ладоши. Женщины улыбались и тихо переговаривались между собой, пока я не закончила трапезу.
Когда я отдала Махайне пустую миску, она посмотрела на женщин и издала забавный свистящий звук. Женщины замолчали, поднялись на ноги и, забрав с собой детей, разошлись по палаткам. Махайна посадила своего ребенка на траву рядом со мной.
– Никто не сделает за них их работу, если они будут только сидеть и смотреть на тебя, – объяснила она.
Затем Махайна указала на ребенка, внимательно глядевшего на меня.
– Его зовут Хабиб, – сказала она и посмотрела на мой живот. – Сколько у тебя детей?
– У меня нет детей, – ответила я.
На лице Махайны отразилось сочувствие.
– Скоро они у тебя появятся, на все воля Аллаха, – доверительно сказала Махайна, мешая исходящий паром в черном котле дал очищенной от коры палочкой.
Затем ее лицо прояснилось.
– Женщины вождей всегда рождают сыновей.
Сначала я подумала, что неправильно поняла ее ломаный хинди. Но затем, когда она продолжила размешивать еду, я покачала головой.
– Я не принадлежу Дауду – я не его женщина. Нет.
Ребенок захныкал и пополз обратно к матери.
Махайна расстегнула рубашку, вытащила наружу тяжелую от молока грудь и принялась его кормить. Мальчик сосредоточенно сосал, иногда протягивая ручку к болтающейся блестящей сережке матери.
– Я живу здесь уже три года, с тех самых пор как стала невестой. Дауд и его люди приходят сюда каждый год. Я слышала много историй о его племени.
Она улыбнулась, но теперь улыбка получилась не открытой, как раньше, а лукавой.
– Я вернусь к своему народу, – ответила я.
Мысль о том, чтобы объяснить Махайне, что произошло, показалась мне утомительной.
– Я не останусь здесь, – добавила я.
Она кивнула, глядя на ребенка. Ему хотелось спать, и теперь он сосал уже нехотя.
– Твой муж, он… пасет коз? – спросила я.
Махайна неопределенно кивнула головой в сторону холмов.
– Некоторые из них спускаются сюда каждую неделю за свежей пищей. В это время мужчины должны быть со стадами. Сейчас время окота, и многие овцы погибнут, если им не помочь.
Я наблюдала за тем, как она осторожно положила спящего ребенка в палатку.
– Почему люди Дауда здесь?
– В поселке они держат пойманных лошадей, которых потом продадут или перегонят обратно в Афганистан. Мы готовим им пищу и стираем их одежду. Они нас и пальцем не смеют коснуться, потому что иначе наши мужья запретят нам приходить в их лагерь. Пушту щедро платят мужьям за нашу работу.
Мне было трудно поверить, что Махайна замужем уже три года.
– Сколько тебе лет, Махайна? – спросила я.
– Шестнадцать, – ответила она, – но многие женщины относятся ко мне с уважением.
Она сказала это просто.
– Я не родилась среди гуджар, мой муж купил меня в Саленбаде, это недалеко от Сринагара, самого большого города Кашмира. Мой отец был образованным человеком, очень умным. Он учил моих братьев индийским языкам, и я тоже их выучила. Когда отец заставал меня за подслушиванием, он бил меня, потому что я не должна была учиться, как мои братья. Но мне нравилось учиться, и поэтому я продолжала прятаться, вопреки его желаниям. У нас говорят: «В смышлености дочери нет пользы для отца». С моим отцом все было иначе. Он был счастлив, когда смог назначить за меня большую цену. Я приношу пользу гуджарам, они зовут меня, когда нужно договариваться с людьми с юга, которые приходят, чтобы купить наших коз.
Махайна достала из палатки незаконченную корзину и начала переплетать жесткие стебли камыша, соединяя их в замысловатый узор.
– Скоро, – сказала она, – ты сможешь переодеться в чистое. Женщины готовят одежду.
Я смотрела, как корзина обретает форму в ее ловких руках.
Через час к палатке Махайны пришли женщины. Они принесли охапку одежды и громко переговаривались, дергая меня за руки. Махайна сняла котелок с далом с огня, и теперь над костром закипала большая жестяная банка с водой. Из складок рубашки Махайна достала два связанных вместе мешочка, высыпала из одного из них на ладонь какие-то небольшие листья и бросила их в кипяток. Словно по сигналу все женщины грациозно опустились на траву и достали по чашке из своих собственных рубашек, которые, видимо, исполняли здесь роль дамских сумочек.
Каждая из женщин зачерпнула чашкой немного воды. Тогда Махайна развязала второй кожаный мешочек и пустила его по кругу. Она протянула мне чашку дымящейся янтарной жидкости, и я, подражая остальным женщинам, бросила в нее щепотку белого вещества, которое, как я догадалась, было крупным сахаром. Как и другие женщины, я подула на горячую жидкость, а затем тщательно размешала ее указательным пальцем правой руки. Наконец я отпила. Напиток оказался незнакомой, но очень вкусной разновидностью сладкого чая. Мы пили чай. Женщины тихо болтали друг с другом. Я вспомнила чаепития в Калькутте и Симле, а затем мысленно обругала себя за то, что позволила своим мыслям вернуться к этим местам. На последний чайный прием в Симле мы ходили вместе с Фейт. Нас пригласили в дом молодой женщины из Лакхнау. Фейт была такой милой в своем персиковом крепдешиновом платье. Помню, как ее изящная фарфоровая чашка позвякивала о блюдце, потому что у Фейт дрожали руки.
Мне пришлось поставить собственную чашку на траву и медленно вдохнуть, так как боль, вызванная гибелью Фейт, вспыхнула с новой силой. За последние несколько часов я почти забыла о ней.
К тому времени, когда все женщины допили чай, вытерли чашки подолами рубашек и спрятали их, Хабиб проснулся. Махайна взяла его на руки и жестом пригласила всех в свою палатку. Я последовала за ними, и через минуту мы все оказались внутри, а самая старая женщина принялась расстегивать пуговицы моего платья.
– Ты должна отдать нам свою одежду, – распорядилась Махайна. – Мы починим ее и выстираем.
Я сняла платье, сапожки и чулки, оставшись в нижней юбке и сорочке. Махайна пощупала низ юбки, восхищаясь тонким кружевом. Другие женщины ждали с протянутыми руками, пока я снимала нижнюю юбку и наконец сорочку. Воцарилась тишина. Они смотрели на то, что осталось от моей левой груди, на следы от хлыста на спине и на недавно раненое плечо. Я решила им все объяснить, поэтому показала рукой на грудь.
– Нож в руке плохого человека, – сказала я, и они заахали, кивая, когда Махайна перевела им мои слова.
Я повернулась, чтобы показать им спину.
– Гнев моего мужа.
Они снова закивали, и я коснулась плеча.
– Это сделали люди моего народа. Ошибка.
Все очень просто.
Затем я сняла панталоны и отлепила от тела кушак Дауда, шипя от боли, когда вместе с тканью отрывались подсохшие корочки на ранах.
– Большая лошадь, – объяснила я Махайне.
Женщины сочувственно защелкали языками, а одна из них достала из рубашки маленький муслиновый мешочек.
– Дауд дал мне лошадиное лекарство, – сказала я, стоя перед ними без одежды и стараясь выглядеть беззаботной. Я видела, что некоторые из них рассматривают пушок у меня между ног, показывая на него пальцем, а затем на волосы на голове, видимо, сравнивая цвет.
– У Лайлы есть такое же снадобье, только оно для людей, – произнесла Махайна.
Она кивнула женщине с крючковатым носом, которая принялась посыпать мои раны пахнущим травами порошком, не прекращая разговаривать с Махайной.
– Лайла делает много лекарств из лесных цветов и трав, – сказала та. – Этот порошок, если применять его трижды в день, быстро заживляет раны. Но ты не должна делать повязки – на воздухе ранки быстрее засохнут и закроются.
Лайла отдала мне мешочек, и я взяла ее за руку, желая выразить свою благодарность.
Затем женщины помогли мне одеться. Одна из них протянула мне просторные черные штаны, и я надела их, туго затянув завязки на талии; другая надела на меня через голову мягкую винного цвета рубашку – она называлась «камис»; а третья женщина расчесала мне волосы искусно вырезанным из душистого дерева гребнем. Наконец старшая из женщин, с сильно побитым оспой лицом, опустилась передо мной на колени, протягивая две пары обуви. Я сунула босые ноги в мягкие теплые замшевые сапожки, и она зашнуровала их. Затем она надела на меня пару прочных деревянных сандалий с загнутыми носами.
– Надевай их, когда будешь выходить из лагеря. Они защитят твои ноги от острых камней, – сказала Махайна.
Пока женщины приводили меня в порядок, Махайна рылась в большой полотняной сумке в углу палатки. Наконец она подошла ко мне с парой длинных серебряных серег тонкой работы. Мне вспомнились кричащие дешевые безделушки, которые я покупала, работая на Парадайз-стрит, и украшения с драгоценными камнями, которые дарил мне Сомерс, как правило после очередной сделанной им гадости. Но от этого подарка, сделанного от чистого сердца, у меня на глаза навернулись слезы. Я взяла серьги и надела их с помощью серебряных зажимов на уши.
– Спасибо, – сказала я.
Махайна просияла обезоруживающей улыбкой.
– Теперь ты выглядишь совсем как мы, – заметила она. – По крайней мере со спины.
Затем она поделилась шуткой с остальными женщинами, и все они рассмеялись. Маленький Хабиб радостно захлопал в ладоши.
Позже, в этот же день, я встретила Дауда, когда пошла вместе с Махайной за водой. Он сидел рядом с двумя мужчинами. Когда мы подошли ближе, все они замолчали. Дауд кивнул мне, и, заметив, что он рассматривает мой изменившийся внешний вид, я неожиданно почувствовала, что краснею. Происходило что-то, чего я не понимала, и это не давало мне покоя. Увидев Дауда, я испытала то же странное волнение, которое ощутила, когда прикоснулась к его спине грудью. Конечно, вам прекрасно известно, что это было, и вы, скорее всего, смеетесь над моей наивностью, ведь я познала сотни мужчин. Но для меня это чувство было новым, забавно волнующим и в то же время причиняло дискомфорт.
Той ночью я спала на мягких стеганых одеялах в палатке Махайны. Воздух был теплым, и поэтому одеяло, служившее дверью, не опускали. Время от времени до меня доносился далекий лай – видимо, на близлежащих холмах охотились лагерные собаки. Я слышала сонное требовательное сопение Хабиба, вскоре сменившееся чмоканьем. Затем в палатке снова стало тихо. Я подумала о Фейт и о Чарлзе, о том, как ему сообщат ужасную новость. Вдруг я поняла, что почти не вспоминаю о Сомерсе, с тех пор как покинула Симлу. Интересно, он решит, что я тоже умерла, если новости до него дойдут раньше, чем я вернусь в Симлу? Внешне он, наверное, будет живым примером горя и отчаяния, но в глубине души только обрадуется. Разве для него не будет лучше, если я умру? Он получил наследство и теперь сможет разыгрывать безутешного вдовца еще много лет, вызывая сочувствие и уважение соотечественников. «Бедняга, – будут шептать матроны, прикрываясь перчатками. – Он так любил свою странную маленькую жену, что теперь никак не может прийти в себя после ее смерти. Он выбрал жизнь в одиночестве, и мы никогда не сможем пробудить в нем интерес к другой женщине. Ни одна из них не сможет заменить ему его умершую возлюбленную». Как он, должно быть, расстроится, узнав о моем возвращении в Симлу. Как он будет жалеть, что вместо меня не возвратилась Фейт, а я не лежу мертвая на холодных камнях.
Я повернулась лицом к открытому входу. Мне вспомнился Дауд, его обнаженная спина, когда он стоял на берегу озера, бедра, прижатые к бокам коня. Его запах. И меня снова охватило беспокойное чувство.
* * *
На следующий день я помогала Махайне готовить еду и играла с Хабибом. Дауда я не видела. Несомненно, он скоро появится, чтобы сообщить мне, когда и как я смогу вернуться в Симлу.
Позже, днем, когда я щекотала пухлый подбородок Хабиба длинной травинкой, на нас упала чья-то тень. Я подняла глаза и увидела невысокого коренастого мужчину в грязной синей рубашке и еще более грязных штанах. У него была короткая бородка, а морщинистое коричневое лицо и покрасневшие глаза казались усталыми. Он посмотрел на меня с Хабибом, затем устремился к пустой палатке.
– Махайна! – проревел он, хотя было ясно, что в палатке никого нет. Хабиб испугался неожиданного громкого звука и заплакал, и я взяла его на руки.
– Она пошла за водой к реке! – объяснила я, пытаясь перекричать детский плач, но мужчина только с недоумением посмотрел на меня: он не говорил на хинди. Он бросил на землю висевший у него на плече мешок. Женщина, сидевшая у входа в другую палатку, напротив нашей, что-то ему прокричала. Мужчина повернулся ко мне спиной, скрестил мускулистые руки на бочкообразной груди и встал, широко расставив ноги и глядя в сторону реки.
Через несколько минут показалась Махайна, грациозно ступая с большим глиняным горшком на голове, с которого стекали капельки влаги. Увидев мужчину, она поставила горшок на землю и протянула руки к Хабибу.
– Это мой муж, Бхосла, – сказала она мне, тяжело дыша. – Он не спускался с гор уже две недели.
Махайна взяла ребенка на руки, затем подошла к закопченному котелку и наполнила большую миску рыбой и тушеными грибами. Не поднимая глаз, она передала ее мужу. Он пролаял какую-то фразу, кивая в мою сторону. Махайна что-то тихо ответила ровным голосом. Таким голосом она никогда не разговаривала со мной или с другими женщинами.
Похоже, ответ удовлетворил Бхослу. Он опустился на корточки, все еще спиной ко мне, и прикончил еду, сделав несколько огромных глотков.
Я почувствовала неловкость.
– Пойду прогуляюсь, – сказала я Махайне. Она рассеянно кивнула, доставая кипу одежды из грязного мешка, брошенного Бхослой на землю. От мешка несло п'отом.
Я прошла между палатками и вышла к загону с больной козой. Я оперлась на низкую каменную стену, лениво рассматривая изъеденное блохами животное. Недалеко от меня на стену влез мальчик, уселся там и стал свистеть. Это был высокий дрожащий звук, одновременно напомнивший мне звучание флейты и крик ястреба. Каждый раз, когда мальчик свистел, коза поднимала на него свои мутные закисшие глаза и послушно вертелась на месте, сначала в одну сторону, затем в другую.
Я взглянула на пологие зеленые холмы, окружавшие долину. За ними виднелись горы, вершины которых скрывались в облаках, цепляющихся за заснеженные пики. Может, это были те же горы, которые я видела в Симле, только в ином ракурсе? Вспоминая пометки на картах, которые я изучала в Калькутте, я задумалась о том, где сейчас нахожусь и смогу ли когда-нибудь это выяснить.
Оставив мальчика с козой, я пошла к открытой, поросшей травой площадке, на которой носилась кучка детей. Их игра была довольно жестокой. Дети гонялись за кем-нибудь из мальчиков или девочек, а поймав жертву, со смехом били ее и таскали за волосы. Насколько я поняла, суть игры заключалась в том, что жертва должна была отбиваться, до тех пор пока могла выдерживать боль. Один малыш сердито расплакался, получив удар в глаз от девочки постарше, и остальные дети отошли от него.
Изгнанный из компании мальчик, прижимая к глазу кулак, добрался до камня и сел на него, издали угрюмо наблюдая за продолжившейся игрой.
Когда дети потеряли интерес к игре и разбрелись кто куда, я направилась к лошадиным загонам. В одном из них кружил небольшой табун, а в центре другого стояла одинокая мужская фигура с коротким хлыстом в руке, в другой руке была веревка, привязанная к недоуздку дико косящего глазами золотистого жеребца, скачущего по кругу. Мужчина повернулся, и я узнала Дауда.
На нем были только штаны и высокие кожаные сапоги. Вследствие физических усилий под жарким солнцем на его груди и спине выступил пот. Дауд перевязал волосы сзади кожаным шнурком, и моему взгляду открылась сильная изящная линия его шеи. Он надел другие серьги, больше и шире предыдущих. Время от времени он выкрикивал команды храпящему животному. Лицо Дауда изменилось. Следы побоев почти исчезли. И хотя его лицо все еще оставалось бледным, оно приобрело совсем иное выражение. На нем больше не было того напряженного высокомерного безразличия, которое я наблюдала, когда Дауда тащили в тюрьму Симлы, и бдительности, которая не покидала его всю дорогу до Кашмира. Сейчас оно было выразительным, открытым и непосредственным.
Он меня не видел. Я оперлась руками о верхнюю перекладину загона и смотрела. Наконец конь выбился из сил и остановился, опустив голову, тяжело дыша и раздувая ноздри. Тихо разговаривая, Дауд приблизился к нему и положил ладонь на широкий лоб животного. Жеребец резко вскинулся, в воздух полетели клочья пены, но конь не сдвинулся с места. Глядя ему в глаза, Дауд очень медленно издал долгий тихий свист, как тогда с Расулом, когда конь задрожал от страха в пещере. Жеребец снова опустил голову. Дауд наклонился и прижался лбом к золотистому лбу животного. Они неподвижно стояли по меньшей мере минуту. Затем Дауд осторожно потянул за веревку и пошел к воротам. Конь последовал за ним. У ворот Дауд снял с него недоуздок, и животное побежало по загону, взбрыкивая от радости, словно жеребенок. Дауд с улыбкой смотрел на него, затем открыл ворота и выскользнул из загона. Когда он снова их закрывал, я подала голос:
– Великолепный конь.
Он взглянул в мою сторону.
– Да, – последовал ответ.
Что-то в выражении его лица изменилось, оно стало более замкнутым. Я пожалела, что стала тому причиной. Дауд обмотал ремешки хлыста вокруг руки.
– С тобой хорошо обращаются?
Я кивнула. Мне хотелось что-то сказать, но меня вдруг охватили смущение и тревога.
– Ты одета как бакривар, пастушка, но твои волосы и лицо – они не соответствуют одежде.
Он направился ко мне, и мое дыхание участилось, но Дауд прошел мимо. Я почувствовала терпкий запах его блестящей от пота кожи.
– Подожди, – сказала я, и он снова повернулся ко мне. – Я… Когда я смогу вернуться?
Прежде чем заговорить, Дауд некоторое время изучал облака у меня над головой.
– Если хочешь, я могу сделать так, чтобы ты уехала завтра.
Он ждал ответа. Почему я не сказала: «Да! Да! Я должна уехать завтра, как можно скорее!»?
– Однако это может оказаться непросто, – неожиданно добавил Дауд.
– Почему?
Он начал перебирать заплетенные в косички мягкие сыромятные ремешки своего хлыста. Я смотрела на его руки.
– В лагере есть только один гуджар, которому я могу доверить провести тебя через горы, и это наш единственный конюх. Поездка в Симлу и обратно займет семь или восемь дней. За эти восемь – или, может быть, десять – дней мы закончим объезжать лошадей, прежде чем перегонять их в Пешавар. В это время конюх будет нам просто необходим. Но я пообещал доставить тебя в Симлу. Если ты очень хочешь уехать, я позабочусь…
– Нет.
Неужели я сказала «нет»?
Теперь на лице Дауда появилось любопытство. Он похлопал хлыстом по бедру.
– Разве твой муж не будет волноваться?
Я не ответила.
Хлыст в его руке замер.
– Значит, ты пробудешь в лагере еще некоторое время? Таково твое желание?
Прошло по меньшей мере десять секунд, и я ответила:
– Да, таково мое желание.
– Да будет так, – сказал Дауд, затем развернулся и ушел, оставив меня одну в неподвижном, разреженном воздухе Кашмира. После его ухода мне стало одиноко.
Глядя, как он уходит, я поняла, как называлось это непонятное мне чувство: страсть.