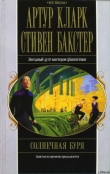Текст книги "В Париже дорого умирать"
Автор книги: Лен Дейтон
Жанр:
Шпионские детективы
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 15 страниц)
Глава 6
Марии Шове было тридцать два года. Она отлично выглядела, сохранив мягкость, фигуру, сексуальный оптимизм, уважение к мужскому уму и домашность. А утратила подруг детства, застенчивость, свои литературные чаяния, одержимость шмотками и мужа. Довольно честный обмен, как она считала. Время дало ей куда больше независимости. Она оглядела художественную галерею и не обнаружила ни одного человека, которого хотела бы снова видеть. Но при всем при этом здесь были ее люди: те, кого она знала еще с ранней юности, люди, разделявшие ее вкусы в книгах, спорте, кино и путешествиях. Теперь она уже не хотела слышать их мнение о том, что ей нравилось, и не больно-то хотела знать их мнение о том, что ей не нравилось. Картины здесь были чудовищными, в них не было даже детской избыточности. Они были старыми, тусклыми и печальными. Мария ненавидела слишком реалистичные вещи. Старение было реальностью. И чем старше вещи, тем они реальнее, и хотя она не боялась старости, вовсе не жаждала торопиться в этом направлении.
Мария понадеялась, что Луазо не будет слишком груб с тем англичанином, которого увел с собой. Лет десять назад она бы высказала Луазо что-нибудь, но теперь она научилась сдержанности, а в Париже сдержанность становилась все больше и больше насущной проблемой. Как и насилие, кстати говоря. Мария сосредоточилась на том, что ей говорил художник.
– …взаимодействие между человеческим духом и материальным миром, которым человек себя окружает…
Мария ощутила легкий приступ клаустрофобии. А еще у нее разболелась голова. Следовало бы принять таблетку аспирина, но она не стала, хотя знала, что лекарство снимет боль. Когда в детстве она жаловалась на боль, мать говорила, что в жизни женщины боль присутствует постоянно. Именно это и означает быть женщиной, испытывать боль изо дня в день. Мать находила в этой констатации некое стоическое удовольствие, но подобная перспектива в детстве приводила Марию в ужас. И по-прежнему пугала, и она была твердо намерена с этим бороться. Поэтому игнорировала любую боль, словно признание боли было равносильно признанию ее женской слабости. Так что она не станет принимать аспирин.
Мария подумала о своем десятилетнем сыне. Он жил с ее матерью во Фландрии. Не очень полезно для ребенка проводить много времени со стариками. Но это всего лишь временная мера, однако все то время, что он был там, Мария ощущала себя немного виноватой, когда ходила куда-то на ужин или в кино, или даже такими вот вечерами, как сегодня.
– Посмотрите на картину у дверей, – сказал художник. – «Холокост камо грядеши». Вы видите стервятника, который представляет собой эфемерный и…
Марии он надоел до смерти. Смешной дурак. Она решила, что пора уходить. Толпа стала менее подвижной, и Мария еще сильнее ощутила клаустрофобию, как среди неподвижно стоящих людей в вагоне метро. Она посмотрела в обрюзгшее лицо собеседника, в его глаза, жаждущие признания этой толпы людей, способных восхищаться лишь собой.
– Мне пора, – сказала она. – Уверена, выставка будет иметь грандиозный успех.
– Подождите секунду, – окликнул он, но Мария улучила просвет в толчее для своего бегства и выскользнула через запасный выход, прошла через двор и оказалась на улице. Он за ней не пошел. Наверняка уже положил глаз на другую женщину, которая могла бы заинтересоваться искусством на ближайшую пару недель.
Мария любила свою машину, не до умопомрачения, но гордилась ею. Заботилась о ней и отлично водила. Автомобиль стоял неподалеку от улицы Соссэ. Мария припарковалась рядом с министерством внутренних дел. Возле входа, которым пользовались по ночам. Она надеялась, что Луазо не продержит его слишком долго. В этом районе возле Елисейского дворца полно патрулей и огромных автобусов, набитых вооруженными полицейскими. Моторы работали всю ночь напролет, несмотря на цену на бензин. Конечно, они ничего ей не сделают, но само их присутствие нервировало. Мария посмотрела на часики. Англичанин там уже пятнадцать минут. Так, а вот дежурный полицейский смотрит куда-то во внутренний двор. Должно быть, это он выходит. Мария включила фары «ягуара». Точно в срок, как Луазо ей и сказал.
Глава 7
Женщина рассмеялась приятным музыкальным смехом.
– Они не ездят на «ягуарах». Можете не сомневаться, ни одна шлюха не разъезжает на модели «e-type». Разве это для них машина?
Это оказалась женщина из художественной галереи.
– Там, откуда я родом, их называют «мечта парикмахера».
Женщина засмеялась. Мне показалось, ее сильно позабавило, что я принял ее за проститутку на машине, промышляющую в этом районе. Я сел на соседнее сиденье, и она выехала мимо министерства внутренних дел на бульвар Мальзерб.
– Надеюсь, Луазо не очень вас мучил, – сказала она.
– У меня вид на жительство просрочен.
– Пф! – фыркнула она. – Принимаете меня за дуру? В этом случае вас вызвали бы в префектуру, а не в министерство внутренних дел.
– Что же тогда, по-вашему, ему было надо?
Женщина сморщила нос.
– Откуда мне знать? Жан-Поль сказал, вы расспрашиваете о клинике на авеню Фош.
– Предположим, я вам скажу, что сроду ничего не слышал об авеню Фош?
Она втопила педаль, и я увидел, как растет цифра на спидометре. С колесным скрежетом машина вывернула на бульвар Османн.
– Я бы вам поверила. Хотелось бы мне никогда о ней не слышать.
Я внимательно посмотрел на нее. Далеко не девочка, где-то около тридцати. Темные волосы, темные глаза. Тщательно наложенная косметика. Одежда соответствует машине: не супермодная, но отличного качества. Что-то в ее спокойной манере поведения подсказывало, что она побыла замужем, но явное дружелюбие также подсказывало, что сейчас она уже не состоит в браке. Не снижая скорости, женщина выехала на площадь Звезды и спокойно вписалась в трафик. Она поморгала фарами опасно приблизившемуся таксисту, и тот отвернул. На авеню Фош она свернула в проезд. Распахнулись ворота.
– Приехали, – сказала она. – Пойдемте глянем.
Большое здание стояло на собственной площадке. На закате французы тщательно закрывали ставнями окна на ночь. Этот мрачный дом не был исключением.
При ближайшем рассмотрении в штукатурке виднелись трещины, как морщины на небрежно накрашенном лице. На авеню Фош слышался шум машин, но за садовой оградой и как бы издалека.
– Значит, это и есть тот самый дом на авеню Фош? – сказал я.
– Да, – подтвердила девушка.
Большие ворота затворились за нашей спиной. А из тени показался мужчина с фонариком в руке. На цепочке он вел маленькую дворняжку.
– Идите вперед, – сказал он, вяло махнув рукой. Я предположил, что это бывший полицейский. Только они умеют так неподвижно стоять, не переминаясь с ноги на ногу. А собака – это овчарка в гриме.
Мы прошли по бетонному скату в большой гараж. Тут стояли штук двадцать иномарок разной стоимости: «форды», «феррари», «бентли» с откидным верхом. Стоявший возле лифта человек произнес:
– Оставьте ключи в зажигании.
Мария сняла мягкие туфли, в которых вела машину, и обула пару вечерних туфель на каблуке.
– Держитесь рядом, – тихо сказала она.
Я ласково потрепал ее по плечу.
– Ближе не надо, – проговорила она.
Когда мы поднялись на лифте на цокольный этаж, там оказался сплошной красный плюш и хрусталь. Декор в стиле конца века. И все тут звенело: смех, медали, кубики льда, монеты, люстры. Основное освещение давали резные газовые лампы с фонарями из розового стекла. Еще тут имелись огромные зеркала и фарфоровые вазы на подставках. Девушки в длинных вечерних платьях красиво сидели на широкой лестничной площадке, а бармен в одном из альковов разливал напитки настолько быстро, насколько мог. Очень фешенебельная обстановка. Конечно, тут не было республиканской гвардии в блестящих шлемах, выстроившейся вдоль лестницы с саблями наголо, но создавалось впечатление, что она была бы тут к месту.
Мария взяла два бокала шампанского и несколько канапе с черной икрой. Один из мужчин сказал:
– Сто лет тебя не видел.
Мария кивнула без особого сожаления.
– Тебе бы следовало тут быть нынче ночью. Одного из них чуть не убили. Он ранен. Сильно ранен.
Мария кивнула. Я услышал, как за моей спиной одна из женщин произнесла:
– Должно быть, ему страшно больно. Иначе он бы так не кричал.
– Они всегда кричат, это вовсе ничего не значит.
– Я могу отличить настоящий крик боли от имитации, – возразила женщина.
– Интересно, каким образом?
– В настоящем крике нет музыки, он резкий… скрежещущий. Некрасивый.
– Кухня великолепна, – раздался голос за моей спиной. – Очень тонко нарезанная копченая свинина подается горячей, нарезанные пополам холодные цитрусовые, чаши с необычными теплыми злаками, политыми кремом. И эти странные большие яйца, которые есть в Европе, умело зажаренные так, что желток остается почти сырым. Иногда копченая рыба разных сортов.
Я повернулся. Говоривший оказался китайцем средних лет в смокинге. А беседовал он с соплеменником. Заметив мой взгляд, он сказал:
– Я рассказываю коллеге об изысканном английском завтраке, которым всегда так наслаждаюсь.
– Это месье Кван-Тьен, – представила китайца Мария.
– А вы, Мария, просто неотразимы сегодня, – сказал месье Кван-Тьен. И добавил несколько фраз на мандаринском диалекте.
– Что это? – поинтересовалась Мария.
– Это стихотворение Сяо Хун-Мэй, поэтессы и писательницы, которая очень восхищалась западными поэтами. Ваше платье напомнило мне этот стих.
– Прочтите на французском, – попросила Мария.
– Оно местами не очень деликатное, – виновато улыбнулся китаец и тихо начал читать:
Вновь возрожденный, о май вожделенный,
Ласками грешницы – грех порожденный,
Сладкие слезы томят искушенье —
Груди вкусить, утонуть в ощущеньях.
Под руку в вечности смерть и рожденье,
Как счастье до дрожи – жизнь беспредельна,
И, если не белая роза она,
Краснее крови ее красота.
Мария засмеялась.
– А я думала, вы скажете «краснее Китайской Народной Республики».
– О, это невозможно, – тихонько рассмеялся месье Кван-Тьен.
Мария потащила меня прочь от двоих китайцев.
– Увидимся позже, – бросила она через плечо. И шепнула мне: – У меня от него мурашки по коже.
– Почему?
– «Сладкие слезы», «краснее крови»… – Мария вздрогнула, словно стряхивая эти воспоминания. – Есть в нем что-то болезненно-садистское, что меня пугает.
Сквозь толпу к нам протиснулся мужчина.
– Кто твой друг? – спросил он Марию.
– Англичанин, – ответила она. И добавила, солгав: – Старый друг.
– Выглядишь неплохо, – одобрительно кивнул мужчина. – Но я бы хотел увидеть тебя в тех туфлях на шпильке.
Он прищелкнул языком и рассмеялся. Но Мария даже не улыбнулась. Гости вокруг нас оживленно беседовали и пили.
– Прекрасно, – раздался знакомый мне голос. Месье Датт улыбнулся Марии. На Датте был черный пиджак, полосатые брюки и черный галстук. Выглядел он поразительно спокойным в отличие от большинства гостей: ни лихорадочно горящих глаз, ни смятого воротничка.
– Вы пойдете? – спросил он Марию и глянул на карманные часы. – Они начнут через две минуты.
– Не думаю, – ответила Мария.
– Ну конечно, пойдете! Ты же знаешь, что тебе понравится, – сказал Датт.
– Не сегодня, – возразила Мария.
– Ерунда, – ласково проговорил Датт. – Еще три схватки. Один из них громадный негр. Великолепная мужская фигура с огромными руками.
Датт поднял руку, наглядно демонстрируя свои слова, но при этом пристально смотрел на Марию. Она занервничала под его взглядом, и я почувствовал, как она крепче уцепилась за мою руку, как от страха. Раздался звонок, гости прикончили напитки и поспешили к задней двери.
Датт положил руки нам на плечи и повел в том же направлении, куда двинулась толпа. Когда мы миновали двустворчатые двери, я увидел обстановку зала. В центре возвышался бойцовский ринг, а вокруг рядами стояли стулья. Сам зал представлял собой роскошное помещение с позолоченными кариатидами, украшенным лепниной потолком, огромными зеркалами, изящными обоями и толстым красным ковром на полу. Пока зрители рассаживались, люстры начали потихоньку гаснуть. Воцарилась атмосфера предвкушения.
– Садись, Мария, – сказал Датт. – Это будет отличный бой. Море крови.
Ладонь Марии в моей руке была влажной.
– Не будь таким ужасным, – проговорила она, но выпустила мою руку и направилась к стульям.
– Сядь с Жан-Полем, – сказал Датт. – Я хочу побеседовать с твоим другом.
Рука Марии дрожала. Я огляделся по сторонам и увидел Жан-Поля. Он сидел один.
– Иди к Жан-Полю, – ласково повторил Датт.
Жан-Поль увидел нас и улыбнулся.
– Я сяду с Жан-Полем, – сказала мне Мария.
– Хорошо.
К тому времени, как она уселась, двое борцов уже сцепились на ринге. Один был, по моим прикидкам, алжирцем, у второго были крашеные ярко-желтые волосы. Мужчина с соломенными волосами атаковал. Алжирец скользнул в сторону, принял противника на бедро и сильно ударил головой. Треск костей от столкновения головы с подбородком был встречен дружным аханьем аудитории. Из дальнего угла зала донесся чей-то нервный смех. Бойцы на ринге отражались в зеркальных стенах по всему залу. Льющийся сверху свет оставлял глубокие тени у них под подбородком и ягодицами, а их ноги то исчезали в тени, то выплывали на свет, пока бойцы кружили, выбирая момент для атаки. В каждом углу зала висели телекамеры, подключенные к экранам, находящимся чуть в стороне. На экранах демонстрировалось записанное изображение.
Было очевидно, что на экранах идет запись, поскольку картинка была нечеткой и изображение чуть запаздывало по сравнению с действием на ринге. И благодаря этой задержке зрители могли еще раз посмотреть атаку при ее повторе на экране.
– Пойдемте наверх, – сказал Датт.
– Хорошо.
Схватка перешла в партер. Бойцы рухнули на мат, и нога светловолосого оказалась зажата в замке. Его лицо исказилось. Датт проговорил, даже не оглянувшись:
– Эта схватка отрепетирована. Светловолосый выиграет, после того как его чуть не задушат в последнем раунде.
Я проследовал за ним вверх по великолепной лестнице на первый этаж. Там оказалась запертая дверь. В клинику. Частную. Он отпер дверь и жестом пригласил меня войти. В углу стояла пожилая женщина. Я подумал, уж не прервал ли одну из бесконечных игр Датта в «Монополию».
– Вы должны были прийти на следующей неделе, – сказал Датт.
– Да, он должен был прийти на следующей неделе, – сказала старуха, приглаживая передник на бедрах, как смущенная горничная.
– Было бы лучше на следующей неделе, – повторил Датт.
– Это верно. На следующей неделе – без гостей – было бы лучше, – согласилась она.
– Почему все разговаривают в прошедшем времени? – спросил я.
Распахнулась дверь, и вошли двое молодых людей в джинсах и рубашках в тон. Один из них был небрит.
– Что происходит? – спросил я.
– Лакеи, – ответил Датт. – Слева – Жюль, справа – Альбер. Они пришли посмотреть честную игру. Так? – Парни кивнули без улыбки. Датт обернулся ко мне. – Просто лягте на кушетку.
– Нет.
– Что?
– Я сказал, что не лягу на кушетку.
Датт фыркнул. Он выглядел немного усталым. В его фырканье не было ни издевки, ни садизма.
– Нас тут четверо, – объяснил он. – И мы не требуем от вас ничего особенного, верно? Пожалуйста, прилягте на кушетку.
Я попятился к боковому столу. Жюль двинулся ко мне, а Альбер начал обходить слева. Я отступал назад, пока не уперся правым бедром в край стола, так, чтобы я точно знал, как стою относительно него. Я следил за их ногами. Можно много узнать о человеке по тому, как он ставит ноги. Можно определить, какую подготовку он прошел, будет ли он атаковать с места, станет ли вас тянуть или пытаться вынудить атаковать первым. Жюль по-прежнему наступал, выставив прямые ладони. С ним все ясно: часов двадцать занятий карате в спортзале. У Альбера чувствовался опыт кабацкого вышибалы. Он явно привык иметь дело с неповоротливыми самоуверенными пьяницами. «Ну что ж, – подумал я, – скоро он обнаружит, какой из меня неповоротливый самоуверенный пьяница, ага». Плотный Альбер надвигался, как поезд. Боксер, судя по тому, как ставит ноги. Умелый боксер, который пустит в ход все грязные трюки: удары головой, по почкам и по затылку, но воображает себя спецом по части прямых в корпус и отскоков. Я бы не удивился, увидев, что он бьет в пах. Я резко вскинул руки в спарринговую позицию. Да, он сразу прижал подбородок и мягко заплясал на носках.
– Прикидываешь свои шансы, а, Альбер? – поддел его я. Глаза парня сузились. Я хотел вывести его из себя. – Давай, тряпка, укуси-ка кулак!
Краем глаза я следил за хитрым маленьким Жюлем. Тот улыбался. Он тоже приближался, мягко и хладнокровно, дюйм за дюймом, выставив прямые ладони и дрожа от желания ударить.
Я чуть обозначил движение, чтобы заставить их и дальше наступать. Если они расслабятся, приостановятся и начнут думать, то, возможно, смогут со мной справиться.
Руки тяжеловесного Альбера двигались, одна нога выставлена вперед, правая рука внизу, готова нанести удар в корпус, когда Жюль ударит по шее. Ну, в теории. А на практике, к удивлению Альбера, мой металлический каблук впечатался ему в подъем ноги. «Ты ждал удара в корпус или в пах, Альбер, и потому чудовищно болезненный удар по ноге застал тебя врасплох». И равновесие сохранять стало тоже сложновато. Альбер согнулся, чтобы потереть несчастную конечность. Второй сюрприз для Альбера: короткий сильный удар нижней части ладони по носу снизу вверх. Отвратительно. Жюль ринулся вперед, костеря Альбера за то, что тот вынудил его торопиться. Жюль вынужден атаковать меня сломя голову. Я чувствую бедром край стола. Жюль думает, что я вынужден податься к нему. Сюрприз для Жюля: я откидываюсь назад аккурат в тот момент, когда он готов ударить меня ребром ладони по шее. Второй сюрприз для Жюля: я таки подаюсь к нему и бью в ухо изящным стеклянным пресс-папье с расстояния дюймов в восемнадцать. Пресс-папье оказалось не таким уж плохим оружием в конечном счете. А вот теперь главное – не сделать большую ошибку. «Не подбирай пресс-папье». Не подбирай пресс-папье. Я не стал подбирать пресс-папье, а направился прямиком к Датту. Он стоит, он может передвигаться, и именно его воля является направляющей силой в этом помещении.
Сбить с ног Датта. Он старик, но не стоит его недооценивать. Он крупный и тяжелый, и он близко. Более того, он может воспользоваться подручными средствами. Старуха горничная ведет себя осторожно, старается быть незаметной. По сути, неагрессивна. «Двигайся к Датту». Альбер перекатился и в принципе может напасть сбоку. Жюль лежит неподвижно. Датт передвигается вокруг стола. Значит, нужен какой-то снаряд. Чернильница. Слишком тяжелая. Письменные приборы разлетятся на куски. Ваза. Громоздкая. Пепельница. Годится. Датт по-прежнему двигался очень медленно и внимательно следил за мной. Рот приоткрыт, белые волосы разлохмачены, словно он побывал в стычке. Пепельница тяжелая и идеально подходит. «Осторожно, ты ж не хочешь его убить».
– Подождите! – хрипло проговорил Датт. Я подождал. Подождал секунд десять – ровно столько, сколько понадобилось старухе, чтобы подобраться ко мне сзади с канделябром. Она была, в общем, не агрессивна, старая горничная. Поэтому я пробыл без сознания всего полчаса, как они мне потом сказали.
Глава 8
Едва придя в сознание, я пробормотал:
– Вы, по сути, не агрессивны.
– Не агрессивна, верно, – согласилась женщина таким тоном, будто это серьезный недостаток.
Со своего места, лежа на спине, я не мог видеть никого из них. Женщина включила магнитофон. И неожиданно раздался женский плач.
– Я хочу это записать, – сказала старуха, но женский плач перешел в истерику, а потом в крик, будто женщину кто-то пытал.
– Выключи эту чертову штуковину! – рявкнул Датт. Было странно видеть его возбужденным – обычно он всегда оставался совершенно невозмутимым.
Старуха повернула выключатель в другую сторону, и женский крик буквально ввинтился мне в уши.
– В другую сторону! – заорал Датт. Звук смолк, но бобина продолжала крутиться, и крик стал едва слышен. Женщина снова всхлипывала. И в приглушенном виде эти всхлипы казались еще более отчаянными и беспомощными, будто плакал кто-то брошенный или запертый.
– Что это? – Горничная вздрогнула, но будто медлила выключить звук совсем. Наконец она все же довернула тумблер до конца, и бобины остановились.
– А на что это похоже? – буркнул Датт. – Женщина кричит и плачет.
– Господи, – вздохнула горничная.
– Успокойся, это всего лишь любительская театральщина. – Датт повернулся ко мне. – Любительская театральщина.
– Я вас ни о чем не спрашивал, – сказал я.
– Ну а я вам просто говорю.
Старуха перемотала пленку. Я уже окончательно пришел в себя и сел, чтобы осмотреться. У дверей стояла Мария с наброшенным на плечи мужским плащом и держала в руках туфли. Она неподвижно стояла у стенки и казалась несчастной. У газового камина сидел парень и курил маленькую сигару, покусывая кончик, ставший похожим на измочаленный конец веревки, и парень, вынимая сигару изо рта, всякий раз гримасничал, нащупывая языком во рту кусочки табака и сплевывая их. Датт и старуха горничная облачились в старомодные французские медицинские халаты с высоким воротничком на пуговицах. Датт возле меня со сноровкой опытного врача перебирал инструменты на подносе.
– ЛСД ему вкололи? – спросил он.
– Да, – ответила служанка. – Скоро подействует.
– Вы ответите на все наши вопросы, – сообщил мне Датт.
Я знал, что так и будет. Правильно примененный барбитурат мог свести на нет всю мою многолетнюю подготовку и все навыки и сделать меня таким же покладистым и болтливым, как маленького ребенка. А что способен со мной сделать ЛСД, можно только догадываться.
Ну и способ проигрывать и раскалываться. Меня передернуло. Датт похлопал меня по руке.
Старуха ему ассистировала.
– Амитал, ампулу и шприц, – велел Датт.
Женщина вскрыла ампулу и заполнила шприц.
– Нужно действовать быстро, – сказал Датт. – Через тридцать минут это будет бесполезно, препарат действует недолю. Пододвинь его, Жюль, чтобы она могла пережать вену. И протри спиртом, незачем быть негуманным.
Я почувствовал на шее теплое дыхание, когда Жюль послушно рассмеялся над шуткой.
– Зажми вену, – приказал Датт.
Старуха пережала мне предплечье и подождала, пока не вздуются вены. Я с интересом наблюдал за процессом: кожа и металлические предметы казались неестественно яркими и блестящими. Датт взял шприц, и старуха сказала:
– В маленькую вену с тыльной стороны. Если она схлопнется, то останутся еще основные.
– Отличная мысль, – кивнул Датт. Он трижды прокалывал кожу в поисках вены, шаря иголкой до тех пор, пока кровь щедрой красной струей не хлынула в шприц. – Отпускай, – велел Датт. – Отпускай, или останется синяк. А нам важно этого не допустить.
Женщина отпустила мою руку, а Датт, глядя на часы, начал равномерно вводить наркотик со скоростью кубик в минуту.
– Скоро он испытает сильное облегчение, практически оргазм. Держи наготове мегимид. Я хочу, чтобы он мог отвечать на вопросы минимум пятнадцать минут.
Датт посмотрел на меня.
– Кто вы? – спросил он по-французски. – Где вы находитесь, какой сегодня день?
Я рассмеялся. Его чертова иголка колола чью-то чужую руку, и это было самое смешное в этой истории. Я снова засмеялся. Мне хотелось быть абсолютно уверенным насчет руки, и я внимательно ее оглядел. Из белой кожи торчала иголка шприца, но рука не имела отношения к моему плечу. Он умудрился загнать иглу в кого-то другого. Я так зашелся в хохоте, что Жюлю пришлось меня придержать. Должно быть, я толкал того, в чью руку вогнали иглу, потому что Датту было трудно удерживать ее на месте.
– Подготовь мегимид и баллон, – сказал месье Датт, у которого росли волосы – белые волосы – в ноздрях. – Не могу дальше осторожничать. Мария, быстро иди сюда, ты нужна прямо сейчас. И парня подведи поближе. Будет свидетелем, если такой вдруг понадобится.
Датт с грохотом уронил что-то на эмалированный поднос. Я теперь не мог видеть Марию, но чувствовал аромат ее духов. Готов поспорить, это «Ma Griffe», тяжелый и экзотичный запах, ух ты! У этого аромата оранжевый цвет. Оранжевый цвет с некоторой шелковистостью.
– Да, так, – сказал Датт, и я услышал, как Мария тоже говорит оранжевым голосом. Все знают, подумал я, все знают цвет духов «Ma Griffe».
Огромный оранжевый апельсин раскололся на тысячи осколков, и каждый сверкал, как Сен-Шапель в полдень, и я скользил сквозь сияющий свет, как ялик по гладкой воде, низко плыли белоснежные облака, а яркие краски переливались и музыкально журчали подо мной.
Я глянул в лицо Датта и испугался. Его нос стал огромным, не просто большим, а чудовищным, куда больше чем может быть нос человека. Я испугался увиденного, потому что понимал: лицо Датта оставалось прежним, это у меня проблемы с восприятием. Но даже осознание того, что искажение происходит исключительно в моем мозгу, а с лицом Датта все нормально, не изменило образа. Нос Датта вырос до гигантских размеров.
– Какой сегодня день? – спросила Мария. Я ответил. – Просто бессмысленное бормотание. Слишком быстро и неразборчиво.
Я прислушался, но не услышал никакого бормотания. Ее ласковые глаза смотрели, не моргая. Она спросила, сколько мне лет, поинтересовалась датой моего рождения и задала еще кучу личных вопросов. Я выложил ей все и даже больше, чем она хотела. Поведал о шраме на колене и том дне, когда дядя вставил монетки в высокое дерево. Я хотел, чтобы она знала обо мне все.
– Моя бабушка говорила: «Когда мы умрем, то попадем в рай». И добавляла, обозрев окрестности: «Потому что наверняка здесь – ад». У старого мистера Гарднера была «нога атлета»,[2]2
Разговорное название грибкового заболевания стопы.
[Закрыть] тогда чьей же была вторая нога? Цитировал: «Пусть, как солдат, я умру…»
– Желание открыться, довериться, – раздался голос Датта.
– Да, – согласился я.
– Я введу ему мегимид, если он зайдет слишком далеко, – сказал Датт. – Пока что все нормально. Отличная реакция. Просто отличная.
Мария повторяла все, что я говорил, будто Датт не слышал это собственными ушами. Причем повторяла не один раз, а дважды. Сперва говорил я, потом она, а потом она снова повторяла то же самое, но иначе. Иногда настолько иначе, что я поправлял ее, но она не обращала внимания на мои поправки и продолжала говорить своим милым голоском. Чудесным звонким и гладким голосом, музыкальным и печальным, как звук гобоя в ночи.
Периодически возникал голос Датта, низкий и далекий, быть может, из соседней комнаты. Казалось, все они говорят и думают очень медленно. Я охотно отвечал Марии, но проходила целая вечность, пока наставал черед следующего вопроса. И постепенно я устал от долгих пауз. И заполнял их, рассказывая анекдоты и пересказывая прочитанное. Было такое ощущение, что я знаком с Марией давным-давно, и помню, я сказал «передача», и Мария повторила за мной, а Датт казался очень довольным. Я обнаружил, что очень легко облачать мои ответы в стихотворную форму, не совсем в рифму, должен заметить, – но я старался. Я мог скатывать эти чертовы слова, как замазку, и отдавать Марии, но она иногда роняла их на мраморный пол. Они бесшумно падали, но тень эха от их падения отражалась от стен и мебели. Я снова рассмеялся, размышляя, на чью же обнаженную руку я смотрю. Хотя запястье вроде бы мое, я узнал часы. А кто порвал рубашку? Мария что-то говорила снова и снова, быть может, повторяла вопрос. Чертова рубашка обошлась мне в три фунта десять центов, а они ее порвали. Порванная ткань была изумительной, ажурной и походила на драгоценность. Голос Датта произнес:
– Все, он отключается. В том-то и проблема с этим, что действует очень недолго.
Мария сказала:
– Что-то насчет рубашки. Я не поняла, очень быстро говорит.
– Не важно, – отмахнулся Датт. – Ты отлично поработала. Слава Богу, что ты тут оказалась.
Я удивился, с чего это они говорят на иностранном языке. Я выложил им все. Предал своих нанимателей, мою страну, мой департамент. Они вскрыли меня, как дешевые часы, потрогали заводной механизм и посмеялись над его примитивной конструкцией. Я провалился. И тьма накрыла меня, как опустившийся занавес.
Тьма. Голос Марии произнес:
– Он отключился.
И я улетел, паря белой чайкой в черном небе, а подо мной простиралась еще более темная и манящая водная гладь. И глубина, глубина, глубина…