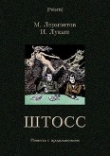Текст книги "Младший советник юстиции (Повесть)"
Автор книги: Лазарь Карелин
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 16 страниц)
Так стояли они друг перед другом, и ни один не решался прервать рукопожатие, понимая, что в нем заключалась последняя надежда на примирение, на возврат к былой, зародившейся еще в детстве дружбе. Томительная тишина стояла вокруг, и казалось, не будет ей конца, как не будет конца и тому, что происходило сейчас между Зотовым и старым Лукиным. И вдруг рядом с ними возникла маленькая фигурка Струнникова. Куда девалась его воинственность? Тихим, даже задумчивым показался он в этот миг Трофимову. Задушевно и мягко прозвучали его слова:
– Друзья, друзья мои, не растопчите дружбу… Нельзя… Нельзя.
Его рука легла на руки стариков, их хмурые лица просветлели, и они с благодарностью взглянули на душевно понявшего их сейчас человека.
Татьяна бросилась к Струнникову, обняла его и, улыбаясь сквозь слезы, что-то зашептала ему на ухо, а он, слушая ее и ласково ей кивая, легко подталкивал ее к выходу, к двери, через которую проникали сюда лучи весеннего солнца.
Зал быстро пустел. Наконец ушел и подсудимый, и в большой комнате остались лишь почему-то медливший уходить Михайлов и Трофимов.
– Вы ко мне? – обращаясь к Трофимову, спросил прокурор.
Трофимов подошел к Михайлову.
– К вам.
– Не мне ли на смену приехали?
– Так точно, прислан сюда на работу. Младший советник юстиции Трофимов, – отрекомендовался он.
– Ну вот, я так и понял, как увидел вас, так сразу и догадался, – растерянно улыбаясь, сказал Михайлов. – Что это, думаю, за гражданин такой суровый сидит? А это вон кто… Сразу, значит, решили с суда начать? Можно и так, можно и так. Прошу ко мне, – пригласил он. И, досадуя на себя за внезапно охватившее его волнение, Михайлов, не оглядываясь, пошел к выходу.
4
Прокуратура помещалась в этом же доме.
Михайлов ввел Трофимова в кабинет и вызвал секретаршу.
– Попросите ко мне помощников, – сказал он.
Молоденькая секретарша понимающе кивнула и неслышно, одними губами, спросила:
– Он?
– Идите, идите! – Михайлов тяжело спустился в кресло. – Вот и в отставку меня, – произнес он упавшим голосом, уже не пытаясь больше скрывать от Трофимова своего огорчения. – Верно, устал… Всякое пустяковое дело выматывает. Сегодняшнее, например. Ну что в нем особенного? А я из-за упрямства этого мальчишки разволновался больше, чем на серьезном процессе.
Трофимов, медленно прохаживаясь по кабинету, внимательно слушал Михайлова. Недавнее раздражение против него улеглось, и Трофимов с сочувствием смотрел сейчас на этого пожилого, грузного человека, видно не легко переживавшего перемену в своей судьбе.
Трофимов видел, что Михайлов ждет от него каких-то объяснений, которые помогли бы ему разобраться в случившемся, и не столько разобраться, сколько узнать, что думают об этом другие.
Но что мог сказать ему Трофимов? Пожалеть его? Утешить? Нет, слова сочувствия прозвучали бы сейчас ложно. Больше того, они оскорбили бы Михайлова.
Почти не зная этого человека, наблюдая лишь за тем, как он вел себя на суде, Трофимов все же не мог не почувствовать, что старому прокурору присуща уверенность в собственной непогрешимости.
Прокурорская непогрешимость! Как часто предостерегали Трофимова его старшие товарищи не поддаваться этому чувству. Да и собственный следовательский опыт говорил о том же. Стоило только прокурору уверовать в свою непогрешимость, как мгновенно притуплялось его зрение большевика и защитника государственных интересов.
– Все-то вы не то говорите, дорогой коллега, – сказал Трофимов.
Михайлов встрепенулся и с надеждой посмотрел на собеседника. Он был рад, что ему возражают, что он в чем-то ошибается, и сейчас этот молодой человек со строгими, внимательными глазами скажет ему желанные, обнадеживающие слова: «О какой отставке вы говорите? Вас посылают на учебу, чтобы подготовить для более высокого назначения. В области о вас отзывались самым лестным образом…»
Трофимов хорошо понимал, как трудно сейчас Михайлову. Даже самый строгий ревнитель истины вряд ли упрекнул бы Трофимова за то, что он, знакомясь с Михайловым, немного покривил бы душой. И таким милым и приятным был бы этот мирный разговор двух только что познакомившихся людей, одному из которых предстояло занять место другого.
Но именно потому, что предстоящий разговор мог бы стать таким милым и приятным, таким, честно говоря, ненужным, Трофимов, припоминая поведение Михайлова на суде, решил говорить с ним напрямик.
– Об отставке говорить рано, – сказал он. – Ну, а учиться всем нам, товарищ Михайлов, необходимо. – С досадой на себя Трофимов подумал, что начал разговор с человеком и старше и опытнее себя слишком уж назидательно и сухо, но отступать было поздно. – вот вы утверждаете, что дело Лукина – пустячное, простое дело. А я думаю, что это не так. Еще двадцать лет назад проступок Лукина не показался бы нам таким диким и невероятным. Тогда еще были свежи в памяти традиции старой, дореволюционной семьи и нет-нет да и напоминали о себе прежние домостроевские порядки. Сегодня же этот случай – чрезвычайное происшествие.
«Ну, вот! Ну, вот! слушая Трофимова со все растущим раздражением, думал Михайлов. – Меня уже поучают, мне уже читают лекции! Да откуда он взялся, этот без году неделя прокурор?»
– Прописи, прописи излагаете, молодой человек! – сказал он.
– Младший советник юстиции, – протягивая служебное предписание, поправил его Трофимов.
Михайлов взял предписание и долго, точно сомневаясь в том, что там написано, держал его перед глазами.
– Юрист первого класса Михайлов, – в тон собеседнику представился он и опять с раздражением подумал: «Знает, что званием меня повыше, оттого и смел так». – Прописи, прописи! – упрямо повторил Михайлов вслух. – И что учиться надо – знаю. И что драться не надо – знаю. И то еще знаю, что все дело Лукина вмещается в сто сорок шестую статью уголовного кодекса РСФСР. А статья эта, товарищ младший советник юстиции, не так уж строга.
– По наказанию?
– Вот именно!
– А по смыслу содеянного? И потом, товарищ Михайлов, давайте условимся, что мы, коли зашел между нами откровенный разговор, не станем заниматься юридической пикировкой, а попробуем серьезно разобраться в том, что вы называете «пустяковым делом», а я – «чрезвычайным происшествием».
Михайлов резко наклонил голову.
– Ну что ж, давайте!
Трофимов опять медленно прошелся по кабинету, остановился перед висевшим на стене в рамке печатным текстом, прочел его и только после этого, как бы мимоходом, заметил:
– Рано говорить о наказании, когда не знаешь, за что наказывать.
– Как так не знаешь? – изумился Михайлов. – Ударил жену – вот за что.
– Почему ударил?
– Ну, минутное раздражение, возможно, обида, – замявшись, сказал Михайлов. – Похоже, что Лукин и сам толком не знает, из-за чего ударил.
– Ну, а прокурор должен знать?
– Я знаю главное: подсудимый совершил преступление против личности и по советским законам должен понести соответствующее наказание.
– Согласен. Но не странно ли? Советский молодой человек, хороший работник и вдруг бьет свою жену. Возможно ли это? А если возможно, то почему? От этого «почему?» вам никуда не уйти. Прокурор обязан добиться ясного ответа на этот вопрос.
Трофимов посмотрел на Михайлова. Тот сидел хмурый, все так же упрямо склонив голову, и молчал.
– Ответ этот необходим вам, чтобы потребовать для подсудимого заслуженного им наказания, – продолжал Трофимов. – Он необходим суду, чтобы вынести виновному справедливый приговор. И прежде всего необходим самому Лукину, его жене, их близким. Нужно, чтобы суд помог Лукину разобраться в случившемся и, если это возможно, сберег молодую семью.
Трофимов снова вопросительно взглянул на Михайлова, и ему вдруг стало жаль его и показалось, что весь их разговор сложился как-то неудачно. Он был прав, когда обвинил Михайлова в неверном, поверхностном подходе к делу Лукина, был прав, когда предположил в своем предшественнике пагубную для прокурора убежденность в собственной непогрешимости. Все это так. Но нужных слов, которые помогли бы Михайлову взглянуть на себя со стороны, Трофимов все же не нашел. А в этом-то и заключался весь смысл их разговора.
И вот, сняв со стены заключенный в рамку печатный текст, перед которым он только что останавливался, Трофимов негромко и раздельно, словно стараясь уяснить самому себе каждое слово, начал читать:
– «От прокурора зависит направление каждого дела. Мы требуем и вправе требовать от прокурора, чтобы ни один невинный не был привлечен к суду. Мы требуем от него такой постановки и такого обоснования обвинения, которые действительно помогли бы судье разобраться в деле; мы требуем от прокурора такой постановки работы, такой организации борьбы за социалистическую законность, при которой каждый рабочий, каждый колхозник, каждое советское учреждение было бы гарантировано от бюрократических извращений, когда каждый был бы уверен в том, что его законные права и интересы охраняются и что на охране этих интересов стоит специально поставленный советской властью прокурор». – Трофимов кончил читать и взглянул на Михайлова. – Нам ли не помнить этих слов Михаила Ивановича Калинина! – мягко добавил он.
– Но это совсем о другом, совсем о другом! – воскликнул Михайлов. – Никто не может упрекнуть меня, что я не защищаю интересов граждан, что я бюрократ!
– Нет, это о том же самом, товарищ Михайлов, – так же мягко сказал Трофимов. – Да, суд встал на защиту Лукиной. Но ведь в ее интересах – и это не менее важно, – чтобы суд, кроме того, помог ей разобраться в случившемся, помог ей вынести свой собственный справедливый приговор по делу, от которого зависит вся ее будущая жизнь…
Михайлов поднял голову, собираясь, видимо, что-то возразить, но в это время в кабинет вошли помощники прокурора.
– Вот, товарищи, ваш новый начальник – младший советник юстиции Трофимов, – сказал им Михайлов.
– Здравствуйте, товарищи, – Трофимов шагнул навстречу стоявшим в дверях сотрудникам прокуратуры.
Немолодая женщина с тремя звездочками юриста второго класса на погонах приветливо глядела на Трофимова. Видно, не опытом даже, а каким-то материнским чутьем догадалась она о перенесенной им трудной жизни, о тяжких испытаниях, выпавших на его долю.
Он же, вглядываясь в ее доброе, в крупных, но не резких морщинах лицо, узнал в ней одну из тех, которые еще в первые годы советской власти вступили на путь равноправной с мужчинами государственной деятельности, не утеряв при этом добродушия и мягкости простой русской женщины.
Трофимов назвал себя и крепко пожал ей руку, ощущая в ее ответном пожатии то дружеское расположение, которое так всегда дорого при первом знакомстве.
– Ольга Петровна Власова, помощник прокурора по общему надзору, – отрекомендовалась она.
– А вы, значит, по уголовным? – обратился Трофимов к невысокому, подтянутому, в отлично сшитом кителе молодому человеку.
– Точно, – улыбнулся тот. – Юрист второго класса Находин Борис Алексеевич.
Находину было лет тридцать, но лицо его – вздернутые брови, короткий задорный нос и смешливые складочки возле рта – таило в себе такое мальчишеское озорство, что Трофимов с некоторым сомнением снова взглянул на его погоны. Однако не звездочки на погонах, а пристальный, изучающий взгляд Находина разом убедил Трофимова в том, что его помощник по уголовным делам куда взрослее и серьезнее, чем это могло показаться с первого взгляда.
– Присаживайтесь, товарищи, – сказал Михайлов. – Да, у меня к вам просьба… – обращаясь к Трофимову, замялся он, – личная…
– Слушаю вас.
– Я-то, вероятно, за неделю передам вам все дела и уеду на курсы, а вот семья… Дочка, понимаете, заканчивает десятилетку. Так нельзя ли им пока, ну месяц-полтора, пожить на прежней квартире? Ольга Петровна вам уж и комнату нашла. Чудесные люди, тихо, чисто…
– Я так и предполагал, – ответил Трофимов. – Куда мне одному целая квартира? – Он обернулся к Власовой: – Большое спасибо вам за заботу.
– Какая там забота! – смутилась Власова. – Даже и не встретили вас. Но уж в этом вы сами виноваты – надо было предупредить, что едете.
– Да как бы вы меня на станции узнали, кого же встречать-то? – рассмеялся Трофимов. – Впрочем, не думайте, что меня не встретили. – Трофимов вспомнил старика Чуклинова и подумал: «Вот, Егор Романович, я уж и осматриваться начинаю. Жди скоро в гости – на весенний мед да на прямой разговор».
– Когда начнете знакомиться с делами? – спросил Михайлов.
– Я думаю, порядок установим такой: сначала дела, не терпящие отлагательства, затем письма граждан. Я предполагаю ознакомиться со всеми жалобами, поступившими в прокуратуру в течение ну хотя бы последнего года. Это поможет мне возможно скорее войти в жизнь района.
– Не много ли будет? – пожал плечами Михайлов. – Тут ведь одного чтения на неделю хватит.
– Как-нибудь осилю, – улыбнулся Трофимов. – А кроме того, думаю, придется не столько читать, сколько ездить и разговаривать.
– Это так, это так, – согласился Михайлов и с сомнением покачал головой. – А управитесь?
– Будем работать все вместе, – и Трофимов указал на Власову и Находина. – Должны управиться.
5
У выхода Таню Лукину поджидали подруги. Стараясь казаться веселыми, точно никакого суда вовсе не было, они окружили ее, затормошили, забросали ничего не значащими словами. И вышло так, что и Таня вдруг улыбнулась, что-то спросила, что-то ответила и посветлела лицом – то ли от теплого весеннего ветра, то ли оттого, что оказалась среди друзей.
А Зотов, Лукин и Струнников вместе дошли до угла. Здесь предстояло разойтись по домам, но, потоптавшись на месте, они все так же, втроем, двинулись к берегу реки, где им делать, в сущности, было нечего.
Впрочем, дело сразу нашлось. Лукин сказал, что давно собирается осмотреть свою лодку, чтобы выяснить, не надо ли ее просмолить.
Зотов огорчился, что эта простая мысль не пришла ему в голову первому, ведь и у него на берегу лежала лодка. Он пробормотал что-то про мостки для полоскания белья. Давно бы надо поглядеть, что с ними делать, а то жена говорит, что вот-вот обвалятся.
Струнников ничего не придумал, чтобы оправдать свое решение идти на реку. Всем своим озабоченным видом он как бы показывал, что ему нет никакого дела до лодки или мостков, что все это пустое и он просто обязан сопровождать Зотова и Лукина, которых нельзя сейчас оставить одних.
Молча пересекли они городскую площадь, по одну сторону которой в тиши деревьев стоял собор, а по другую тянулись торговые ряды и шумел весенний базар.
Молча прошли они по удивительно тихой после базарного гомона приречной улице, стороной обогнули пихтарниковый овражек, который неведомо как петлял между домами, и вышли к реке.
Здесь было пустынно. Тянуло свежим, пахнущим сырой землей ветерком. Видно, в лесу, по оврагам, земля только-только освободилась от снега.
Лукин поискал глазами свою лодку.
На солнцепеке килем вверх лежала свежепросмоленная, сочащаяся варовой слезой двухвеселка.
Старики подошли к ней, и Лукин, пачкая руки варом, стал прощупывать проконопаченные пазы.
– Чего же ее осматривать? – усмехнулся Зотов. – Лодочка обихожена – спускай на воду и плыви.
– Видать, Константин просмолил. Берется не за свое дело. – И Лукин с досадой обтер ладони о ветошь, лежавшую под кормовым сиденьем.
Лодка, с виду грязная и неказистая, свободным размахом бортов, узким, щучьим изгибом днища и прочными гнездами для уключин порадовала его рыбацкое сердце.
– А что, Дмитрий Иванович, – весело глянул он на Струнникова, – для рыбацкого дела лодочка в самый раз?
– Лучше и не сыскать! – самоотверженно марая руки в варе, обгладил борта лодки Струнников.
Двинулись дальше. Зотов спустился к самому берегу, где прилажены были мостки для полоскания белья.
«Экая неловкость! – подумал он, разглядывая новые без единого изъяна доски мостков. – Когда же успели их починить?»
Зотов ткнул сапогом в край мостков, но они даже и не дрогнули.
– Чего же ты ногами-то орудуешь? – смеясь, спросил его Лукин. – Жена, чай, не ломать их тебя просила.
– Кто-то уж починил, – смущенно пробормотал Зотов и, захватив в горсть несколько камешков, швырнул их в воду.
Голыши не долетели и до середины узкой реки.
– Эх, старость – не радость! – Лукин нашел на берегу плоский камешек, прикинул его на руке и метнул с таким удальством, с такой неожиданной ловкостью и силой, что голыш гоголем проскакал по воде и ткнулся в противоположный берег.
– А ну-ка, Павел!
Зотов неодобрительно покачал головой, но рука его уже потянулась за камнем. Он сбросил картуз, разбежался – даром что шестьдесят лет за плечами – и взмахнул рукой:
– Эх!
Чуть не долетев до противоположного берега, голыш шлепнулся в воду.
– Вот тебе и эх! – торжествующе глянул на него Лукин.
– Практики нет, – серьезно огорченный неудачей, сказал Зотов.
– Что практика? Ты и мальчишкой хуже меня кидал.
– Ну, уж и хуже!
– Смотри-ка! – Лукин кивнул на Струнникова.
Отойдя в сторону, Струнников сбросил с себя пиджак и, петушком подскакивая на месте, бросал в воду камни. Они падали совсем близко от берега, но Струнников только кряхтел и не унимался.
– Как дитя малое, – растроганно сказал Лукин. Голос его дрогнул. – А что, Паша… – Тяжело шагнув к другу, он положил руку ему на плечо. – Надо бы нам самим все дело решить, без суда, без позора… Выпороть бы его, как нас с тобой в детстве пороли, и делу конец.
– Выпороть? – Зотов задумался, не сразу нашлись у него ответные нужные слова.
Со стороны Струнникову показалось, что старики обнялись. Ему вдруг стало зябко без пиджака и одиноко оттого, что ни Зотов, ни Лукин совсем не нуждались в нем, занятые своей дружбой и своим разговором.
– Поротый муж, битая жена, – тяжело выговаривая слова, сказал Зотов. – Нет, Иван, не о такой жизни мечтали мы для наших детей.
Подруги проводили Таню до самого дома. Попрощались, взяв с нее слово, что она придет вечером на открытие городского сада, и ушли.
– Я за тобой зайду! – крикнула, уже сворачивая за угол, одна из девушек.
Улица опустела. Но Тане казалось, что она все еще слышит голоса подруг, видит их оживленные лица. Она стояла у калитки и смотрела на длинные закатные тени от деревьев, медленно подползавшие к ее ногам. Очень не хотелось идти домой, снова остаться наедине со своими мыслями, снова войти в привычный мир прежних вещей, которые стали ненужными ей и даже – она вдруг отчетливо ощутила – враждебными.
И она представила себе свой дом таким, каким он прежде возникал перед ее глазами. Но это была не внешность комнат, хотя она могла бы припомнить там каждую мелочь, каждый гвоздь, каждую половицу. То, что промелькнуло перед ее внутренним взором, рождало слитное ощущение радости, счастья, и трудно было выделить из этой светлой картины главное или второстепенное. Все было главным: и то, как, радуясь холодному утреннему ветру, распахивал Костя окна в их комнате, и то, как, подражая отцу, важно усаживался за обеденный стол, и то, как задорно встряхивал головой, когда говорил об их будущем, делился с ней своими мечтами. Все было главным. И ничего этого больше не было… Константин с того дня жил у своих стариков, а здесь остались одни лишь стены, и столы, и стулья, и полки с книгами – мертвые свидетели, их былой жизни.
– Нет, нет, не хочу, не надо! – прошептала Таня и побежала прочь от своего дома.
Она шла, не разбирая дороги, и остановилась только тогда, когда чьи-то сильные руки обняли ее за плечи. Таня подняла голову: перед ней стоял отец, а чуть поодаль – старик Лукин и Струнников.
– Что с тобой, дочурка мой? – спросил Зотов. – Обидел кто?
Выражение его лица, растерянное и гневное, говорило о такой боли за дочь, что мысли о себе, о своем горе оставили Таню и сменились тревогой за отца.
– Я искала вас, папа, – сказала она, и это было правдой. – Я хочу домой, к вам…
– Вот и хорошо, вот и хорошо, – поспешно сдергивая с себя пиджак и накидывая его на плечи дочери, прошептал Зотов. – А где ж тебе жить теперь, как не у себя – в родном доме?..
6
Уже стемнело, когда Трофимов, распрощавшись со своими новыми сослуживцами, вышел из прокуратуры.
Центральная улица, проходившая через весь город, была освещена редкими, но яркими фонарями. И, возможно, оттого, что фонари эти светились поодаль один от другого, улица представлялась Трофимову совсем иной, чем днем. Что-то знакомое было и в широкой, мерцающей огнями, дали, и в негромких голосах прохожих, и в тишине садов за высокими оградами, откуда тянуло горьковатым запахом зацветающей черемухи.
Но что это? Отчего вдруг он остановился, отчего задрожали его руки, когда, закуривая папиросу, он долго чиркал гаснущими на ветру спичками?
«Полтава?» – остро ощутив колющую боль в сердце, подумал Трофимов.
Да, эта вечерняя улица незнакомого города напомнила ему Полтаву, прошлое, юность. И, как это часто бывает, вместе с мыслями о прошлом пришли думы о настоящем, точно на незримых весах сравнивалось и взвешивалось то, что было, с тем, что есть.
Юноша-следователь в Полтаве и прокурор района здесь, в Ключевом, шли по жизни одинаково решительно. Разница была только в возрасте, но разница огромная, и все, прежде казавшееся таким простым и доступным, теперь стало сложнее и интереснее. Вот хотя бы этот первый день на новой работе… Нет, годы не сделали Трофимова уступчивей, не притупили в нем юношеской нетерпимости ко всему, что шло в разлад с его убеждениями. Они углубили его опыт, вооружили знаниями и, что очень важно, – терпением.
Трофимов вспомнил Лукиных, Михайлова, Струнникова, старика Чуклинова, вспомнил даже дежурную из гостиницы – сколько новых людей встало на его жизненном пути за один только день! И сколько бы их ни было, каждый, буквально каждый стоил того, чтобы о нем думали, заботились, чтобы его берегли.
«Не слишком ли много я на себя беру? Не ошибаюсь ли? – подумал Трофимов и тут же сам себе возразил: – Но разве я надеюсь только на свои силы? Или на силы Власовой и Находина? Нет, у меня куда больше помощников. Вот они, эти еще не знакомые мне люди, что идут сейчас навстречу, и сотни людей за стенами этих домов, люди, мысли и стремления которых сходятся на одном слове: „Коммунизм!“».
Только теперь Трофимов заметил, что не идет, а почти бежит по улице.
«Куда это я?» – улыбнулся он и, вспомнив об адресе, который дала ему Власова, решил сейчас же разыскать этот дом…
Дверь Трофимову открыла высокая пожилая женщина. Несмотря на возраст, она держалась прямо, и движения ее были плавны и легки. Она слушала объяснения Трофимова о том, кто и зачем его к ней прислал, и смотрела на него так, будто хорошо понимала, почему он, не дождавшись утра, бросился отыскивать ее дом.
– Пойдемте.
Женщина взяла Трофимова за руку и повела в комнату.
– Марина, а ведь вышло по-моему! – громко обратилась она к кому-то, и в голосе ее прозвучали молодые нотки.
Яркий свет после полутемной прихожей ударил Трофимову в глаза, и он остановился на пороге.
В глубине комнаты, перед большим стенным зеркалом, стояла девушка.
– Ты о чем, мама? – спросила она.
Слова, произнесенные ею, прозвучали звонко и протяжно, словно обронила она их невзначай, думая совсем о другом. Трофимов увидел, как медленным, округлым движением она вскинула руки к голове, оправляя тяжелые русые волосы, и, глядя в зеркало, лишь чуть-чуть повела в его сторону глазами.
– Да о том, – сказала мать, – что Ольга Петровна ошиблась, даром что прокурор – знаток человеческих душ. – Она обернулась к Трофимову: – Власова-то ваша только что звонила мне, предупреждала, что вы придете завтра, а я усомнилась: «Нет, говорю, сегодня заявится, обязательно сегодня». И то сказать, в домах свет, люди, жизнь, а ты один во всем городе – ни родных, ни знакомых.
– А мы, по-твоему, знакомые? – улыбнулась дочь.
И опять слова эти прозвучали как бы невзначай, а ее улыбка – открытая, ясная – обращена была вовсе не к Трофимову, и не к матери, а куда-то мимо них, к тому, что жило сейчас в глазах этой девушки.
– Конечно, знакомые, – рассмеялась мать. – Ведь вас Сергеем Прохоровичем зовут?
– Верно, – улыбнулся Трофимов. – А вас – Евгенией Степановной?
– Тоже верно. Знакомьтесь, моя дочь Марина, санитарный врач города и весьма строгий товарищ, но вы ее не бойтесь: она в отца – накричит, разнесет и тут же помилует.
– Надеюсь, мы будем друзьями, – сказал Трофимов.
– Может быть, если вы не очень похожи на Михайлова… – Марина протянула Трофимову руку: – Белова.
– Вот как? Что же он такое натворил?
– В том-то и дело, что он ничего не натворил, а надо бы.
– Ну-ну, не ко времени разговор, – становясь между дочерью и Трофимовым, с улыбкой сказала Евгения Степановна. – Пойдемте, Сергей Прохорович, я вам покажу вашу комнату, а потом будем чай пить.
Она снова дружески взяла Трофимова за руку и, как маленького, повела его за собой.
– Вот… Это кабинет моего покойного мужа.
Комната, куда ввела Трофимова Евгения Степановна, была вся заставлена книжными шкафами и полками. Широкий письменный стол был почти пуст – стопка чистой, пожелтевшей от времени бумаги, большая необтесанная глыба кварца, в которой было выдолблено гнездо для чернильницы, настольная лампа и рядом с ней маленькая фотография Владимира Ильича, читающего «Правду».
Трофимов подошел к столу, взглянул на эту с детских лет знакомую фотографию Ленина, на полки с книгами, на образцы горных пород, аккуратно разложенные на подоконниках, и сразу почувствовал себя здесь дома, среди родных и близких людей.
– Разрешите? – он вопросительно посмотрел на Евгению Степановну, а руки его уже потянулись к книгам.
– Смотрите, смотрите, – печально сказала Евгения Степановна. – Тут найдутся полезные книги и для вас. Муж собирал их с толком, умеючи. Ах, как он любил книги! И вы, видно, любите?
– Люблю! Очень! – сказал Трофимов, покосившись на Марину, которая в это время показалась в дверях.
И пока женщины, легко двигаясь по комнате, прибирали ее, Трофимов переходил от одной книжной полки к другой, снимая книги и не спеша прочитывая их заглавия.
Чего только тут не было! Книги по садоводству и архитектуре, множество книг о месторождениях золота, нефти и руд на Урале, целая библиотека по лесному сплаву, старинные исследования края, сборники народных песен.
Урал – Урал, с его суровой красотой, с его неисчерпаемыми богатствами, легендами и песнями, смотрел на Трофимова со страниц этих книг.
– Да тут у вас целая сокровищница! – воскликнул он, когда глаза его случайно встретились со взглядом Евгении Степановны.
– Ну что ж, я буду рада, если эти книги вам пригодятся, – сказала она. – Больно смотреть, как стоят они без дела на полках, точно вместе с хозяином… – Она не договорила, не смогла произнести страшного для себя слова. Слезы навернулись у нее на глазах, и дочь, заметив это, тихонько обняла мать и прижала ее к себе.
На минуту в комнате стало тихо и сумрачно. Трофимов, не смея потревожить этой тишины, не знал, что сказать. С книгами в руках он неподвижно стоял посреди комнаты и казался сейчас самому себе нелепо большим, неловким и совсем чужим для этих тяжко переживающих недавнюю утрату женщин.
– Вы уж меня простите за слабость, – сказала Евгения Степановна. – Как увидела вас с книгами, так и вспомнился муж. Он бывало тоже после какой-нибудь поездки вбежит к себе в кабинет и вот, как вы теперь, схватится за книги и начнет их перебирать, листать, восхищаться. Все у него в руках кипело, радовалось. Любил он жизнь!
– Кем же он был? – тихо спросил Трофимов.
– Кем только он не был!.. Мальчишкой на пароходе, грузчиком, приисковым рабочим, сталеваром, солдатом. Был первым строителем нашего комбината, потом его директором… Вот я вам и отвечу, Сергей Прохорович: был наш отец большевиком. Громкое это слово, а скромнее сказать не могу…
– Пойдемте, пойдемте пить чай, – нарушая наступившее молчание, сказала Марина. – Да положите вы книги, еще начитаетесь.
– И верно: что это мы? – встрепенулась мать. – Чай, чай пить! Милости прошу! – Она распахнула дверь и первая прошла в столовую.
– А после чая, – сказала Марина, – если хотите, пойдем в городской сад: там сегодня открытие.
За стол садились молча.
Марина налила Трофимову чаю и пододвинула чашку так просто, таким привычным движением, что он понял: место, на котором он сидел, раньше занимал за столом ее отец. Эта догадка смутила его. Несуразным представилось ему вдруг его вторжение в этот дом, в чужую жизнь, в чужое горе.
Он поднялся и пересел на другой стул.
Ни мать, ни дочь не сказали ни слова. Казалось, они ничего не заметили. Только Марина, когда она снова пододвигала Трофимову чашку, пожалуй, в первый раз за весь вечер внимательно на него посмотрела.