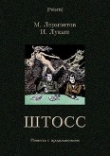Текст книги "Младший советник юстиции (Повесть)"
Автор книги: Лазарь Карелин
сообщить о нарушении
Текущая страница: 10 (всего у книги 16 страниц)
– Приходилось…
– И что же в таких случаях говорил вам Глушаев?
Лукин молчал. Глушаев с видом человека, случайно попавшего в нелепую, глупую историю, удивленно пожал плечами.
– Спрашивала вас жена, где вы пропадаете по ночам? – снова задал вопрос Трофимов.
– Спрашивала.
– Что вы ей отвечали?
Лукин молчал.
– Говорили вы ей, что это ее не касается?
– Говорил.
– Но это были не ваши слова? Это Глушаев внушил вам, что жена не должна вмешиваться в дела мужа? Отвечайте. Говорил он вам это?
– Говорил.
– А про то, каким должен быть, по его мнению, настоящий уралец, тоже говорил?
– Говорил.
– О дедах и прадедах, об удали старательской, о том, как в былые времена жен своих били?
– Да…
– Ничего я этого не говорил! Чепуха! – закричал Глушаев.
– Обратите внимание, товарищи судьи, – сказал Трофимов. – Признания подсудимого целиком совпадают с тем, что только что излагал здесь сам Глушаев. В данном случае у нас нет оснований не верить свидетелю.
– Ничего я не говорил! – возмущенно замахал руками Глушаев. – Вы меня неверно поняли! Все это чистейшая чепуха!
– Согласен, – спокойно сказал Трофимов. – Все, что вы здесь говорили, вредная чепуха. Скажите, Лукин, а о том, как вести себя на суде, вам Глушаев не говорил ничего?
Лукин молчал.
В зале началось вдруг какое-то движение, тревожный шепот прокатился по рядам.
Трофимов увидел, как поднялась со своего места Таня Лукина, как медленно пошла она по проходу. По мере того, как Таня приближалась к судейскому столу, люди, сидевшие в задних рядах, подымались. Но никто не проронил ни слова. Только Варя, подруга Тани, тихо ахнула.
Таня остановилась перед Глушаевым, поглядела на него, словно видела его впервые, и шепотом проговорила:
– Так это ты?.. Все ты?..
– Танечка! – прозвучал в тишине голос Кости Лукина.
Стремительным движением перегнувшись через барьер, он схватил жену за руку.
– Таня! Я виноват. Прости ты меня! Прости, если можешь!..
Зал, точно один человек, вздохнул и смолк.
Таня мгновение прямо смотрела в глаза мужу, потом, вырвав руку, опустив голову, быстро пошла назад, туда, где стоял ее отец.
– Тише, товарищи! Тише! – стучал по столу рукой Новиков, хотя в зале и без того было очень тихо. Он посмотрел на Трофимова. – У вас есть еще вопросы?
– Нет. Больше вопросов к подсудимому и свидетелю не имею, – негромко сказал Трофимов.
– А вы, товарищ защитник? – спросил Новиков у Струнникова.
– И я не имею вопросов.
– Есть ли у вас вопросы, товарищи народные заседатели?
– Вопросов нет.
– Все ясно.
– Подсудимый, садитесь. Свидетель Глушаев, садитесь. – Новиков помолчал и уже спокойным голосом объявил: – Судебное следствие окончено. Переходим к выступлению сторон. Слово предоставляется прокурору Трофимову.
Пригнувшись, осторожными, неслышными шагами двинулся Глушаев по проходу в самый дальний угол зала.
– Товарищи судьи! – поднимаясь, сказал Трофимов. – В судебном следствии виновность Лукина была полностью установлена. Мне остается лишь подвести итоги и сделать кое-какие выводы. – Трофимов замолчал и посмотрел в глубину зала, туда, где сидела Таня Лукина. – Случайно ли то, что дикий поступок Лукина был воспринят общественностью города и комбината как очень серьезное, очень печальное происшествие? Нет, не случайно. Иначе и не могло быть. Не могло, потому что в нашей стране достоинство личности, честь советского гражданина оберегаются законом. Вспомним, товарищи, поговорки, которыми определял народ свое отношение к суду до Октябрьской революции: «Закон, что дышло, куда повергнул, туда и вышло»; «Алтынного вора вешают, полтинного чествуют», «Где суд, там и неправда», «Где закон, там и обида». Меткие поговорки! Да, так было в России при царе, при капиталистах, так было, есть и будет в капиталистических странах… Подумайте, возможен ли такой процесс, на котором мы присутствуем, ну, скажем, в Америке? В стране, где безнаказанно линчуют негров и избивают поборников мира… В стране, где гангстеры крадут детей и на вырученные с выкупа деньги протаскивают в сенат какого-нибудь угодного им Трумэна, или Даллеса, или Маршалла… Нет, в такой стране смешно говорить о правосудии, о праве человека искать у закона защиты своей чести. В такой стране общественное мнение простых людей никогда не найдет поддержки у закона, ибо закон там для того и существует, чтобы попирать это народное общественное мнение…
Трофимов говорил, ощущая, как постепенно овладевает вниманием присутствующих. Для него, прокурора, произносящего свою обвинительную речь, было очень важно ощутить это сочувственное внимание слушателей, знать, что говорит он не только для состава суда, подсудимого, потерпевших, но и для людей, пришедших на процесс и озабоченных его исходом.
– Мне рассказывали, что несколько лет назад, – продолжал Трофимов, – Лукин и его товарищи нашли в окрестностях города чугунную плиту с могилы Волегова, крепостного летописца нашего края. Плита эта хранится теперь в музее. С гордостью несла ее молодежь через весь город. Любовь к родине, любовь к великим ее традициям, к ее великому прошлому двигала Лукиным и его друзьями, когда они отдавали эту дань уважения крепостному летописцу. Что же произошло с Лукиным? Что двигало им, когда он осмелился поднять руку на свою жену, «на нашу Таню», как называли ее выступавшие здесь свидетели? Не рассказы ли о пьяной удали обобранных строгановскими приказчиками старателей, которые шли в кабак, гонимые горем, и пили, чтобы забыться? Не воспоминания ли о купеческом ухарстве и озорстве? Среди нас найдется немало людей, которые помнят те страшные времена. Но как далеки, как чужды нам подобные нравы! Что же в таком случае привлекало советского молодого человека в этих мрачных рассказах о прошлом? Отчего вдруг пристрастился он к вину, стал нелюдимым, заносчивым, скрытным? Почему, наконец, забыв о достоинстве советского человека, он так тяжко оскорбил свою жену?
Трофимов помолчал и чуть заметно, одними глазами, улыбнулся Тане Лукиной.
– Это случилось потому, что его обманули, потому, что ему набили голову лживыми историйками о бесшабашной старательской удали, которая якобы красит человека.
– Товарищи судьи! – вскочил со своего места Глушаев. – Я протестую! Прокурор не имеет права!..
– Гражданин свидетель, – строго сказал Новиков, – предупреждаю, что за нарушение порядка я вынужден буду удалить вас из зала судебных заседаний… Продолжайте, товарищ Трофимов.
– Мы все слышали здесь рассуждения одного из свидетелей о старом Урале, – спокойно продолжал Трофимов. – О каких-то якобы древних обычаях и традициях. Но чьи это традиции? Уж никак не народные! Эксплуататорские, кулацкие это традиции. Вот их-то нам и преподносили с усмешечкой, с прибаутками. Да полноте, не знакомы ли нам эти речи? Разумеется, знакомы! Мы слышали их и прежде. Так бывало говаривали люди, не любившие свою родину, свой народ. Хозяйские прихвостни, люди без роду и племени – вот кто пытался внушить нам неуважение к русскому человеку, изобразить его в ложном виде…
– Товарищ прокурор! – снова вскочил Глушаев. – Не забывайте, что я не хозяйский прихвостень, а честный советский гражданин!
– Свидетель Глушаев! – поднимаясь, сказал Новиков. – За повторное нарушение порядка я вынужден просить вас покинуть зал судебных заседаний.
– Выгоняете? – меняясь в лице, спросил Глушаев.
– Я прошу вас покинуть зал.
– Хорошо, я уйду, но…
– Кстати, раз уж вы уходите, свидетель Глушаев, – подчеркнуто неторопливо сказал Трофимов, – справедливости ради напомню вам, что вы вовсе не уралец. Вообще-то говоря, в том, что вы родились не на Урале, нет ничего плохого. Плохо лишь, что вы зачем-то присвоили себе право судить и рядить об уральских традициях и нравах. Ложно судить и ложно рядить…
Настороженно вслушиваясь в каждое слово прокурора, Глушаев пробирался по проходу. Он старался идти медленно, хотел было выпрямиться, вскинуть голову, но негромкие слова Трофимова точно подталкивали его в спину.
Трофимов выждал, пока за Глушаевым захлопнулась дверь.
– Честный советский гражданин… – в раздумье повторил он слова Глушаева. – Тем более странно и непонятно, как мог гражданин Глушаев говорить здесь то, что он говорил… Товарищи судьи! Вина Лукина очевидна. Но он виноват не только в том, что тяжко оскорбил жену. Не только в том, что почти до самого конца судебного следствия отказывался признать свою вину. Лукин виноват и в том, что дал себя обмануть! Я обвиняю его не один. Вместе со мной обвиняют Лукина его недавние друзья. Нет горше разочарования, чем разочарование в друге… Но, обвиняя Лукина, настаивая на его наказании согласно части первой сто сорок шестой и части первой сто пятьдесят девятой статей Уголовного кодекса РСФСР, я надеюсь, что он сумеет вернуть себе уважение своих друзей, сумеет заслужить прощение жены. Я надеюсь, что яд прошлого не глубоко проник в его сознание!
В зале раздались аплодисменты. Друзья Тани и Константина повскакали со своих мест и горячо хлопали прокурору.
– Слово предоставляется защитнику товарищу Струнникову, – сказал Новиков, когда шум в зале улегся.
– Товарищи судьи! – торжественно начал Струнников. – Готовя свою защитительную речь, я, так же как и представитель государственного обвинения, задал себе вопрос: что толкнуло моего подзащитного совершить то, что он совершил? Я искал ответа на свой вопрос, надеясь тем самым найти смягчающие вину обстоятельства. Но я далеко не сразу нашел нужный ответ. Лишь здесь, в зале судебных заседаний, лишь сейчас – после показания одного из свидетелей по делу – нашел я, наконец, причину, приведшую моего подзащитного на скамью подсудимых. – Струнников торопливым движением взял лежавшие перед ним на столе очки и, надев их, дружелюбно посмотрел на Трофимова. – Товарищи судьи! Сегодня мы рассматриваем один из тех случаев, когда пути обвинения и защиты полностью совпали. Ведь показания свидетеля Глушаева равно нужны и мне – защитнику и товарищу Трофимову – обвинителю. Между нами нет расхождений. И не защищать, а обвинять должен я сейчас Лукина в защитной речи. Да, обвинять своего подзащитного! Ибо в таком обвинении, в раскрытии подлинной причины проступка Лукина, содержится и его защита. Вот почему, обращая ваше внимание, товарищи судьи, на молодость моего подзащитного, на его чистосердечное раскаяние и признание своей вины, я вместе с тем говорю: да, виновен! И главная вина моего подзащитного – в этом я целиком присоединяюсь к представителю государственного обвинения – в том, что он поддался дурному, разлагающему влиянию. Я надеюсь, товарищи судьи, что приговор ваш не будет слишком суровым. В заключение прошу вас специальной рекомендацией избавить в дальнейшем моего подзащитного от работы у гражданина Глушаева. Не следует Лукину быть шофером у Глушаева. Неверные пути в жизни указывал молодому человеку этот его начальник.
Струнников сел.
В зале снова громко зааплодировали.
– Слово предоставляется подсудимому Лукину, – объявил Новиков.
Лукин медленно поднялся с места, выпрямился и глубоко вобрал в себя воздух. Трофимов впервые увидел его не сгорбленным, а таким, каким он, наверно, был прежде: высоким, стройным, со свободно развернутыми плечами.
– Я многое понял на этом суде, – тихо сказал Лукин. – Никогда не забуду я того, что здесь говорили. – Голос его осекся, и Лукин уже совсем тихо, точно говоря с самим собой, недоуменно спросил: – Мог ли я когда подумать, что случится такое в моей жизни?.. Нет, не мог. – Он тяжко задумался. – Не мог, а случилось. Мечтал прямой дорогой по жизни пройти, да не сумел. – Лукин умолк и вдруг, ясно как-то глянув на всех, громко, ломким от волнения голосом сказал: – Вина моя большая, сознаю…
Был объявлен перерыв, а затем, вернувшись из совещательной комнаты, Новиков огласил приговор. Суд, учитывая признание и осознание подсудимым своей вины, учитывая его молодость, хорошую в прошлом работу и то, что он подпал под дурное влияние своего непосредственного начальника, приговорил Лукина к трем месяцам исправительно-трудовых работ с отбыванием по месту службы.
27
После бурных весенних гроз с переменчивыми то теплыми, то холодными ветрами, после хмурых дней, лишь ненадолго, словно мимоходом, пригретых весенним солнцем, в Ключевой вдруг пришло лето. Напоенное запахами свежих трав и молодой листвы тополей, короткое северное лето было сейчас особенно хорошо. И, будто спеша насладиться этим летним покоем, недолгим теплом, короткой порой молодых зеленей, город зажил по-летнему беспокойно и весело.
Ребятишки с утра до позднего вечера бултыхались в прозрачной воде Ключевки, девушки и парни бродили по окрестным лугам и лесам, пели протяжные уральские песни, рвали прекрасные своей нехитрой красотой полевые цветы, а на рассвете раздавались на улицах торопливые шаги, стук отворяемых дверей да вдруг звонкий девичий голос – такой радостный, такой тревожный, что, услышав его, не уснешь уж до самого утра.
Трофимов отложил книгу, медленно перелистал стопку исписанных листков на столе и встал. Не хотелось ни читать, ни работать.
Летний вечер шевелил листьями рябины, что тянулась своими ветками к самому подоконнику, заглядывал в комнату щербатым полумесяцем.
Трофимов прислушался. В доме было совсем тихо.
«Видно, все ушли», – подумал он и, неожиданно для себя, мысленно увидел Марину. Она, наверно, идет сейчас по залитой светом аллее парка, идет, окруженная друзьями, и, слушая их веселые речи, чему-то сдержанно улыбается. Он живо представил эту ее улыбку – спокойную, ясную – и ее манеру вдруг прямо и испытующе взглянуть на собеседника, точно спрашивая его, зачем он ей все это говорит.
Как часто, встретив этот испытующий взгляд девушки, Трофимов умолкал, и тогда, сбившись с проторенной дорожки спокойных застольных бесед, что вели они между собой, встречаясь по вечерам в столовой, переводили они разговор на серьезный лад, говорили о своей работе, о том, что волновало их, чем жили они все эти дни. Нет, с Мариной невозможно было разговаривать просто так – от нечего делать. Но нельзя же было говорить только о делах? Лучше уж иной раз помолчать.
– Что это вы словно воды в рот набрали? – удивленно спросила их как-то Евгения Степановна. – Или опять на каком-нибудь законе не сошлись?
– Нет, мама, – рассмеялась Марина. – Это мы просто новый способ разговора придумали: про себя.
С тех пор так и повелось у них обрывать затянувшийся деловой разговор или какую-нибудь пустую застольную беседу понятной обоим фразой: «Поговорим про себя»…
А после, помолчав, заговаривали они о самом неожиданном.
Помнится, в один из таких разговоров Трофимов рассказал Марине о своей семье. В первый раз со дня гибели жены и сына говорил он о них, не тая душевной боли, не страшась услышать в ответ какие-нибудь давно стершиеся утешительные слова.
Так день за днем они узнавали друг Друга, и эти беседы были полны для каждого открытиями, из которых слагалась и крепла их дружба.
Сейчас, охваченный внезапным чувством тоски, потому ли, что был один во всем доме, или потому, что представилась ему Марина там – в парке, среди друзей, Трофимов решил немедленно разыскать ее. Точно боясь опоздать, он вдруг заспешил и, на ходу накинув пиджак, выбежал из комнаты.
Но, чтобы найти Марину, ему незачем было идти в парк. Подперев голову рукой, девушка сидела на ступеньках крыльца своего дома.
– Вы – здесь? – радостно изумился Трофимов. – А я-то собирался разыскивать вас по всему городу!
– Садитесь, – кивком головы указывая на ступеньки, сказала Марина. – Зачем это я вам так срочно понадобилась?
– Честно говоря, я даже и сам не знаю. – Трофимов сел подле Марины. – Просто испугался тишины в доме или – как это еще называется? – одиночества… – Он тревожно взглянул на девушку и виновато улыбнулся. – Робковат я стал, Марина Николаевна, вот что.
– Одиночество, одиночество… – медленно выговаривая слова, произнесла Марина и, быстро обернувшись к Трофимову, не то шутя, не то серьезно спросила: – А обо мне вы и не подумали: что, если я как раз хочу сейчас побыть одна?
– Нет, об этом не подумал, – серьезно глядя на девушку, сказал Трофимов. – Впрочем, еще не поздно поправить дело. – Он хотел было подняться.
– Нет, теперь уж сидите, – удержала его Марина движением руки. – Я пошутила. Но давайте «поговорим про себя».
– Давайте, – кивнул Трофимов.
Они надолго замолчали.
– Скажите, Сергей Прохорович, – нарушая молчание, спросила Марина: – Вот вы, такой целеустремленный в жизни человек, скажите, приходилось ли вам задумываться не только над судьбой других людей, но и над собственной судьбой? Приходилось ли вам пережить, ну, скажем, минутное сомнение в правильности того, что вы делаете, усомниться в своих силах?
Марина испытующе смотрела на Трофимова.
– Приходилось, Марина Николаевна, – не сразу отозвался он. – Часто, очень часто примеряюсь я к своей жизни как бы со стороны и спрашиваю себя: «А верно ли иду я по жизни? Чем полезен я людям?»
– «Чем полезен я людям?» – задумчиво повторила Марина. – Очень вы это хорошо сказали, Сергей Прохорович. Да, так чем же полезна я людям? – Марина смущенно рассмеялась. – Вот у вас – большая, нужная работа. После суда над Лукиным я много думала о нашем первом разговоре. Помните, вы еще сказали мне, что слова «суд» и «прокурор» можно часто заменить простым словом «друзья» и что такие друзья, как вы, могут подсказать Лукиным, как им жить дальше?
– Помню, – улыбнулся Трофимов. – Но ведь я так и не смог тогда убедить вас в этом.
– Да, но на суде я поняла, что вы были правы. Вы были правы в главном: суд действительно помог Лукиным. И это очень много: знать, что своей работой ты помогаешь людям, что ты нужен. Ну, а я…
– А вы, Марина Николаевна… – заговорил Трофимов.
– Погодите-ка, – прервала его девушка. – Я отлично знаю, что вы мне скажете. Вы скажете, что работа моя нужна, что я приношу пользу. Все это так. Но польза-то пользе рознь. И достаточно ли хорошо я работаю, чтобы сказать себе: да, ты по-настоящему полезна людям. Ведь все мои дела, если взять каждое в отдельности, очень неприметны, Сергей Прохорович… Сколько же нужно мне их переделать, чтобы ощутить, зримо ощутить результат своего труда?
– Немало, Марина Николаевна, – серьезно взглянул на девушку Трофимов.
– Вот видите, – вздохнула она.
– Да, очень много, – повторил Трофимов. – Очень много еще предстоит переделать самых разных дел всем нам. И нет у нас маленьких и больших дел, Марина Николаевна. Я в этом глубоко убежден: все наши дела, заботы, все помыслы наши – большие и нужные…
Долго еще сидели Марина и Трофимов на ступеньках высокого крыльца и, негромко переговариваясь, приглядывались к тому, что виделось им сейчас на тихой вечерней улице.
28
На реке Вишере, там, где река эта, вырвавшись из-под свода вековых сосен, разливается широко и привольно, на правом крутом берегу ее издавна стоит большое уральское село Искра.
Название у села не случайное. Откуда бы вы ни подъезжали к нему в солнечный день, еще издали, едва лишь покажутся над рекой первые дома, вдруг все заблестит, заискрится, точно не село, а сверкающее отражение его в зеркальной глади реки встает перед вами.
Некогда село это славилось на весь Северный Урал горькой и шумной своей судьбой. Жили в нем старатели, «нищие богачи», как называли их тогда на Урале. Тяжелый труд, месяцы скитаний, голод, цынга – вот какой ценой добывали люди тусклые желтые крупицы драгоценного металла. А потом неделя угарного запоя, кабала у перекупщиков – и снова нищета, голод, цынга…
Так жили здесь прежде. Ныне иная слава пошла об Искре по Северному Уралу.
Колхоз имени Сталина по праву считался одним из лучших во всей области. Трудная уральская земля давала в этом колхозе рекордные урожаи ржи. За что бы здесь ни брались – будь то строительство школы, электростанции, клуба или выведение новой породы скота, – все удавалось сталинцам.
С весны, когда три искровские артели объединились в одну, колхозники поставили перед собой задачу – так повести свое новое большое хозяйство, чтобы добрая слава сталинцев стала славой всего села. Было теперь где размахнуться, применить свое уменье, свои силы! Тракторы уже не плутали больше по узким участкам, и трактористам нечего было бояться запахать или засеять клин соседней артели. На сотни гектаров вокруг легли земли без межей и отметин, и принадлежали они одному хозяйству – колхозу имени Сталина.
Не стало маленьких молочных ферм с ручными сепараторами. Не стало лоскутных выпасов и пасечных островков из десятка ульев. Большую молочную ферму с электрическими доилками и сепараторами, огромную пасеку, просторы своих лугов – вот что увидели жители села, когда объединились артели. И сознание, что нет теперь в Искре колхозов получше и похуже, нет разных доходов на трудодень, а есть один большой и хороший колхоз с богатым трудоднем, – сознание это будило в искровцах горячее желание работать еще лучше, чем прежде.
Умелый, опытный председатель руководил укрупненным хозяйством. Скромная женщина, немолодая, ничем на вид не приметная, Анна Петровна Осокина в течение десяти лет возглавляла колхоз имени Сталина, который во многом был обязан ей своими успехами. Она и сама не заметила, как подошла к ней слава, – не ждала, а дождалась великого дня в жизни, когда на первой странице «Правды» нашла и свое имя в списке Героев Социалистического Труда.
К ней-то после неудачного доклада в прокуратуре и направился Громов, когда вновь приехал в Искру.
– Здравствуйте, Василий Васильевич, – повстречавшись с Громовым в дверях колхозного правления, приветливо сказала Осокина. – Вчера будто прощались, а сегодня – снова к нам. Или полюбился вам здесь кто?
– Здравствуйте, Анна Петровна, – не без смущения ответил Громов. – Вот именно, полюбился…
– Пройдем в кабинет? – вглядываясь в утомленное лицо следователя, спросила Осокина.
– Пройдем.
Они вошли в маленький председательский кабинет. Всюду здесь были разбросаны колосья ржи. Осокина плотно притворила за собой дверь.
– О чем же речь поведем, товарищ Громов?
– А вот о чем, Анна Петровна… Как вы полагаете, куда в «Огородном» тайком сбывали колхозное добро? Кому они его сбывали?
– Да-а… – протянула Осокина. – Вопрос серьезный.
– Не задумывались прежде?
– Мимоходом… Только ответа так и не нашла.
– Скажите, могли они просто на рынке продавать свой товар?
– Нет, на колхозном рынке краденое продавать рискованно.
– Так. Ну, а по городским квартирам?
– По квартирам? Кто же из колхозников стал бы краденое по квартирам разносить?
– Так… Выходит, Анна Петровна, есть и еще кто-то, замешанный в этом деле?
– Выходит, что есть, товарищ Громов.
– Кто же?
– Правду сказать, не вижу, кто бы это мог быть.
– И я не вижу. – Громов постучал папироской по столу и закурил. – А ведь есть кто-то!.. Вот что, Анна Петровна, расскажите-ка мне по порядку всю вашу колхозную бухгалтерию. Хочу учиться на председателя…