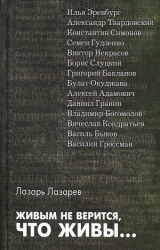
Текст книги "Живым не верится, что живы..."
Автор книги: Лазарь Лазарев
Жанры:
Биографии и мемуары
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 11 (всего у книги 30 страниц)
«…Я не хочу себе судьбы, отдельной от моих товарищей. Мы столько раз вместе сжимались под обстрелом, вместе сидели у костров, и хлеб, и вода в котелке, и огонь были общими. А когда не было всего этого, мы ложились тесно и в мороз согревали друг друга теплом своих тел. Я до сих пор несу в себе тепло тех, кого уже нет в живых, я часто думаю их мыслями, в душе моей часть их души», – эти мысли навеяны герою письмами матери, которая живет в постоянном страхе за него. Вот что он мог бы ей, наверное, ответить, но даже матери он никогда не напишет того, что думает сейчас, никогда ни он, ни его товарищи ни с кем не заговорят об этом вслух. Не обо всем можно сказать словами, и тот, кто решается говорить о сокровенном чувстве, не дорожит им. Потому что речь идет не об умозрительном выводе, пусть вполне основательном, а именно о чувстве, интимном чувстве, не нуждающемся в обосновании и чурающемся громогласности. Сила и подлинность его подтверждаются не словами, а только поступками, – у Толстого источником мужества сражавшихся на Бородинском поле служит скрытая теплота патриотизма.
Имя Толстого возникло не случайно: Г. Бакланов принадлежит к тем писателям военного поколения, для которых главным эстетическим ориентиром служили толстовские традиции, они в немалой степени определили направление его собственных художнических исканий. И это касается не столько изображения войны как таковой, батальных сцен, сколько проникновения в психологию персонажей, в изменяющийся «текучий» мир забот и стремлений личности, в нравственную подоплеку поступков, в сложные, переплетающиеся, противоборствующие причины событий. Это не школа – окончил ее и выпущен для самостоятельной деятельности; связь Г. Бакланова с толстовскими традициями не прерывается и не слабеет с годами, для последних книг она не менее, а иногда и более существенна, чем для ранних; вот и в недавнем интервью он говорил, что и нынче ему представляется в военной литературе наиболее перспективным «все то же старое реалистическое направление, идущее от Толстого». Но именно в «Пяди земли» это равнение, эта ориентация на толстовские традиции определились как принципиальная позиция.
В отличие от «Южнее главного удара», где автор погружался в прошлое, «Пядь земли» обращена к современности; нравственные уроки будущему, извлеченные из пережитого людьми на войне, создают лирическое напряжение в повести. Автор и рассказчик (дистанция между ними минимальная, и есть резон в том, что о произведениях писателей военного поколения иногда говорят как о «мемуарах» солдат и лейтенантов) много, очень много размышляют о жизни и смерти, о смысле человеческого существования, о необходимости беречь мир на земле, о том, что такое человечность на войне.
Высочайшая мера требовательности к себе, нравственный максимализм, страстное стремление во что бы то ни стало добиться справедливости – и в большом и в малом, вселенская отзывчивость, когда близко к сердцу, как собственная боль и горе, принимается все, что происходит в мире, – эти черты поколения и времени по-своему преломились в характере Мотовилова. То было поколение романтиков, революция, ее идеи определили их духовный горизонт – необычайно широкий, она вселила в них веру в то, что им выпала на долю беспримерная историческая миссия – покончить на земле с бесчеловечностью и злом.
Романтиками их делала одержимость идеями справедливости, а не война сама по себе, тем более не военные «приключения». Только из дали годов и тем, кто не прошел через это, может сегодня показаться, что жестокая кровопролитная война, в противоположность благополучно однообразной повседневности мирного времени, располагает к романтическому мировосприятию. На самом деле – и об этом убедительно свидетельствует литература «потерянного поколения» – в грязи окопов первой жертвой становились романтические иллюзии. Но романтика ровесников Мотовилова не была иллюзорной, их романтический пыл не могли остудить самые угрюмые из всех мыслимых – фронтовые, окопные будни. Уже хотя бы потому, что приобретенный в войну жизненный опыт, бесчеловечность фашистов, с которой они сталкивались на каждом шагу, раскаляли их воинствующую непримиримость ко злу и несправедливости в любых проявлениях, в любых обличьях.
«Мы не только с фашизмом воюем, – мы воюем за то, чтоб уничтожить всякую подлость, чтобы после войны жизнь на земле была человечной, правдивой, чистой», – размышляет Мотовилов. От книги к книге этот мотив звучит у Г. Бакланова все сильнее и сильнее, острее становится критика шкурничества и безыдейности, безнравственности и приспособленчества, проникающая сквозь самую изощренную социальную и нравственную мимикрию (стоит взглянуть на панораму литературного процесса конца 50-х годов, и мы увидим, что вообще в прозе резко вырос интерес к нравственной проблематике, больше внимания уделяется художественному анализу зависимости гражданского поведения человека от его нравственных устоев).
И если в «Южнее главного удара» и «Пяди земли» этот мотив реализован лишь в эпизодических персонажах (повозочный Долговушин, чтобы быть подальше от передовой, прикидывающийся человеком, неспособным ни к какому серьезному делу, с которого все взятки гладки; Мезенцев, который всегда ловко устраивается так, что за него «все трудное, все опасное в жизни делают другие»), то в следующей небольшой повести «Мертвые сраму не имут» (1961) он возникает в связи с одной из главных фигур произведения и разработан подробнее, основательнее.
За плечами начальника штаба артиллерийского дивизиона капитана Ищенко уже восемь лет безупречной, как ему представляется, службы. Он и в самом деле дока по части неукоснительного соблюдения некоего внешнего распорядка, которому в армии придается немалое значение, здесь у него наверняка все всегда было в абсолютном ажуре, тем более что в исполнительности и аккуратности видел он суть армейской службы. Ищенко не служил, а выслуживался, не обременяя себя мыслями о том, что защищает наша армия, за что идет война, в которой и он участвует. Разумеется, он прекрасно знал все слова, которые писались и говорились по этому поводу, да и сам произносил их в надлежащих случаях, но для него они так и оставались словами, не находившими никакого отклика в его душе. А по-настоящему для Ищенко было важно только то, что прямо затрагивало его интересы, сосредоточенные на продвижении вверх по служебной лестнице, на его доме, на вещах, которыми они с женой обзаводились любовно и с толком. Он полон самоуважения и чувства превосходства над окружающими, потому что все у него ладно, основательно – от уютной квартиры (ценность которой возрастала от того, что соседом был сам командир полка) до наборного мундштучка, изготовленного дивизионным умельцем.
И в минуту трудную, кризисную эта духовная скудость, эта нравственная недостаточность не могли не дать себя знать. Когда потрепанный в боях дивизион напоролся на немецкие танки, в неразберихе внезапного ночного боя на марше Ищенко, спасая свою жизнь, бежал: для него не существовало ценностей, которые защищают, не щадя себя. Он бежал, бросив в отчаянный момент на произвол судьбы подчиненных, не подумав предупредить их о стоявших в засаде немецких танках. Он спасал себя, расплачиваясь их кровью, предавая их. Именно предавая, – не случайно замполиту Васичу, раскусившему его в этом бою, пришла в голову мысль, что, окажись Ищенко в оккупации, он бы и не подумал о сопротивлении захватчикам, а «тихонько опустил бы на окне белую тюлевую занавеску: и мир видно через нее, и тебя не увидят. Вдвоем с женой, за занавеской, можно и немцев переждать». И хотя Ищенко побаивается – если всплывет, как он вел себя в этом бою, его могут судить, строго наказать, – вины своей он не чувствует и раскаяния, естественно, не испытывает. Тогда, в бою, он оправдывал себя, считая, что начальство с преступным легкомыслием послало дивизион на заклание, теперь, перед лицом начальства, он находит другое оправдание: он ничего не мог сделать, бой был проигран из-за того, что его погибшие товарищи распоряжались нерадиво и неразумно. Он сваливал на них ответственность за этот несчастливо сложившийся бой, в котором они сделали все, что смогли: у них не было сил, чтобы остановить мощную группу немецких танков, но они их все-таки задержали, а шесть сожгли. Ищенко не хотел разделить со всеми судьбу на поле боя, он спасал свою шкуру, а уж выбравшись оттуда целым и невредимым, он тем более не собирался «отвечать за всех». И когда в штабе полка его дотошно расспрашивал о случившемся капитан Елютин из СМЕРШа, привычно ищущий виновников, которые должны отвечать за неудачу, Ищенко снова предал своих товарищей – мертвых и уцелевших, возводя на них напраслину…
Разные люди были в дивизионе: бесшабашные и осмотрительные, более выносливые и послабее, замкнутые и душа нараспашку, образованные и не очень грамотные, решительный, уверенный в себе, грубоватый Ушаков и мягкий, обуреваемый, как нынче говорят, интеллигентскими комплексами Кривошеин, начальник разведки Мостовой, который жаждет высшей незамутненной справедливости и даже думает о том, что после войны и немцев нельзя судить чохом, с каждым надо бы разбираться отдельно, и тот простодушный молодой разведчик, который никак не мог взять в толк, почему Ищенко бросился в сторону от своих, когда на них сейчас навалятся немцы, – но все они, непохожие друг на друга, не могли и помыслить для себя иной, более легкой, чем у их товарищей, судьбы, для всех них и этот бой и вся война были общим и кровным делом.
Для всех, кроме Ищенко. Конечно, он был исключением. Исключением, но не казусом. В этом характере писателем верно схвачено явление, которое при обычном течении жизни редко выступает с такой обнаженностью, уже хотя бы потому, что не может иметь столь очевидных, немедленных и катастрофических последствий, – так скрытая за гладкой поверхностью металла раковина обнаруживает себя лишь при очень больших перегрузках. Но и в мирные времена захребетничество, ржа эгоизма исподволь, незаметно разъедают общественные связи, подтачивают моральные устои. Серьезность этой опасности старается подчеркнуть Г. Бакланов, давая понять, что, скорее всего, Ищенко выкрутится, избежит возмездия. За руку-то его не поймали, а презрение тех, кто почувствовал что-то неладное в его поведении, – разве проймешь его этим? В душе он ликовал, что остался жив, все другое для него мало значило. И в мирной жизни он будет устраиваться за счет других, работая локтями, ставя подножки, не останавливаясь ни перед чем.
Фигура, подобная Ищенко, оказавшись в поле зрения писателя, ставила перед ним ряд серьезных проблем (откуда берутся эти люди, какими обстоятельствами формируются, на чем паразитируют), которые могли быть исследованы только в широком общественно-историческом контексте, – сделать это в такой небольшой повести, как «Мертвые сраму не имут», замкнутой на одном фронтовом эпизоде, разумеется, невозможно. Но для этого писателю нужна была не столько гораздо большая площадь, – необходимо было изменить, расширить угол зрения, чтобы уловить течение времени и эволюцию характеров. Внутренняя логика художественных исканий вела Г. Бакланова к роману. И хотя по объему «Июль 41 года» (1964) не очень намного превышает «Пядь земли» или «Южнее главного удара», – это роман, произведение иной жанровой структуры, отвечающей новой авторской задаче.
Вскоре после того, как появился «Июль 41 года», Г. Бакланов в анкете, проводившейся журналом «Вопросы литературы», поделился некоторыми своими размышлениями о войне, о военной литературе. Несомненно, это были уроки недавно оконченного им романа. «Великая Отечественная война, как и вся мировая война, – писал Г. Бакланов, – не была чем-то отъединенным, локальным в жизни стран и народов. И характер их, и поражения, и победы во многом определялись предшествующей историей… Конечно, то, что происходит сегодня, это – современность. Но она соотносится с прошлым, как устье с истоком реки. Единая жизнь, как река, течет в берегах, и на нее невозможно нанести деления. Если же мы попытаемся установить более прочные разграничительные сооружения, некий род плотин, делящих реку на части, то увидим сразу же, как начинает мелеть и пересыхать все то, что ниже по течению». И еще: «…Труд писателя, ставящего своей целью рассказать о времени, это в какой-то своей части непременно труд исследователя, исследователя экономических и общественных условий, формировавших характеры и отношения, вторгавшихся даже в интимную жизнь людей, исследователя характеров, сформированных временем и формировавших время. Мы только-только начинаем многое узнавать и понимать, начинаем по-иному смотреть на вещи. Но еще мало кому дано оторваться от притяжения отдельных фактов и событий, подняться над ними и увидеть картину целиком».
Так представлял себе писатель ту новую художественную задачу, которую стремился решить в романе, – здесь выведен его «генетический код». Что значит применительно к роману «Июль 41 года» «увидеть картину целиком»? Прежде всего проникнуть и в дальние причины наших поражений и неудач начального периода войны. Но это лишь одна сторона дела. Крайне важна и другая: авторская установка – воссоздать взятое в данный момент время так, чтобы в нем, как в реальном потоке жизни, непременно присутствовали, переплетаясь, вчерашнее и завтрашнее, – требовала постижения того, что было залогом наших грядущих военных успехов. Рисуя один из самых тяжких месяцев войны, Г. Бакланов не закрывает глаза на то, что нам мешало, что составляло наши слабости, и зорко видит то, в чем мы были сильны, что в дальнейшем должно было изменить ход событий, хотя здесь не было и могло быть механического равновесия. Выясняя, почему мы отступали, нужно было понять, благодаря чему мы одержали затем победу, – иначе была бы искажена историческая перспектива.
При этом следует помнить, что как бы глубоко и дотошно ни исследовал писатель экономические и общественные условия (Г. Бакланов справедливо подчеркивает необходимость и плодотворность такой работы для художника), роман, конечно, не историческая монография, не военно-исторический очерк: некоторые причины наших поражений и побед – экономического, технического и военного свойства – в «Июле 41 года» не раскрыты, никак не отражены. Это неудивительно, сквозь «магический кристалл» романа можно как следует разглядеть только то, что отозвалось в человеческих душах, в психологии, что имеет непосредственное отношение к фактору – как тогда говорили – моральному, а в старину это называлось духом войска и народа.
Многообразна и непроста зависимость, существующая между историческими обстоятельствами и характерами. Здесь действуют разнонаправленные силы – притяжения и отталкивания. Здесь одна и та же причина может нередко вызывать разные последствия. Обстоятельства, благоприятные для одних людей, способствующие их процветанию, жизненному успеху («Ведь нынче любят бессловесных», – говорит Чацкий о Молчалине, предсказывая, что тот «дойдет до степеней известных»), для других становятся камнем преткновения, не дают им развернуться в полную силу (Пушкин с горечью писал о Чаадаеве: «Он в Риме был бы Брут, в Афинах Периклес, а здесь он – офицер гусарский»).
Но ведь случаются и иные обстоятельства, при которых прозябают молчалины и идут в гору чаадаевы. Впрочем, и неблагоприятные условия, это тоже нельзя упускать из вида, нравственно деформируя и ломая нестойких, податливых, выковывают из тех, у кого достает сил не сгибаться, кто не желает приспосабливаться, настоящих людей. Сложная диалектика такого рода связей возникает в романе Г. Бакланова.
Война сурово проверяла, кто чего стоит, кто на что способен. Это было и строгое испытание формировавших людей обстоятельств: как они, предвоенные обстоятельства, отозвались потом, в тяжелое грозное время, – хорошим и дурным, силой и слабостью. Было ли все в них неотвратимо или что-то можно было изменить, да не все было для этого сделано? Командиру корпуса Щербатову его сын, лейтенант, рассказывает, что во взводе, которым он командует, боец предложил из лука стрелять по вражеским танкам бутылками с зажигательной смесью – и здорово получается, рукой так далеко и точно не кинешь. Щербатов, опытный военный, хорошо отдает себе отчет, какой крови будет стоить каждый сожженный подобным способом танк. Сейчас уже ничего не поделаешь, придется против танков и таким оружием воевать. Но вся его жизнь была отдана армии, все силы ума и души – укреплению ее мощи, от этого зависела судьба революции, будущее страны, – как же вышло, что «он, отец, командир корпуса и генерал, учит вот таких мальчиков не бояться танков, подпускать их ближе, пол-литровыми бутылками поджигать их, учит смекалке? Неужели он виноват, что так случилось?». Задавая себе этот мучительный вопрос, Щербатов, что очень существенно для понимания характера главного героя романа, судит прежде всего себя, а не обстоятельства. Потому что движет им не желание как-то оправдаться в собственных глазах, снять с себя ответственность (что, мол, я мог сделать, если сложилась такая ситуация), он хочет выяснить, чего он все-таки не сделал, чтобы изменить эту ситуацию, почему опустил руки.
Неотступные трудные его думы – не разъедающая волю к действию рефлексия, это – жесткая самопроверка, чтобы извлечь из былого практические уроки для себя, она укрепляет его волю к борьбе и решимость, его веру в победу. И в самые критические минуты, подымая в атаку бойцов, прорывающихся из окружения, шагая под огнем в цепи, как все они, с винтовкой наперевес, навстречу неведомой судьбе, он знал твердо, что «через страдания и кровь, через многие жертвы, так же неостановимо, как восходит солнце, взойдет и засияет людям выстраданная ими победа».
Не должно быть ни малейшего зазора между служебным и нравственным долгом, то, чего не приемлет нравственное чувство, не может пойти на пользу делу, рано или поздно скажется самым пагубным образом, – вот вывод, в котором укрепляется Щербатов, пережив потрясения первых недель войны. И тут кроется принципиальное отличие Щербатова от командующего армией Лапшина.
Не в том дело, что Щербатов опытнее, что он продвигался вверх по служебной лестнице, не перескакивая через ступени, а Лапшин, меньше чем за два года, из комбата стал командармом. Это не всегда беда: случалось, что люди, стремительно взлетевшие вверх, оказывались на месте, наилучшим образом справлялись со своими обязанностями (таков в романе молодой комдив Тройников), а бывало, что годы усердной службы не расширяли кругозора и новый масштаб задач, увы, оказывался им не по плечу (генерал Сорокин, человек в летах, с немалым командирским стажем, все же не дорос до своей должности начальника штаба корпуса, не тянет). Спора нет, свою роль играло, был ли человек баловнем судьбы или своим трудом, талантом, своим горбом заработал высокую должность, но главным, решающим было другое – мера ответственности, которая лежала в основе его решений и действий.
Для Лапшина она определялась главным образом благорасположением тех, кто заметил его, выделил среди других, выдвинул, потому что думает он в основном о себе, а не о деле, не об армии, которая ему доверена. Он мечется, он не способен самостоятельно принять решение. Потеряв голову – все происходило не так, как ему рисовалось, но все время помня о себе – что будет с ним, он кричит в истерике Щербатову: «Думаешь, разбил он меня? Разбил?.. О-бо-жди!.. Я с новой армией приду, так только дым от него пойдет!» Он и теперь не может осознать: той войны, которая ему представлялась, где все пойдет как по писаному, не будет и не могло быть. И так, как он командовал, нельзя воевать. А он все еще надеется: пусть сегодня не удалось, завтра он непременно закидает противника шапками.
Ошибки и промахи Лапшина (в пределах возможного, тогда никто не мог сотворить чуда – превосходство было на стороне врага) не одного лишь профессионального свойства, они коренятся в ущербности его нравственных представлений, в атрофии гражданского самосознания. Щербатов и Лапшин не только два типа военачальника – это производное, они олицетворяют разное отношение к жизни, к делу своей жизни: один человек глубоко идейный, выполняющий свой долг не за страх, а за совесть, другой – бездумный исполнитель, неспособный к самостоятельным суждениям и действиям…
И еще один персонаж противостоит Щербатову в романе – это начальник особого отдела Шалаев. Не за страх, а за совесть – убежден Щербатов, – только так можно сплотить людей, и они будут сопротивляться врагу до последнего дыхания. За страх – считает Шалаев, – если держать всех в страхе, мы станем сильными и неуязвимыми. Он утратил идейные и нравственные ориентиры и не способен отличить правых от виноватых, не может и не желает. В результате смятение и панику сеет вокруг себя Шалаев, в сущности он расшатывает моральный фундамент армии, подрывает ее сплоченность, порождает недоверие и отчужденность.
Щербатов – главный герой романа не потому только, что все сюжетные нити книги так или иначе стянуты к этому образу, а потому, что в его характере заключен самый высокий идейный и нравственный потенциал. Щербатов словно бы аккумулирует спокойную стойкость Прищемихина и неиссякаемый оптимизм Нестеренко, самозабвенную готовность Бровальского отдать себя людям и трезвый, ни перед чем не останавливающийся анализ Тройникова. В свою очередь, эти и многие другие окружающие Щербатова люди заряжаются его духовной силой, неостывающей верой в торжество нашего дела, потому что оно правое дело, его гуманизмом и справедливостью.
Щербатов не только главный герой романа, но и главная художественная удача писателя. Решающая, так сказать, стратегическая удача. И вот что примечательно: романная структура предъявляла свои требования автору, диктовала условия, с которыми он не мог не считаться. Надо ли говорить, что у Г. Бакланова были все возможности еще подробнее и глубже раскрыть молодых персонажей романа – Гончарова и Литвака, людей его поколения, – для автора «Пяди земли» это не составляло особого труда. Но вряд ли книга от этого выиграла бы, скорее, проиграла, – пришлось бы потеснить Щербатова, отобрать у него какую-то часть читательского внимания. И если кое-где в романе, как мне кажется, все-таки нарушено художественное равновесие, то в иную сторону. Гончаров и Литвак занимают в произведении больше места, чем в той реальной системе человеческих и служебных взаимоотношений, центром которой стал Щербатов. Здесь дала себя знать инерция предшествующего успеха, правда, сила ее невелика и зона действия ограничена – это касается персонажей второго плана, одного из «боковых» ответвлений сюжета…
В целом же и «Июль 41 года» и последующее творчество Г. Бакланова показывают, что он не стремился эксплуатировать собственные достижения, не собирался сеять на том поле, с которого уже собрал однажды добрый урожай. Его увлекает исследование судеб, характеров, обстоятельств, которыми прежде он не занимался, каждый раз он ставит перед собой новую задачу, которая не решается освоенными способами, в привычных жанровых координатах.
Это одна из причин, почему после «Июля 41 года» Г. Бакланов обращается к современности. О другой он говорил сам: «Много лет прошло после войны, жизнь раскрывала свои сложнейшие проблемы, драмы мирного времени. И все это случалось не с кем-то, а со мной тоже, я ведь жил не в иных мирах. Кроме этого, когда пишешь много лет подряд о войне, о ее трагедиях, возникает и определенная усталость». И не то чтобы военные впечатления были бы исчерпаны писателем – это невозможно, но, видно, у художника в тот момент еще не возник свежий (по сравнению с романом) подход к материалу войны, а прожитые после войны уже немалые годы, ставшие существенной частью биографии его поколения, настойчиво требовали осмысления. Характерно признание, сделанное Г. Баклановым несколько лет назад: «Я не совсем понимаю, как можно книгу за книгой писать о войне, но я еще в большей степени не могу понять, как можно забыть о ней».
Но, занявшись днем нынешним, его проблемами впрямую (произведения, посвященные войне, были лишь «настроены» на них, повернуты к ним), Г. Бакланов все же остается военным писателем. И не только потому, что герои двух его написанных после «Июля 41 года» произведений, действие которых происходит уже в наше время, люди военного поколения, а в очерковых книгах о поездках в США и Канаду то и дело возникают воспоминания автора о своей фронтовой юности (кстати, эти воспоминания внимательному читателю откроют жизненную основу некоторых образов и ситуаций военных вещей Г. Бакланова). Даже не будь этого, военное происхождение художественного мира Г. Бакланова обнаруживало бы себя в особой нравственной атмосфере, в бескомпромиссности, в резком сближении причин и следствий, когда дурное и хорошее проявляется в человеке не исподволь, не постепенно, а сразу же и вполне определенно, в интересе к тем ситуациям, где обычное течение жизни прерывается событиями катастрофическими, где нависшая смерть заставляет людей задуматься над смыслом их существования. Суть нравственной позиции автора, сложившейся в тяжкие военные годы, проверенной в суровых испытаниях, остается неизменной и в книгах о современности.
В финале «Пяди земли» герой размышляет: «Пока сидели на плацдарме, мечтали об одном: вырваться отсюда. А вот сейчас все это уже позади, и почему-то грустно, и даже вроде жаль чего-то. Чего? Наверное, только в дни великих всенародных испытаний, великой опасности так сплачиваются люди, забывая все мелкое. Сохранится ли это в мирной жизни? Будет ли каждый из нас всегда чувствовать, что его, как раненного в бою солдата, не бросят в беде люди?»
Под этим углом зрения и рассматривается в повести «Карпухин» (1965) сегодняшняя мирная жизнь. Один из персонажей произведения, наблюдая распри в своей семье, с удивлением и грустью говорит: «Старики у меня хорошие, тихие. И Тамара ведь баба неплохая. Чего не ладят? Эх, люди, чудной народ! Была война – как друг за дружку держались! Неужто забыли?» В повести это маленький эпизод, но для автора вопрос – «неужто забыли?», неужели из-за равнодушия, казенного отношения, погруженности в свои мелкие дела и интересы можно бросить в беде человека? – главный, центральный вопрос. Так он проверяет своих героев, чего они стоят, что у них за душой, так вершит над ними моральный суд. Постоянная нравственная проекция сегодняшнего на войну – «как раненного в бою солдата» – делает этот авторский суд строгим и высоким.
На войне воочию убеждаешься, как часто наша жизнь зависит от тех, кто рядом с нами, а их жизнь – от нас; в мирное время это не очень ясно видно – только в чрезвычайных обстоятельствах. В такой острой драматической ситуации оказывается Николай Карпухин – герой баклановской повести. Беда нависла над ним нешуточная, и если не выручат его люди, разбита будет его и без того не очень складная жизнь. А человек он по-настоящему достойный, из тех, на кого всегда можно положиться, кто неизменно, словно по-другому и быть не могло, и в войну и потом, после нее, брал на себя самое трудное. Судьба не баловала его, несправедливо тяжкие удары ее дорого стоили Карпухину: в войну он за чужие грехи попал в штрафную роту, а в годы послевоенного разорения за малую вину получил непомерно большой срок.
И вот новая беда подстерегла его: ночью на шоссе сбил человека насмерть: тот пьян был, выскочил прямо перед машиной. Только-только стала как-то налаживаться у него жизнь: женился, жена ребенка ждет, пить бросил – одно время после лагеря он, махнув на все рукой, стал попивать… И опять грозит Карпухину лагерь, многое против него: две судимости, подозрение, что не человек, попавший под колеса его машины, а он сам был пьян, к тому же следствие и суд проходят тут, где все знали погибшего, он пользовался уважением, а Карпухин – посторонний, чужак.
Только одно может отвести от Карпухина нависшую над ним беду – непредвзятость, но на это оказываются способны не все, от кого теперь зависит его судьба, не все могут и хотят вникнуть в реальные обстоятельства случившегося. Молодой следователь Никонов – человек незлой и совестливый – почувствовал, что Карпухин не виноват, что правда на его стороне, но Никонов в себе еще не очень уверен, это его только третье дело, ему трудно стоять на своем, когда общественное мнение маленького городка, где все всех знают, против него, у прокурора тоже иная точка зрения, и обвинительное заключение Никонов составил такое, какого от него ждали. Прокурор же, требуя для подсудимого самого сурового наказания, меньше всего думал в этот момент о Карпухине, о его судьбе. Он был целиком поглощен собой: считая, что он неизлечимо болен и в последний раз обращается к людям, прокурор хотел сказать им самое главное, заветное, объяснить, что милосердие к преступнику противоречит гуманизму. А для судьи Сарычева очень важно, что сейчас ведется кампания борьбы с пьянством: оправдать Карпухина, когда есть подозрение, что он в пьяном виде вел машину, значит двинуться против течения, поставить под сомнение дело большой государственной важности. Овсянников и Сарычев не относятся к Карпухину пристрастно, их суждения продиктованы, казалось бы, принципиальными соображениями, но руководствуются они принципами, для данного случая совершенно неподходящими, и о человеке, судьбу которого решают, не думают. Если бы не это, то они, конечно, обнаружили бы, что Карпухин ни в чем не виноват, что оснований для обвинительного приговора нет.
Из других принципов – справедливости, внимания к человеческой личности – исходят механик автоколонны, секретарь парторганизации Бобков и народный заседатель Владимиров, подполковник в отставке, командовавший в войну мотострелковой бригадой. Для них суд – дело не профессиональное, а нравственное. Они убеждены, что человека можно осудить и наказать, только если он действительно виноват, если доказано, что он не совершил преступление, – никакие другие мотивы не могут приниматься в расчет. Прежде всего надо видеть человека, его достоинства и недостатки, вникнуть в его судьбу – вот путеводная нить, которая не даст заблудиться в любом хитросплетении обстоятельств и принципов, вот истина, которой никогда нельзя пренебрегать.
И когда уверенный в непогрешимости своих суровых принципов Овсянников вдруг ощутил, что в его суждениях не было места этой простой, но непросто дающейся истине, что-то в нем дрогнуло, «нравственная почва под его ногами начинала колебаться». Открывшаяся и Никонову эта истина вызовет у него муки совести, острое гнетущее недовольство собой – быть может, из всего этого в будущем родятся нравственная прозорливость и стойкость. «Как же так получилось, – не оставляло Никонова чувство постыдной вины, – что все они, незлые люди, принесли в жертву такого же, как они, человека по фамилии Карпухин? Ведь завтра это же может случиться с ним, с Никоновым. Не будет его, и вот так же ничего не изменится, и люди вечером выйдут поливать свои огороды… Мысль эта казалась ему непереносимой. Ведь так нельзя жить! И чему в жертву? Они сами, если спросить их, не знают, кому нужна такая жертва? Кому от этого может стать лучше?»








