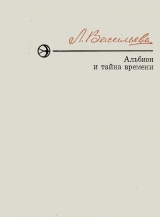
Текст книги "Альбион и тайна времени"
Автор книги: Лариса Васильева
сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 17 страниц)
Автомобиль в Англии прежде всего и самое главное – лицо обывателя, отражение его благосостояния, своего рода входной билет в гостиные того класса, к которому он хочет принадлежать.
У мистера Вильямса, например, никогда не было автомобиля – он слишком хорошо знает цену деньгам и не считает возможным тратить их по пустякам: за деньги покупать себе хлопоты, которых и даром хватает?
И все же, все же…
Стою на перекрестке Авеню роуд, Аделаид роуд Финчли роуд и Лес Святого Джона. В Англии почти нет регулировщиков уличного движения. В тех местах, где толпы людей пересекаются автомобильным движением например, на Оксфорд-стрит, роль регулировщиков выполняют женщины-штрафовальщицы: они попросту попеременно пропускают народ и автомобили, заметно отдавая предпочтение пешеходу.
Хочу перейти Аделаид роуд. Стою и жду, потому что – красный свет. Жду терпеливо, знаю, что сейчас сменится свет. Но что это: белый автомобиль, старенький и грязноватый, тормозит почти что у моих ног. Водитель из окна жестом предлагает мне перейти. Перехожу и, естественно, не могу не ответить ему улыбкой на улыбку. Вопреки, всем правилам движения, он пропустил меня. Это случается уже не первый раз, и всегда после такого случая невольно веселеешь и кажешься себе красивой и молодой, и англичане, хотя, быть может, за рулем сидит совсем не англичанин, тоже премилый, пресимпатичный народ…
Машина ваша стоит на повороте и ждет, пока пройдет поток. Непременно найдется в потоке третья, четвертая или пятая машина, водитель которой затормозит и пропустит вашу машину, показав рукой: мол, будьте любезны, уступаю. Вы не замедлите поднять ладонь и, непременно тоже улыбнувшись, жестом поблагодарите. При этом, заметьте, чувство собственного, достоинства испытывают оба – и пропустивший, и пропущенный.
Еще зебра. Белые полосы на асфальте, которые есть во всех странах мира. Не буду себя ругать – у нас, по-моему, зебра существует просто так, по традиции, и ничего для пешехода не означает, но не буду ругать – в Италии, на улицах Неаполя и Флоренции, в Копенгагене и Хельсинки, как правило, шоферы «плевали на зебру» и не пропускали меня, когда я ступала на расчерченный асфальт.
Совсем другое дело – Англия. И хотя на зебре порой случаются несчастья – чего не бывает с людьми – как правило, как закон – если зебра – вся власть пешеходу. Поначалу я испытывала даже некоторые угрызения совести, когда передо мной останавливался огромный, набитый пассажирами автобус, а за ним тормозил и весь «хвост» машин, автобусов, грузовиков. И всего-то переходила одна я. Поначалу угрызения были. Но человек быстро привыкает к удобству. Во всяком случае, когда однажды в Лондоне я попыталась ступить на зебру, но автомобиль не дал мне этого сделать, промчавшись передо мной, я весьма рассердилась на него и даже поворчала себе под нос. Привыкла, видите ли, к уступкам.
– Все едут, едут, куда они едут, за смертью своей гонятся, боятся не успеть! – размахивает руками мистер Бративати.
Мы переходим с ним улицу по зебре, остановив поток.
– Проклятые автомобили. Подумать только, что они сделали с воздухом в городе! Жена каждое утро снимает тряпкой с подоконника слой не то чтобы пыли, какого-то черного сала. Я, когда оказываюсь за городом, через пятнадцать минут начинаю ощущать, что у меня кружится голова и горят щеки. Это почему? Да потому, что человек – тоже машина. Он работает на топливе – воздух топливо. И все мое существо привыкло работать на отравленном, испорченном, засоренном топливе. Чистое топливо уже непривычно, и бедный организм активно на него реагирует. Он уже с трудом его принимает!
Парадокс, совершенный парадокс – автомобиль засоряет городской воздух, а человек покупает автомобиль, чтобы с его помощью убежать от засоренного города и подышать свежим воздухом! Чем больше автомобилей, тем хуже воздух. Чем хуже воздух – тем больше нужно автомобилей, дабы убежать от него. Колесо!
Мы идем с мистером Бративати на демонстрацию членов общества защиты городского воздуха от загрязнения. И в эту минуту мой эмоциональный спутник кажется ничем на свете более не озабочен, кроме проблемы городского воздуха?
– Все мои дети выросли на лондонском асфальте. Конечно, я сам виноват, мог бы жить в ладу с природой, работать в поле. Но так сложилась жизнь. Может быть, я и не так уж сам виноват: у меня ведь не было выбора, какую ферму покупать или в какой колледж пойти учиться. Выбор был один-единственный – метла. И асфальт. Вот дети и выросли. Ничего здоровые дети, черт бы их побрал, и умные. А все же гадость – автомобиль.
Мы вливаемся в колонну демонстрантов у площади Пикадилли. Пешая процессия, мешающая автомобильному движению, довольно внушительна. Люди несут плакаты и лозунги. «Не убивайте детей автомобильным газом», «Нужны лесные лагеря для детей больших городов». Идут рабочие, мелкие служащие, домохозяйки.
– Пустое дело, пустое! – ворчит мистер Бративати, тяжело дыша со мною рядом. – Конечно, святое дело – пойти поддержать, но пустое, ничего не выйдет. Сколько раз уже хожено, а никогда никакого результата. И правильно. Какой может быть результат? Прогресс не остановишь. Человечество должно себя перемолоть. Жерновами, которые само создало. Мы сами себя убьем, вот что. Но историю не повернем. Глупая эта демонстрация. Незачем правительству швырять деньги на очистку. И если бы вышвырнуло, толку бы не было – как это все очистишь – ведь заводы не закроешь, машины не остановишь. Да и все эти (он тычет пальцем в медленно ползущий рядом с нами «мерседес»), они от проблем простого человека находятся знаешь на каком расстоянии? Миллионов световых лет!
Мистер Бративати гордо улыбается, он ждет, что я оценю его ум и знания. Я оцениваю. И мы идем дальше, чтобы спустя три километра разойтись в разные стороны, словно и не было никакой демонстрации.
– А знаете, – говорит мне вечером этого дня мистер Вильямс, посмеиваясь, – я уверен, нашему правительству нужно додуматься сделать один незначительный жест – на главной площади повесить плакат «Воздух очень засорен автомобилями. Просим прощения». И все. Так в каждом городе. Страна мигом успокоится. Нам, англичанам, ведь важно общепризнание какого-то факта, сочувствие, и мы удовлетворены. Вы заметили, в каждой пачке сигарет «Бенсон и хеджес» всегда лежит бумажка с правительственным предупреждением о вреде табака. Я точно знаю – большинство англичан предпочитает эти сигареты именно из-за правительственного листка. Вот так-то.
«Механический зверь», расползаясь по этому, в сущности, совсем небольшому острову, приобретает все более и более разрушительную силу. Он способен угрожать целым городам. И каким городам – Бату!
Бат лежит на Эйвоне, том самом Эйвоне, что протекает и через шекспировский Страсфорд. Более чем где бы то ни было в Бате видны следы дерзкого древнего Рима – здесь еще живы полуразрушенные римские бани (Бат – баня по-английски), построенные некогда на источнике целебных вод. Зелено-изумрудная цвель, жаркий серый запах бассейнов и камни – серые камни былого, красноречиво молчащие: вот большой бассейн для знатных, римлян, вот небольшой, квадратный, для самых знатных, а эта круглая ванна уж не Юлия ли Цезаря желала принять в свое лоно?
Чего-чего только нет в этом городе для туриста. Здесь все музеи – и дома, и улицы. Время словно остановило свой бег на этом месте и замерло. Архитектура – одно из самых благородных и долговечных искусств – чрезвычайно громоздкая вещь. Книгу можно держать на полке, картину на стене, музыку в памяти. Высокое произведение архитектуры невозможно переставить с места на место, – впрочем, при современной технике возможно, но я говорю не о техническом приеме перестановки, а об эстетическом: в облике города прежде всего изменяется вместе со временем человек, а в последнюю очередь архитектура.
Не боясь быть кощунственной, скажу, что в таких городах, как Ленинград, Львов, Суздаль, Черновцы – человек далеко ушел от города и не сливается с ним, они не являют собою единого целого. Такие города, как Москва, Нью-Йорк, Неаполь, очень изменившие с эпохой свой облик, вполне соотносятся с человеческим потоком, стремящимся по их улицам. Есть города, где сосуществование человека и города взаимопроникновенно – такими мне видятся Париж, Лондон, Рим, Киев.
Но Бат как раз таков, как Суздаль, хотя ничем на него не похож. Толпы туристов, глазеющие и трогающие, как нечто случайное, как массовка на сцене, попавшая не в тот спектакль. И при этом Бат – большой город где живет несколько сот тысяч человек, занятых в основном в сфере обслуживания туристов. Время от времени над седой головой Бата проносятся шквалы двадцатого века: то химический комбинат планируется поставить неподалеку от города на приэйвонских холмах то о металлургическом заводе поговаривают. Для немалой армии безработных, живущих в районе Бата и в самом городе, это решение несет с собою гибель старинному городу.
Однако ходят слухи, Бат оказался под совсем иной угрозой: «механический зверь» готов налететь на него и смести с лица земли большую часть.
Дело в том, что город опоясан множеством автомобильных дорог. Движение на них с каждым годом становится все оживленнее. Уже сегодня автомобилисту приходится, проезжая через это чудо архитектуры и истории, «положить» три полных часа на стояние в хвосте.
По плану реконструкции Бата предполагается постройка в городе полукилометрового тоннеля и новой сети автодорог, что повлечет за собой снос целых старинных улиц.
– Ах, ну стоит ли вам так волноваться из-за нашего Бата, – облила меня своим холодком миссис Кентон, у которой на все случаи жизни были решения и безапелляционность. – Вы придаете слишком большое значение тому, что пишет наша пресса. «Спасем Бат! Спасем Бат!» Раскричались. Чуть ли не в каждом номере газеты за эту неделю статья о Бате. Вот увидите, покричат и успокоятся. Выявятся разные общественные мнения, поработают статистики – и все быстро заглохнет. Очередная кампания. Причем время сейчас летнее, политическая жизнь в состоянии отпусков, болтать не о чем, вот и «всплыл» Бат. Вот увидите – в ближайшее время ничего не будут перестраивать.
Со дня того разговора прошло три года. И в самом деле. Бат как стоял, так и стоит. «Механические звери» проползают по нему по-прежнему медленно. Водители про себя, если это англичане, и вслух, если люди какой-нибудь другой национальности, чертыхаются, но Бат стоит.
– Стоит-то он, стоит, но проблема остается и все увеличивается со временем, поэтому я советую, если есть возможность, побывайте еще раз в Бате, – говорит мне сегодня Антони Слоун. – Мне становится страшно, когда я думаю, что могут снести большую улицу Платени.
Она, как улица Росси в Ленинграде, состоит из двух параллельно идущих классических зданий и венчается дворцом классической архитектуры. Дома темно-серые с черными подпалинами времени.
Прекрасный наш двадцатый век. Он придумал множество игрушек не только забавных, но и чрезвычайно полезных человеку, он освободил и продолжает освобождать его время, одновременно забивая голову так, что время, освобожденное им, благополучно и с лихвой уходит на заботу об этих игрушках, на желание и осуществление владеть ими, если их нет, и на усилия в приобретении их.
Прекрасный талантливый, наш двадцатый век. Его нельзя сравнить ни с каким другим временем, и особенность его, возможно самая яркая, в размножении по земле «механических зверей» для сокращения расстояний, для разных надобностей и удобств человеческих.
Неуемные искатели вечного двигателя. Это вам обязано человечество «открытиями в области науки и техники». Можно ли быть неблагодарными к памяти тех, кто наградил нас телефоном и телевизором, автомобилем и электроплитой? Да разве все перечислишь! У человека нашего времени есть хорошее иждивенческое чувство по отношению к предметам и «зверям», облегчающим жизнь. Есть у него, у определенной и немалой категории людей, и отрицание технического начала в быту, но это всего лишь инерция косности.
Мне мерещатся слабые очертания огромного замкнутого круга: мы освобождаем свое время с помощью техники от многих трудностей и тягот, мы освобождаем его, и оно, свободное, немедленно заполняется чем-то иным. Но чем? Нельзя точно дать определения на все случаи жизни, учтя все характеры и ситуации, но одно несомненно: много рук сегодня освобождается на горе себе – современная Англия дает этому положению красноречивые иллюстрации и слово «безработица» стоит здесь неподалеку от словосочетания научно-техническая революция.
В Англии сегодня несметное количество народу занято в так называемой сфере обслуживания – в магазинах, ресторанах, турбюро и многом другом. Господин Великий Быт царит полновластно и прочно. Все хотят быть хорошо одетыми, сытыми, не бояться завтрашнего дня, не пугаться инфляции и безработицы. Все хотят быть равными. Но многовековые принципы человеческого леса – свобода, равенство, братство – гармонически прекрасные, существуют лишь в идеале, а правят лесом – несвобода, неравенство, небратство. И некое начало хаоса видится мне в том, что все менее на земле рук производящих и все более ртов пожирающих.
А человек, освободивший время, чем он заполняет его? Наилучшим заполнителем для поколения, которому сегодня между пятнадцатью и сорока, стала суперсовременная музыка.
Не хочу бросать камни в это новое явление жизни, не хочу, хотя «руки чешутся». Я даже согласна принять его и уж, конечно, дозволить повсеместно, ибо, недозволенное, оно все же проползает через любые малые отверстия, уродливо деформируясь при проползании.
Ошалело и оглохло сижу я на концерте популярной поп-группы в Лондоне, окруженная орущими, ревущими, свистящими подростками.
– Безобразие! – хочется кричать в первую минуту. – Остановите безобразие!
Это дети, такие добрые и мягкие, такие упрямые и настойчивые, такие понятные и сложные, родные всего лишь за полчаса до концерта. Через полчаса после концерта, остыв и обсохнув, они станут такими же, какими мы знаем и любим их. Сейчас в минуты этого крика, рева, исступления что движет их порывами? Я хочу это понять, не осудить, а лишь понять. Древние зовы леса? Ой ли? Откуда взяться им вдруг ни с того ни с сего. Инстинкты полового созревания?
Другой, совсем другой голос подспудно слышу я в звуках, несущихся с эстрад и возбуждающих сегодня западный мир. Это же поступь «механического зверя»: скрежет тормозов, удар ветра о стекло при резком повороте, выдох выхлопной трубы, вой сирены.
Вот, оказывается, чем заполняется время, освобожденное с помощью «механического зверя» – его звериной эстетикой, его звуками, то есть, иначе говоря, «зверь» заполнил собою то, что освободил. Круг замыкается.
Неуемные искатели вечного двигателя! Мир вам и слава именам вашим. Пускаясь в свои великолепные поиски, вы искали его на земле, среди ее тайн. Отправляясь на поиски, вы, как правило, порывали с небом, и не ваша то была вина: у врат его стояли грешные земные стражники, не умевшие постичь его высот, что само по себе не позор, ибо чего не дано человеку понять, того не поймет человек. Но стражники эти все же даже узурпировали ее. Такое, естественно, было противно вашим ищущим умам и вы, приняв посредников за голоса Неба, не пытались постичь его тайну, не тайну бороды Саваофа, а тайну Времени: лишь оно Вечный Двигатель и лишь ему люди должны смиренно поклониться и вглядеться в него пристально – не прочтем ли того, что оно хочет сказать нам и говорит, говорит уже много веков, а мы не можем понять его слов, ибо не пытались постичь языка Времени. Возможно, поэтому благородные поиски искателей вечных двигателей увенчались столь большими успехами для плоти человеческой, а духа его не коснулись, возможно, отсюда и выросли противоречия мира, которые разрастаются все более.
– Милая, – сказала миссис Кентон, – что это такое вы написали? Какой-то оккультизм. Какую тайну и какого Времени вы провозглашаете? Это область, конечно, заманчивая, но по-моему не очень доступная, в особенности для женских мозгов. Что-то там на эту тему успешно делал Энштейн. Я видела по телевизору передачу о нем. Симпатичный старичок, лохматый, настоящий ученый. Но и он не прав: время есть время: очень понятно – сейчас пять, пора пить чай. Вам с молоком или без молока?
А что касается усовершенствований нашего века – они прекрасны. Удобство – всегда хорошо. Не нужно притворяться – так приятно растянуться в кресле перед телевизором…
– И посмотреть, как где-то люди умирают от голода.
– Ах, но чем я конкретно могу им помочь. Эти призывы к гражданской совести всегда беспочвенны. Скажите мне, что я, миссис Кентон, должна сделать для умирающих – я сделаю, но попусту не мешайте смотреть телевизор.
Владимир Мономах и Мария Гастингс
Осенними утрами, когда тучи ходят над Лондоном, оставляя на волосах мельчайшие капли теплой и все же прохладной влаги, осенними утрами, ровно в половине девятого раздается этот звук – цокот копыт по мостовой. Впервые я услышала его утром четырнадцатого октября 1973 года.
Бывают удивительные совпадения чисел и событии. Порой даже волнующие своей загадочностью. В это утро я собиралась, несмотря на хмурое небо, отправиться в Гастингс – городок в южной оконечности острова, на море, ничем не примечательный, кроме того, что немногим более девятисот лет назад именно четырнадцатого октября вблизи Гастингса решилась судьба Англии: нормандский герцог Вильгельм Завоеватель победил последнего короля английской расы Гарольда.
В чем секрет – не знаю, но если в день какого-то события я настою на своем и окажусь на месте, где все случилось, мне кажется, что представление о событии перестает быть представлением и только – я называю это эффектом соучастия: земля, небо, очертания холмов и долин, реки и ручьи – все это мало изменилось с веками, и если чуть-чуть прищурить глаза и задуматься…
Застучали копыта. Конница Гарольда…
Копыта стучали слишком звонко – по земле так не стучат – это была мостовая, отлично замощенная лондонская мостовая. Я бросилась к окну: белобрысый всадник в кепке цвета хаки неторопливо удалялся на каурой в сторону Риджент-парка.
Спустя два часа после того, как он проехал, я была уже в Гастингсе.
Поле гастингской битвы – просторная, окаймленная холмами долина. Прежде на холмах росли деревья андеридского леса. Годы и события вырубили их, и стало угадываться вдали море, откуда некогда пришли нормандские корабли. Волнуясь, поднималась я на холм Сенлак, к аббатству Святого Мартина, построенному Вильгельмом в честь своей победы на месте, где пал Гарольд.
Почему я волновалась? Зачем это русскому человеку волноваться в связи с фактом чужой истории, да еще случившимся девять веков назад?
История – это и увлекательное чтение, с годами я стала предпочитать исторические исследования художественным книгам: сюжеты истории богаче придуманных – не зря Шекспир ворочал историческими личностями и их жизнями – в истории, если читать ее долго и глубоко, всегда заложены ответы на многие сегодняшние вопросы и еще, для меня это последнее – главное, – я всегда ощущаю невидимую связь времен так, словно в какой-то неблизкой жизни была участницей всех событий. Порой это чувство обостряется – и кажется мне – «я на свете пять жизней чужих прожила». Однажды я заговорила об этом своем чувстве со старым ученым историком. Он добродушно и понятливо усмехнулся:
– Ничего удивительного, это кровь говорит – вы ведь не на пустом месте выросли – за вами века.
Потянула я нитку из клубочка английской истории, § привел меня клубочек… к себе же домой. Помните ли вы эпоху Владимира Мономаха? Этот князь помимо всего прочего был знаменит своими семейными связями едва ли не со всеми властвующими домами Европы. Он-то и женился на дочери Гарольда Годвина, которую звали Джитой.
Я сижу на камне среди развалин аббатства. Листья плюща и ползучие розы полузакрыли серые камни. В руках у меня книга английского историка Грина, И оживает холм Сенлак:
«Ранним октябрьским утром Вильгельм повел свои войска по возвышенности от Гастингса к устью Тельгема. С этого места увидели нормандцы английскую армию, тесно построенную за окопами и частоколом на высотах Сенлака. Ее правый фланг был прикрыт болотом, а левый, самую опасную часть позиции, защищали телохранители Гарольда в полном вооружении и с громадными секирами… Остальная позиция была занята густыми толпами полувооруженных крестьян, собравшихся по призыву Гарольда для борьбы с врагами.
Своих рыцарей Вильгельм направил на центр этой грозной позиции, а фланги велел атаковать французским и бретонским наемникам. Атака нормандской пехоты открыла сражение: впереди пехоты ехал менестрель Тайлефер, бросая в воздух и ловя свой меч и распевая песнь о Роланде. Он первый из нормандцев нанес удар – первый и пал.
Тщетно пытались нормандцы овладеть крепкой изгородью, из-за которой сыпались дротики и удары секир и слышались дикие крики: «Вон! Вон!»
За отражением пехоты последовало отражение конницы. Несколько раз водил Вильгельм войско к роковой изгороди. Весь боевой пыл, клокотавший в его нормандской крови, вся беззаветная храбрость соединились в этот день с хладнокровием, стойкостью и неистощимой находчивостью.
Бретонцы с левого фланга попали в болото и пришли в расстройство: паника охватила все войско, когда разнесся слух, что герцог Вильгельм убит. «Я жив! – закричал он, сдернув с головы шлем. – Я жив и с божьей помощью одержу еще победу!»
Взбешенный неудачей Вильгельм ринулся прямо на королевский штандарт, его сбили с коня, но он своей тяжелой палицей сразил брата короля Гирта. Выбитый опять из седла, он своею рукою поверг на землю всадника, не согласившегося уступить ему коня. Среди грохота и шума битвы он видит бегство части своей армии, останавливает ее и пользуется этим для победы. Хотя частокол был порван его бешеной атакой, но стена из щитов, стоявших за ним воинов, все еще удерживала нормандцев; тогда притворным бегством Вильгельм выманил часть англичан из их неприступной позиции, затем обратился против пришедших в беспорядок преследователей, прорвался сквозь покинутые линии и овладел центром позиции. Тем временем французы и бретонцы удачно поднялись на флангах.
В три часа дня холм был взят. В шесть битва еще кипела вокруг штандарта, и дружинники Гарольда стойко бились на том месте, где впоследствии был воздвигнут главный алтарь Аббатства Битвы.
Наконец герцог выдвинул вперед стрелков, и тучи их стрел сильно разредили густые массы, столпившиеся вокруг короля; при закате солнца стрела поразила в правый глаз самого Гарольда; он пал среди знамен, и битва закончилась отчаянной схваткой над его трупом. Ночь прикрыла бегство англичан. Завоеватель расставил свою палатку на том самом месте, где пал Гарольд, и «сел есть и пить среди трупов».
Это был конец и начало. Битва при Гастингсе для истории Британии важна не менее, чем для нас битва на Куликовом поле, хотя поводы их совершенно разные.
После Гастингса аборигены этого острова, привыкшие прежде к чужеземным вторжениям, до сегодняшнего дня не видели в своей стране неприятельского лагеря.
Набирая с веками силу, эти островитяне зато сами распространились по миру.
К вечеру тучи над долиной разбрелись, заголубело небо. Солнце садилось в море. Вот блеснул последний луч, последний луч Гарольда. Быстро темнело. В полумраке забелели тонкие туманцы. И возникло поле битвы. Дымно. Душно. Шорохи и стоны.
Как знать, по какой дороге пошли бы отношения России и Англии, не случись битвы при Гастингсе, не умри Гарольд на поле боя. Мало, конечно, поводов предполагать идиллию в этих отношениях в том несвершившемся варианте, а все же мысль человеческая ищет и надеется, а вот если бы, тогда бы!
Смех и шепот зашевелили кусты Сенлака – две девочки забрели в развалины. Они, наверно, были ученицами школы, выросшей здесь на холме. Вспыхнул фонарь у входа в ресторан, построенный невдалеке от развалин на том месте, где монахи аббатства некогда раздавали подаяния нищим и паломникам. Вспыхнул фонарь и рассеялись все мои видения. Ресторан называется «Отдых пилигримов». Моторизованные пилигримы и впрямь любят это место – возвращаясь вечером с пляжей Гастингса, удобно завернуть сюда на ужин. И романтичное место. Весьма.
Прошла неделя – настало воскресенье. И снова утреннее цоканье копыт: тот же всадник на той же лошади удалялся в сторону Риджент-парка. Несколько месяцев по воскресеньям провожала я его незамеченная. Но однажды лошадь взбрыкнула прямо перед моими окнами, всадник повозился с нею, успокоил, поднял голову, увидел меня в окне. Взгляды встретились. Я махнула ему рукой – он ответил. С тех пор это повторялось каждое воскресенье.
Невинное приключение заметно украсило мою лондонскую жизнь. И не то чтобы жаловалась я на отсутствие дел и забот – их было сверх меры, и не то чтобы одинока была я здесь, но к естественной и непроходящей тоске по дому, по своей жизни там, примешивалось ощущение некой пустоты внутри, некой незанятости души. Впрочем, ностальгия – предмет разговора совсем другого рассказа, и я упомянула о ней здесь лишь в связи с появлением всадника.
Конный спорт, как известно, прерогатива этой страны, а посему, что бы я ни придумывала, мне было достоверно известно одно: в Лондоне каждый член какого-либо клуба верховой езды, каждый умеющий управлять конем может взять его напрокат на час, два или более. В парках встречаешь не только одиноких наездников или пары, но и целые семьи: отец, мать, все дети – самая маленькая трясется позади всей кавалькады на пони. Удовольствие дорогое, но, судя по количеству наездников, настолько большое, что и денег не жаль.
Стирка белья в Британии – дело в основном мужское. Как правило в субботу отец семейства загружает корзину для провизии целлофановыми мешками с бельем и везет их на колесиках в прачечную. Там, запустив деньги в машину, он сыплет порошок, пускает воду и садится читать, пока машина не сделает своего дела. Выстиранное белье, опять прежде запустив деньги, муж-прачка сушит точно с такими же удобствами.
– Если я все-таки защищу свою многострадальную диссертацию, – пошутил как-то Антони Слоун, – то будет это исключительно благодаря прачечной: вот где продуктивно работается, шум машин и беготня детей совершенно не мешают. Я вообще заметил, что чужие дети не действуют на нервы.
Должна сказать, я возила белье в прачечную сама. Случались в прачечных кроме меня и другие женщины, но все же мужчины преобладали. И еще должна сказать, нисколько не жалею, что возила белье: это было самым удобным местом для чтения по методу Антон и, а кроме того мне посчастливилось именно там продолжить, и все же не дописать до конца одну страницу своей жизни…
Я уже запустила машину и обернулась к скамье сесть с книгой. Он читал свою книгу перед своей работающей машиной, он был поглощен чтением, он – мой всадник, которого я воображала известным спортсменом, актером, графом Эссекса.
– Здравствуйте! – сказала я ему громко и радостно.
И стояла перед ним, открытая этому романтическому знакомству, готовая рассказать, как первые увидела его, как жду по воскресеньям…
Он сухо кивнул и углубился в книгу.
Не узнал. Ну, конечно, не узнал. Снизу не видно лица машущей с пятого этажа. Он попросту не знает меня в лицо: привычно машет темной фигуре за занавеской.
– Вы не узнали меня? По воскресеньям из окна дома на улице Святого Джона я машу вам…
– Да, я вас узнал, – равнодушно ответил он.
Я и растерялась, и расстроилась. Чтобы это значило? Почему он так приветливо машет мне по воскресеньям и так сух теперь. Ну, конечно, самолюбие! Ему неприятно, что я застала его за таким неделикатным делом, как стирка. Да, явно не хватило мне такта сделать вид, что не узнаю его. Нехорошо.
Мы стирали в глубоком молчанье. Читали. Перед каждым в иллюминаторах бешено вертелись трусы, рубашки, полотенца. Смывалась пыль дорог, накипь тревог и волнений, пятна неловкости. Смывалось то, что можно отмыть.
Я запустила глаза в его книгу. Это был исторический роман.
– Вы любите историю? Что за книга?
– Глупый роман из времен битвы при Гастингсе, – холодно ответил он, не поднимая глаз от страницы.
– Зачем же вы читаете, если глупо? – не отставала я.
– Я читаю все, что касается дома Годвина. Я имею честь быть в прямом родстве с Гарольдом Годвином.
И все это говорилось в той же холодной манере, носом в книжку. Потомок Гарольда, стирающий подштанники в итальянского производства стиральной машине. Красиво!
Внезапное озорство повело меня вдруг в ту же сторону:
– Какое приятное совпадение: я имею честь быть в родстве с домом Владимира Мономаха.
– Да, – сказал он, словно ничего удивительного не услышал, – если бы тогда в Гастингсе победил мой предок, все теперь было бы по-другому.
– Ах, вы почти думаете, как я. И отношения России с Англией возможно развивались бы более ровно.
– Тогда все было бы по-другому! – повторил он подчеркнуто. – Нормандцы, слившись с нами, дали нашему национальному характеру склонность к захвату. Конечно, приятно сознание, что владеешь половиной мира, но каково все это терять, как теряем сегодня мы!
Мне казалось, что он начинает вдохновляться. Голос становился все громче и резче, соседи уже поглядывали на нас, и я в душе кляла себя за то, что ввязалась в разговор с сумасшедшим. А всему виной моя, развивающаяся лишь здесь, привычка вступать в разговоры с незнакомыми людьми, оправдывая себя тем, что я, мол, познаю страну, общаясь с ее гражданами. Вот и распутывайся теперь с потомком Гарольда.
Но распутываться не пришлось. Он умолк внезапно, как только его машина окончила стирку. После стирки праправнук Гарольда затеял сушку, и пока сушил, читал, больше со мной не общаясь. Я, конечно, новых разговоров не затевала.
Когда пришла пора ему уходить, он аккуратно сложил в свою корзину чистые тряпки, прямо взглянул мне в глаза небесно-голубыми холодными очами, попрощался и повез колесики.
Мне долго помнился этот взгляд – не было в нем никакого безумия, никакой странности, а было достоинство и равнодушие – столь типичное для англичанина.
Это была суббота. А завтра он должен проехать мимо моих окон.
Почему-то казалось мне, что он не проедет. Но он не только прогарцевал мимо, а, как обычно, поднял голову и, увидев меня, с прежней ласковой и доброй улыбкой кивнул. Удаляясь, он обернулся и махнул хлыстом.
– Нетрудно проверить, – заметил Антони Слоун, когда я рассказала ему о своем странном приключении, – в Британии принадлежность к тому или иному роду выяснена до деталей. Существуют геральдические книги, целые тома. Впрочем, скорей всего он просто сумасшедший.








