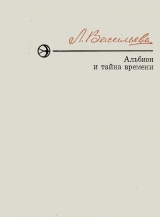
Текст книги "Альбион и тайна времени"
Автор книги: Лариса Васильева
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 17 страниц)
Тайны Темпля
Кто не любит чувства весны в себе и вокруг! По свойству климата у нас, континентальных людей средней полосы России, оно возникает однажды на исходе февраля или в начале марта, когда еще ни единого признака весны в природе нет, кроме разве чуть приподнятого над зимой солнца, да и его чаще всего не видно за сплошной облачной пеленой. Чувство весны где-то рядом, в воздухе, в необъяснимом запахе, побеждающем даже бензинный городской дух, запахе слабом, слабейшем и сильном тем превращением, которое он производит в человеке.
На английском острове с его ровным климатом чувство весны не так сильно. От того, что нет резких перемен и снега никогда не покрывают землю, а один градус по Цельсию хором признается всеми англичанами сибирскими морозами, первое чувство весны у меня здесь появилось где-то в середине января, попросту в первый солнечный день, после серых дождей, туч, плывущих почти по земле. Люди распахнули пальто, развязали шарфы, и ко мне вернулось любопытство к лицам, несколько притуплённое в дни дождей.
Кто не знает фразы: «лицо – зеркало души». Всегда она мне казалась красным словцом, как и всякое другое красное словцо – отчасти точным, отчасти приблизительным, отчасти несправедливым.
«Душа – объясняет словарь С. И. Ожегова, – есть внутренний психический мир человека, его сознание, мышление». Даже если принять за истину это объяснение «души», столь упрощенное, то и тогда трудно будет согласиться с тем, что коли уж лицо – зеркало, то оно лишь отражает. А не маскирует ли чаще, чем отражает? Или уж на худой конец всеми своими разнообразными выражениями о душе и вообще ничего не говорит? А если заполнить понятие «души» еще и чувствами, еще и свойствами характера, еще исторической ретроспективой развития той или иной индивидуальности – обо всем этом словарь не упоминает, – то лучше всего оставить нам рассуждение о душе, дабы не попасть в область неразрешимых задач и неответных вопросов. Согласимся хоть и не зеркало души лицо, все же многое в нем говорит о человеке.
Жадно гляжу я в эти весенние лица. Англичане. Что ваши глаза и губы, подбородки и лбы могут сказать кого, о чем бы я не знала прежде и чем как ключом смогла бы открыть тайну вашей медлительности и сдержанности, секрет вашей былой власти над миром, за которыми без явного к тому основания мне чудится темперамент большой силы?
Полно, какие тут англичане. Лондонская весенняя толпа – поистине вавилонское столпотворение. Все типы лиц и цвета кожи. Постепенно, не без ошибок, глаз приучается отличать – тонкий овал, глубоко посаженные светлые глаза, прямой нос, заметно выдающиеся вперед узким мысом обе челюсти и зубы, лодочкой сходящиеся к центру губ, длинная шея, и каждый волос толстый, ровный, блестящий, как струна или рыболовная леска.
И все же сколько бы ни наблюдала я и ни делала выводов – не могу сказать, что с успехом безошибочно определяю англичан. Ошибаюсь на каждом шагу. Ибо англичане – понятие ой какое широкое. Жители Корнуола это совсем не то же самое, что жители Ланкашира, люди с заметным ирландским колоритом черт лица и характера, отличаются от тех, кто населяет южное побережье главного острова. Что тогда говорить об уэльсцах, в чьих жилах течет кровь древнейших обитателей острова, или о шотландцах…
Окончательно захлебнувшись в волнах типов и черт, оставила я эту полупустую затею – искать англичан на улицах Лондона. А любопытство к весенним лицам осталось, перейдя в стадию чистого созерцания.
Так однажды, созерцая, прошла я насквозь центральные площади города, свернула в сторону Сити, немного не доходя, повернула вниз к набережной, миновала узкий проход между домами, дважды спустилась, один раз поднялась по ступеням каких-то лестниц и очутилась на площади, со всех сторон замкнутой домами, перед старинным храмом, одна часть которого была продолговата, другая кругла. Сердце замерло, как бывает всегда перед входом в святилище, о котором знаешь давным-давно и много, а вот теперь наконец-то предстоит главное – увидеть. Темпль. Самая знаменитая из всех круглых церквей Англии, самая красивая. Ранняя английская готика. Чудом уцелевшая в дни Великого Пожара 1666 года, но получившая раны от фашистских бомбардировщиков в мае 1941 года. Храм ордена тамплиеров.
Что помним мы об этом некогда могущественном и таинственном рыцарском ордене. Основан в 1118 году во время крестовых походов. Его члены – богатейшие владельцы обширных земель на Востоке и в Западной Европе, в особенности во Франции. Несколько веков подряд орден держит славу крупнейшего ростовщика Европы, чем, естественно, вызывает к себе много ненависти. Французский король Филипп Красивый в 1307 году конфискует богатства тамплиеров, а спустя несколько лет римский папа упраздняет этот орден.
В Англии тамплиеры строят свой круглый храм на исходе 1185 года и процветают так же, как и в Европе. Упразднение ордена церковью поставило Англию перед необходимостью тоже жестоко расправиться с тамплиерами, как того требовал папа. Однако правивший страной в то время Эдуард II сначала колеблется, он пишет папе, выражая свое доверие правоверию и нравственности ордена, а более всего желая в собственных интересах оставаться на уровне хороших отношений с этими богатыми, таинственными, хищными и сильными людьми.
Колебания Эдуарда кончились тем, что 20 декабря 1307 года он, уступив настоянию папы, внезапно арестовал всех храмовников.
И началось следствие, в ходе которого вдруг выплыло наружу то, о чем полтора века простые религиозные горожане шептались по углам.
Семь свидетелей показали, что прием в орден тамплиеров был секретным.
Трое свидетелей донесли, что о тайне ордена нельзя было говорить даже между собой.
Четверо присягнули, что храмовникам запрещено было исповедоваться кому бы то ни было, даже папе, и разрешено только священникам их ордена.
Что же это была за тайна? Что за страшные секреты? Один свидетель рассказывал о бдениях членов ордена, на которых они плевали на крест, говоря: «Христос умер не за наши грехи, а за свои», поклонялись… кошке, медной голове, золотому тельцу.
Некто Роберт Отерингам однажды подсмотрел в щелку бдения храмовников и спросил одного из них, какому святому они молились. Тот стал бледен: «Если хочешь быть жив, не спрашивай ни о чем».
Свидетель Вильям Верней рассказывал об одной из тайных доктрин ордена: «У человека душа такая же как у собаки».
Рыцарь ордена по имени Кентериль провозглашал: «У нашего ордена три обета, известные Богу, Дьяволу и нам!»
Ходили слухи об одном храмовнике, который убил своего сынишку, случайно увидевшего и услышавшего, как одного из новообращенцев ордена заставляли «отречься от всего человеческого».
Рассказывали о жестоких расправах храмовников со всеми, кто нарушал обеты Темпля: чаще всего, поиздевавшись всласть, надругавшись самыми изысканнейшими надругательствами, виновного зашивали в мешок и топили.
Женщина, жившая неподалеку от Темпля, как все женщины – воплощенное любопытство, утверждала в суде, что довольно долго, никем не замеченная, наблюдала она в дверную щель, как тамплиеры поклонялись в своем храме идолу со светящимися глазами и занимались при этом грязными оргиями.
Три дезертира ордена увенчали все эти и множество других показаний признанием в отступничестве, кощунстве и противоестественных пороках всех без исключения членов ордена.
Орден был уничтожен.
Какие страсти! Вхожу в храм, где по слухам и доносам многовековой давности происходило страшное, прохожу под изящными стрельчатыми сводами к алтарю, разглядываю яркую мозаику сводчатых окон. Пусто. Перед скамьями прихожан лежат молитвенники. Церковь как церковь. Таких в этой стране множество. Через час, если верить объявлению у входа, начнется обыденная служба. Паства здесь немногочисленна и однородна: в основном адвокаты и преподаватели колледжей Сити.
Я шла к выходу из храма и уже у самых дверей вспомнила, что не была в его круглой части.
Скульптуры рыцарей со скрещенными ногами на плитах надгробий – девять фигур, лежащих на полу в центре круглого зала, большей частью немного повреждены от бомбежки 1941 года. Среди них нашла я надгробья «последнего великого феодального барона» Вильяма Маршала, графа Пемброка и двух его сыновей. Он, правоверный советник короля Иоанна Безземельного, убеждавший последнего дать вассалам «Великую Хартию Вольностей». Он был выбран регентом Королевского Совета в царствование Генриха III. Значит, он и был тамплиером? Вечером этого дня я нашла в одной из старых английских исторических книг упоминание о том, что граф Пемброк покровительствовал ордену, не будучи его членом, за что с огромной помпой прах его был положен в круглой части Темпля в 1219 году.
Эти рыцари со скрещенными ногами, у одного левая по колено отвалилась, у другого совсем стерлись черты лица третий обезносел, почему-то вселили в меня тревогу, необъяснимую потому, что доселе вид надгробии в английских храмах не вызывал никаких волнении, разве что любопытство к имени и судьбе того, кто лежал передо мной, окаменев, и чье сомнительное изображение могло послужить разве что пищей для фантазий, единственной и точной и которой на самом-то деле нет. Привычная сознанию картина мира представилась гладкой, расшитой, хотя и чуть обветшалой ширмой, окружившей меня. Острое желание заглянуть за ширму, дабы увидеть все тайные и явные пружины истинного, неприкрытого механизма жизни было столь сильно, что я подняла глаза от надгробья графа Пемброка и двинулась на стену. В ту же секунду я ощутила перед собой непреодолимый барьер – множество взглядов впилось в меня и остановили…
Пятьдесят шесть лиц бесновались на круглой стене Темпля. И всего-то было – традиция ранней готики – изображать химер, адских чудовищ для устрашения человека Страшным судом. В туристской книжонке «Церковь Темпль» про эти головы на стене так и сказано: «По традиции они должны изображать души в аду и души в раю, но, глядя на них, думаешь, что они еще проходят чистилище». Но в том то и штука, что со стен Темпля смотрели на меня скульптурно безглазые не химеры и абстрактные души, а живые люди, лица. И при взгляде на них никаких ассоциаций с душами в раю или в аду у меня не возникло. Совсем другое возникло.
Да, все они глядели своими мраморными белками с пробуравленными дырочками зрачков, и каждый взгляд настойчиво пронизывал меня каким-то одним чувством какой-то одной волей, у каждого они были разные, и это так действовало, что я перестала ощущать себя самой собою.
Трусость колыхала мраморные складки жалких щек.
Открыто хохотал обман, довольный своей удачей.
Лесть расползалась по свиному рылу.
Равнодушие, почти смертельное, стыло на одутловатых щеках.
Властно гремело торжество силы.
И тихо похихикивала над торжеством соседняя с ним подлость.
Женщина в пароксизме боли раздирала свои губы руками.
Сладострастие высовывало язык и подставляло для забав ухо звероподобному бесу.
Ненависть сжигала грубые черты мужского лица.
Тупость заливала собою лицо, уже почти лишенное человеческих черт.
Мерзко ухмылялось победившее предательство.
Сытость преступно предлагала себя на обзор.
Ложь изгибала тонкие брови.
И бессмысленно чугунным взором глядела правда.
Все это, как стрелы, пронзило меня и, освобожденное, омертвело, зато во мне случилась буря неуживающихся черт, и глубоко, слабея, теплилось во мне сознание, что не выдержу я, не вынесу тяжестей. Вот уже весь круглый Темпль был полон мною, оставалось лишь преодолеть стены, но я уже знала, что эта преграда преодолима. И я проходила сквозь них, почти не ощущая их каменного холода, проходила, дабы постичь, что там, за ширмами, постичь и наконец-то открыто крикнуть всему человечеству…
За ширмами был весенний лондонский деловой день. Вежливый старенький пастор, поддерживая меня за локоть, мягко улыбался:
– Вы, видимо, туристка, устали, много впечатлений…
– Разве я сделала что-нибудь непозволенное?
– О нет, нет, не волнуйтесь. Вы просто странно размахивали руками, словно хотели взлететь. Мне казалось, что вы вот-вот потеряете сознание, я и вывел вас на улицу. Извините.
– Это вы извините меня.
Мы ласково расстались. Я влилась в поток толпы и пошла своей дорогой. Сильно колотилось сердце, глаза рассеянно блуждали по встречным лицам…
Я ничего не берусь утверждать, ничего никому доказывать, но после посещения этого удивительного храма средневековые сплетни о тайнах тамплиеров уже не кажутся мне глупыми. Легко могу себе представить какое-нибудь бесовское бдение в этом круглом зале с его немыми зрителями.
Трафальгарская площадь
Светло-кремовый ее камень, как тяжелая драпировка, спадает по ступеням. На верхней ступени колоннада Национальной галереи, чуть ниже – балюстрада, внизу – венец площади – триумфальная колонна в честь адмирала Нельсона, победителя в битве при Трафальгаре в 1805 году.
После грохота окрестных улиц, Трафальгарская площадь почему-то поражает тишиной, хотя народу на ней всегда множество. Мне кажется, что все шумы поглощены здесь шелестом падающей из фонтанов воды. Четыре темно-серых льва, бронзовые создания резца сэра Эдвина Ландсира, сторожат колонну Нельсона.
Из всех узлов Лондона Трафальгарская кажется мне главным. От нее расходятся лучи – к Вестминстеру, к Сити, к королевскому Букингемскому дворцу, к торговым улицам Оксфорд и Риджент-стрит, к увеселительному району Сохо.
Не знаю, согласится ли со мной кто-нибудь, но главная английская площадь, когда я впервые ступила на ее плиты, показалась мне очень французской. Высоко взлетевший маленький Нельсон в треуголке издали похож на Наполеона, а разноперая туристская толпа у подножья колонны, легкомысленно распластавшая свою усталость и переполненность впечатлениями, живо дополняла «вид Парижа».
И все же, если бы я родилась англичанкой, то, возможно, любила бы Трафальгарскую площадь более всего. Но я не англичанка, и люблю ее просто так. Долго хотела я и не решалась исполнить одно свое, мягко говоря, не взрослое желание: забраться на льва верхом и поболтать ногами, поглядывая по сторонам. Улучив однажды момент, когда один из львов был не занят ребятишками, я на глазах у всей площади забралась на его еще теплую от предшествующего седока спину и заболтала ногами.
Никто не засмеялся. Никто не сказал: «Здоровая тетка, а ведет себя, как девчонка». Никто не согнал. Никто не порадовался. Никто не обратил на меня ни малейшего внимания.
С одной стороны, это было приятно – первое чувство неловкости прошло, и я ощущала себя победительницей, право, не знаю над чем и над кем, скорей всего над собственной робостью.
С другой стороны, это было обидно – ну что за равнодушный народ вокруг, и ведь не только англичане толкутся около львов, тех можно было сразу же обвинить в безразличии ко всему, что не они. Здесь туристы со всего мира, занятые фотографированием, кормлением голубей, просто разговорами на ступеньках лестницы.
Я неуклюже слезала со льва, думая, что человеку всегда чего-то не хватает для полного счастья. Часто человек даже не замечает вовсе своего счастья. Сознание, что оно было вот тогда-то, вот в ту минуту приходит потом, иногда спустя много времени. И необратимо.
Впрочем Трафальгарская площадь в этом не виновата. Она вообще к этому рассуждению никакого отношения не имеет.
Улица принца Уэльского
Она на восточной стороне Темзы и против парка Баттерси. Восточная сторона – совсем другой Лондон рабочий, задымленный, серый. Но эта улица еще несет на себе следы западного Лондона. Маленький Мартин Мелвилл живет на расстоянии пяти автобусных остановок от нее. Как и большинство домов «той» стороны дом Мартина беден: разрушенное крыльцо – нет денег чинить, лампочка без абажура – нет денег купить, в трехэтажном доме один туалет и одна ванна на девятнадцать человек соседей; Отец Мартина – рабочий механических мастерских периодически сидит без работы. Мать ходит убирать квартиру небогатых, но позволяющих себе эту роскошь преподавателей колледжа, на улицу принца Уэльского. Иногда она берег с собой кого-нибудь из трех детей. Впрочем, чаще Мартина, потому что Эми и Фэй не любят там бывать.
Для Мартина такой день праздник. Утром, встав раньше всех в доме, он без материнских напоминаний идет в ванную, где долго моется. Потом надевает свой лучший пиджачок – голубенький на молнии.
Прежде, пока мать убирала, он ходил по квартире, разглядывал и трогал предметы, многие из которых видел впервые: письменный стол с кожаной зеленой поверхностью, настольную лампу, на туловище которой нарисованы уютные домики, снимал трубку с телефона и напряженно слушал гудок. Потом ребята во дворе сказали, что по телефону можно, набрав определенный номер, послушать сказку или музыку. И он стал набирать этот номер, пока мать однажды не застала его за этим делом.
Сначала она кричала на него, потом обнимала и плакала. Из всего этого шума он понял одно, хозяева квартиры должны платить за каждую минуту работы этого телефона, и пока Мартин слушал сказку, деньги хозяев телефона утекали из их карманов.
Мать хотела отдать им деньги или отработать бесплатно, но они были хорошие люди и простили Мартину его невинные проказы. Он больше не снимал трубки.
– Папа, – сказал однажды шестилетний Мартин, когда вся семья сидела за столом, – мы не могли бы жить на улице принца Уэльского? Мне там очень нравится жить.
Отец засмеялся, а мать сказала:
– Пора мальчика отвести за реку, показать настоящий город.
Независимая Фэй, старший ребенок в семье, в свои семнадцать уже участвовавшая в демонстрациях за равноправие женщин, потрепала Мартина по голове:
– У нашего братца определенно буржуазные наклонности.
– Это не так уж плохо, Фэй. Может быть, даст бог ему повезет больше, чем твоему отцу, – вздохнула мать.
– Когда он подрастет, я думаю, мы уже расправимся с буржуазией! – объявила Фэй тоном хозяйки этой жизни. Ее дружок Ричард Дэви носил ей политическую литературу.
– Ну вот и решился вопрос, – пошутил отец, – Фэй с Ричардом сделают нам революцию, и вся семья переберется на принца Уэльского.
После этого разговора Мартин стал смотреть на Ричарда с нескрываемым любопытством. Фэй даже не было теперь необходимости выгонять его из комнаты, когда приходил Ричард. Мальчик сам плотно прикрывал за собой дверь, чтобы не мешать старшим делать революцию.
Сохо
«Шумный район узких, большей частью безвкусных улиц известный своими иностранными ресторанами и лавчонками, а также развязной ночной жизнью» – так безжалостно аттестует этот, лежащий в самом центре столицы кусок ее мира популярный справочник «Иллюстрированный гид Британии».
– Вы бродили по Сохо? – гримасничает миссис Кентон. – Страшное место. Наш позор. Когда же наконец там все снесут и пусть хоть «вставные челюсти» построят, но уничтожат этот рассадник заразы! Верите, в Сохо у меня по коже мурашки пробегают, и я испытываю непреодолимое желание скорей очутиться дома и стать под душ.
– Прелестные есть местечки в Сохо! – улыбается своим воспоминаниям мистер Вильямс. Помню, в двадцатых годах неподалеку от «Китай-города» была греческая таверна. Какой я там ел шашлык! – Ничего подобного за всю мою долгую жизнь больше не пробовал. А в тридцатых, по вечерам, я захаживал в ночной ресторан «Ласточка». Там в представлении участвовала одна моя подруга тех лет. О, нет, Нэнси была честная девушка. Но она происходила из бедной семьи и непременно хотела выучиться на медицинскую сестру. Вечерами подрабатывала в «Ласточке». Ее взяли туда за красивую фигуру. Ее номер, Нэнси участвовала в канкане третьей слева, был первым в программе. После выступления мы садились с нею за свободный столик, выпивали свое виски, ее виски было для нее бесплатным в «Ласточке», и шли гулять или ко мне. К Нэнси было нельзя, она снимала крохотную комнатенку, и ее злющая хозяйка не одобряла мужчин.
– Я не бываю в Сохо по вечерам и вообще не замечаю его реклам, о которых столько досужих разговоров. Что в Сохо действительно замечательно – это овощной рынок. Лучший в Лондоне. Иногда я прохожу через Сохо-рынок и покупаю там что-нибудь экзотическое для своих ребятишек, – говорит Антони Слоун. – Совсем недавно, в ноябре, я принес им из Сохо «Кастард-эплл». Не знаете, что это? В Латинской Америке этот фрукт называется «чиримойа».
Чиримойа! Боже мой, чиримойа! Чили шестьдесят девятого года. Ноябрь. Весна в южном полушарии. Всего три дня назад в осенней Москве чилийский чиновник посольства, выдавая мне паспорт и желая успеха, сказал: «Вы увидите очень красивую страну и очень спокойную, у нас уже тридцать один год не было никаких волнений». Зачем он сказал про волнения, мне было непонятно. Я тут же забыла его слова.
Выхожу на солнечную главную улицу Сантьяго и у самого подъезда гостиницы вижу огромную платформу с фруктами: бананы, яблоки, бананы, черешня, бананы, сливы, бананы… а это что? Темно-зеленое, чешуйчатое, похожее на кедровую шишку, мягкое на ощупь.
– Чиримойа, чиримойа! – чирикает в ответ на мой немой вопрос смуглый черноглазый паренек, торговец. – Чиримойа, чиримойа.
Я покупаю одну шишку и тут же на виду у прохожих вонзаю зубы в золотистую мякоть плода. На что это похоже? На все и ни на что. Яблоко, и ананас, и дыня и что-то цитрусовое. Накупаю целую корзину этого неведомого фрукта, через час машина с нашей молодежной делегацией движется в горы по узкой дороге, а потом из машины пересаживаемся мы в вагончики железной дороги, которые доставляют нас на высокогорный медный рудник.
Жаркий, звенящий аплодисментами вечер встречи с рабочими рудника, песни и танцы, и в разгар веселья врывающаяся новость: в стране начинается первая за тридцать один год всеобщая забастовка Ночью гости, не спим, взбудораженные, взволнованные и все вместе едим мою чиримойю, просто, быстро, без восхищения ее божественным вкусом, так, как, проголодавшись, ели бы хлеб или холодную картошку.
Чилийские события тех дней, ставшие началом новой жизни, закружили в своем водовороте. Комсомол повезли нашу делегацию в один из пригородов Сантьяго, где пыльный кусок пустующей земли накануне захвати ли бездомные семьи и раскинули свои шатры. Здесь намерены они были начать новую жизнь. Никогда до сих пор не видела я такой леденящей душу нищеты: дети-полускелетики с язвами на коже, с изъеденными молочными зубами, сгорбленные старухи, уже почти ползущие по земле а старухам тем не более сорока – пятидесяти.
– Ты должна выступить, – сказали мне комсомольцы, – смотри, как много здесь женщин, пусть они послушают женщину из страны, где победил народ.
Впервые в жизни я хотела, хотя не знала, о чем буду говорить…
Смерть Альенде. Первое выступление чилийского посла перед телезрителями. Демонстрация протеста прогрессивных англичан против незаконного переворота. Я пришла к зданию посольства задолго до начала демонстрация, но там уже стояли толпы молодых людей со знаменами и плакатами. Из окон посольства смотрели растерянные лица вчерашних его сотрудников.
Я плакала, не стесняясь, об Альенде, которого знала.
– У этой женщины, наверно, кого-то убили в Чили, – сказал юношеский голос за моей спиной.
Погиб Виктор Хара. А ведь он пел нам однажды всю ночь в молодежном клубе Сантьяго.
Долго еще ждала я хоть какой-нибудь вести о Луисе. Вестей не было. Потом я узнала, что его расстреляли на стадионе в первые дни путча. Так я и думала: он был из первых везде, и пуля от врага полагалась ему из первых. В Сохо, кроме чиримойи, я теперь встречаю иногда чилийцев, которым удалось спастись от преследований хунты.
Да, я смотрю на Сохо совсем другими глазами, чем миссис Кентон, мистер Вильямс, Антони и многие другие. В Сохо всегда спасались люди от насилия, гнета, нищеты, эмигранты из других стран, а их судьба в Англия, как правило, предопределена и расклассифицирована точно.
Здесь еще можно найти потомков французских протестантов, тысячами перебежавших в 1685 году через канал после отмены Нантского эдикта. Здесь греки, ушедшие от режима черных полковников, индийцы, спасшиеся от голода.
О происхождении названия «Сохо» есть в Англии две версии: по одной, «Со-хо!» – был клич повстанцев, последователей мятежного графа Монмауса.
«Со-хо!»– также охотничий трубный крик.
Последняя версия наиболее популярна в Лондоне.








