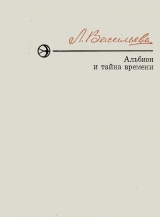
Текст книги "Альбион и тайна времени"
Автор книги: Лариса Васильева
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 17 страниц)
«Запоминай, – говорила я себе, – запоминай, надо!»
На столе к началу обеда стояли цветы в двух вазах, солонка и перечница, а на скромного вида закусочных тарелках перед каждым местом лежал большой, во всю тарелку, но чрезвычайно тонкий кусок лососины, по краям украшенный большим салатным листом. Сквозь лососину просвечивал изящно-витиеватый маленький рисунок в самом центре тарелки: золотом на темно-зеленом был выведен крылатый дракон.
Мне захотелось поднять лососину с дракона, поднести тонкий розовый ломоть к глазам и посмотреть, какое при этом будет выражение на лицах у гостей.
Вместо этого я мягко, покорно разрезала розовый папиросный листок. Разговор после похвал лососине, она и в самом деле была молодцом, переметнулся на ее цену, и, узнав, что за последние полгода она вздорожала вдвое, я почувствовала себя как-то неловко от того, что вот сижу обсуждаю то, что съела, да еще и наношу урон хозяйскому кошельку, ем такую дорогую рыбу.
Однако, кроме меня, никто неловкости не ощущал.
«Вам следует отнестись к нам, как к туземцам: узнать обычаи и следовать им сообразно обстановке», – зазвучали во мне вещие слова миссис Кентон.
Мы ели протертый суп из помидоров. Зачерпнув последнюю ложку из суповой чашки, я увидела на дне ее знакомого дракона.
– Какой красивый сервиз! – сказала я, отдавая хозяйке пустую чашку и обращая внимание всех на большую тарелку перед собой, где дракон был уже довольно большой и я могла даже разглядеть выражение его морды – свирепое выражение. – Очень красивые тарелки. Это, видимо, фирмы «Веджвуд»?
Хозяйка одобрительно и несколько удивленно улыбнулась:
– Не правда ли, красиво? И вы уже знаете фирму «Веджвуд»? (Спасибо, миссис Кентон, милая, спасибо. Вы – молодец!) Как приятно. Это, правда, не «Веджвуд», а всего лишь «Минтон». (Ах, миссис Кентон, простите, рано я вылезла с вашим «Веджвудом», не поучилась, не пригляделась.)
– Всего лишь! – воскликнула зубастая гостья. – «Минтон» – самая дорогая марка фарфора, – объяснила она мне, – притом заметьте, это фамильный «Минтон» с вензелями и драконом, который есть в гербе семьи нашего дорогого хозяина.
«Скорее, скорее бы кончилась эта мука! Чушь! Ерунда! Абсурд! Сидеть и обсуждать какие-то тарелки. Да побейся они все! И как дальше-то – неужели несколько лет жить, говорить про сервизы и погоду, писать ничего не значащие письма…»
– Очень вкусно! – слышу я голос мужа и возвращаюсь в действительность – на тарелке передо мной, украшенный зеленым вареным горошком и вареной морковью (встречали ли вы человека, который искренно без мыслей о пользе, любил бы вареную морковь? Я не встречала) лежит он самый, обыкновенный плавающий в белесо-коричневой жиже старый знакомый бефстроганов.
– О, да! – подхватывает гостья, его соседка. – Необычайно вкусно, дорогая, вы – замечательная кулинарка. Кажется, между прочим, – обращается она к моему мужу, – я слышала, что бефстроганов – блюдо русского происхождения…
Кончился обед десертом – яблочным пирогом, политым сливками, и хотя я точно знаю, сама покупала такой пирог в кондитерском магазине, все гости хвалили хозяйкин кулинарный талант, а она улыбалась.
– О, я бесконечно благодарна вам за приятнейший вечер, мне было необычайно хорошо у вас, очень, очень рада, спасибо, чудесно, – говорил кто-то в моем облике, моими губами, но уже почти не моим слащаво-льстивым высоким голосом, прощаясь в узкой прихожей у лестницы.
Утром следующего дня не без помощи словаря сочинила я письмо, где последней стояла фраза: «и еда была изысканнейшая». Отослала – задумалась: какой бы извлечь урок?
И решила я избрать золотую середину: так выкладываться, как умеем мы, здесь совершенно не нужно – и все же принять безоговорочно эту манеру приема гостей не позволял мне мой национальный характер: вот уже и приготовить мало, а в самую последнюю минуту «страх объемлет члены»: ведь люди придут и, как же так, из моего дома уйдут голодными!
Со временем выработался опыт: печеная картошка – без счета по две на каждого, легкие салаты и разная рыбка, а потом, пожалуйста, бефстроганов, подумаешь, бефстроганов, это ведь не утку яблоками начинять. И никаких холодцов, никаких пирогов.
Приехав в отпуск домой и созвав самых близких друзей, решила я с ними поэкспериментировать. Рассадила по углам и говорю:
– Какие напитки будете пить?
А они, несколько оторопев, сами стали наливать себе. На столе в маленьких четырех вазочках была разложена легкая закуска.
Мои дорогие друзья молча переглянулись, но не сказали ни слова. В одну минуту один из них смахнул себе в тарелку содержимое одной вазочки, другой – другой, а пятому и шестому вообще не досталось. В полной тишине, подняв полную рюмку над пустой тарелкой, шестой мой гость сказал:
– Слушай, там у вас, в Англии, конечно, кризис, мы понимаем, жрать нечего. Но сейчас мы все, слава богу, дома. Посему позволь нам сбегать за угол в магазин «Комсомолец», там выбор неважный, да и поздно уже, но кусок колбасы и несколько банок консервов всегда найдется.
Я счастливо расхохоталась и бросилась на кухню за спрятанными там бесчисленными яствами.
Жизнь вошла в свои берега.
Лицо Лондона
Прежде чем увидеть что-то или кого-то, человек обычно пытается представить себе кого-то или что-то. Всегда ли представления совпадают с реальностью?
Я не могу сказать, в чем тут дело, но Париж открылся мне таким, словно знала его едва ли не с рождения, Ленинград оказался неизмеримо богаче всех моих представлений, от Москвы, попав в нее впервые из маленького уральского городка, я ожидала большего, а Лондон был ничем не похож на тот город, который связывался в моем представлении с этим именем.
«Лондон… – думала я всегда, – Лондон – нечто хмурое, темно-серое, иногда краснокаменное, острокрышее, причем крыши толпятся, теснятся, нечто узкое – не разойдешься, по-своему сурово-красивое, вечно дождливое или туманное – нечто».
Город разметал передо мною ослепительно белые крылья улиц в районе Риджент-парка, завлек на свои сдобные холмы, покрытые вечнозеленой травой и кудрявыми, неохватными каштанами и буками, ошеломил решительными поворотами домов, являющих былое величие империи, погрузил в пучину нищеты и грязи в Брикстоне и Уайтчепеле – нет – он не был похож ни на какие представления о нем, ни на какие описания.
Растерянно бросилась я к Герцену:
«Нет города в мире, который больше бы отучай от людей и больше приучал бы к одиночеству, как Лондон».
Эти слова вполне подходили к моему старому понятию о Лондоне и, видимо, известные мне давно, тоже формировали представление, но совсем не показалась верными в определении того города, который был передо мною и великодушно позволял познавать себя.
Здесь предстояло жить и понимать чужую жизнь, И чем дольше я живу, тем, казалось, меньше знаю и понимаю Лондон.
Он – существо со множеством лиц. Лондон деловой ничем не похож на Лондон развлекательный. Здесь разные и архитектура, и цвета зданий, и краски одежд, и люди, и выражения на их лицах. Лондон торговый это совсем не то же самое, что Лондон спальный – районы, где в основном жилые дома.
Лондон правого берега Темзы совершенно другой город, чем Лондон левого берега. Мосты столь же соединяет эти города, сколь и разъединяют. Западный конец, где и парламент, и королевский дворец, и площадь Трафальгара, где вся лицевая история и гордость страны, тоже необычайно разнообразен – разные лица Лондона мирно соседствуют и так быстро сменяют друг друга, что уследить за ними невозможно.
Только что я шла мимо богатых особняков, свернула за угол – бедный негритянский район, облезлые дома, грязь, мусор, еще за угол – высотные жилые кубы и параллелепипеды – новый район, где живет средний класс, где и занавески на окнах и машины у подъездов именно такие, какие должны быть у среднего англичанина.
И при всем этом разнообразии, при всей пестроте, есть люди, утверждающие, что Лондон – чрезвычайно однообразный и монотонный город.
«Как похожа эта улица на Килборн», – думаю я, проходя по Кентиштауну – линии прижатых домиков, одинаковой архитектуры, витрины магазинов: «Маркс энд Спенсер», «С энд А», «Теско», «Сэйнсбэри» – точь-в-точь такие, как в Килборне.
«Да не в Кентише ли я?» – озираюсь на центральной улице Северного Финчли.
– Это что, Северный Финчли? – спрашиваю водителя такси, проезжая невдалеке от Шеппердс-буша, который от Финчли на расстоянии двадцати миль.
Даже кварталы богачей в Лондоне похожи между собой. Белые дворцы Белгревиа я научилась отличать от таких же в районе Риджент-парка лишь благодаря обилию зелени в последнем.
Что уж тогда говорить о новых районах, во всем мире сегодня выстроенных одинаково. В Лондоне я отличать их не берусь – не могу. Единственное, что может помочь, – это названия домов.
Вот где необозримое поле для фантазии. Англичане привыкли часто вместо номера обозначать дом тем или иным именем. Думаю, в основе этой традиции лежит стремление выйти из укоренившейся системы архитектурного однообразия.
Название дома, как правило, берется не с потолка. Перед этим белым строением в прошлом веке росли три дуба. Поэтому оно и называется «Три дуба». А соседний дом назван «Два каштана» исключительно потому, что хозяин его, когда строился, перенял архитектуру «Трех дубов», и в этих дубах все так нравилось ему, что и название он в некотором роде тоже позаимствовал. Он даже посадил перед крыльцом два каштана. Один умер, не выдержав какой-то холодной зимы, а другой стоит, и у него весенние свечи густо золотистой окраски.
А этот дом называется «Красным», у него крыша выложена красной черепицей. Рядом «Зеленый дом» (уже только по названию), дальше «Голубой домик»…
Есть, правда, улицы, где принцип наименований иной – хозяева не следовали друг за дружкой, а изощрялись один перед другим. «Русалочий домик», а рядом «Чертова кухня»; «Оплот тишины», а через несколько кварталов «Приют весельчаков».
Вся эта игра – прерогатива богатых районов. Никаких названий нет там, где закопченные строения. Да и кому пришло бы в голову издеваться над собственной бедностью, вывешивать перед ветхим крыльцом витиеватой вязью написанное «Прибежище радости».
Однако – примета нашего времени – вставные челюсти города – высотные жилые дома-близнецы, построенные муниципалитетом и предоставляемые людям в порядке очереди – переняли опыт богачей: я иду между ними и отличаю их только по названиям. В том районе, по которому сейчас иду, преобладают писательские имена: вот башня зовется «Дом Фильдинга», точно такая же слева – «Дом Бронте», – интересно, какая из трех Бронте имелась в виду, жаль не додумались те, кто называет, ведь можно было сэкономить названия, как красиво звучали бы три башни: Шарлотта, Эмилия, Анна.
В попытке нарисовать лицо Лондона во всем его многообразии и однообразии мне придется прибегнуть к форме, наиболее отвечающей предмету моего внимания: поскольку город мозаичен, то посредством мозаики я и попробую изобразить его.
Сити
Человек в длинном черном смокинге. Поверх длинное черное пальто. На голове черный котелок. На руках черные перчатки, а в руках черный зонтик. Теплое, солнечное апрельское утро. Мы с ним идем вдоль темно-серых и бледно-желтых стен банков – бастионов величия империи. Он называет мне каждый и о каждом знает все – какой капитал вложен, какова история его возникновения и даже, что особенно интересно, – каковы его дела на сегодня.
– Мистер Вильямс, вам жарко, снимите пальто.
– Всю мою жизнь я носил эту одежду, мне не жарко, мне приятно идти, осознавая, что я жив и все еще всем своим существом принадлежу Сити, не то что вот эти…
Он с пренебрежительной гримасой обвел рукой вокруг себя, предлагая осмотреться. Улица кишела народом – в светлых одеждах, в серых костюмах, в голубых измятых брюках.
– И это клерки Сити! – вздохнул мистер Вильямс. – В мои времена весь наш банковский город был одет, как один человек. Как я сейчас. Когда в часы ленча или после работы все выходили на улицы – вот было внушительное, почти ритуальное зрелище.
– Наверное, все это напоминало похороны, – осмелилась я.
– Напоминало. Однако я нахожу, что в ритуале похорон есть большая торжественность. Причастность к деньгам и причастность к смерти, если задуматься очень сходные причастности, и та, и другая не оставляют иллюзий, величественны в своей сути, и обе, в конечном итоге, тлен.
Мистер Вильямс очень стар. В своем похоронном одеянии с бледным морщинистым лицом, удлинившимся от худобы и старости носом, глядящим в рот, во всем этом он удивительно похож на…
Нет, нет, неприятное сравнение исчезает, едва этот человек начинает говорить: лик смерти озаряется изнутри светом ума и остроумия, а также вы сразу же замечаете, как он бодр, несмотря на восемьдесят лет.
Он до сих пор спортсмен. Каждое утро его можно увидеть бегущим по дорожкам Холланд-парка. Бегает мистер Вильямс в белых трусах и белой майке, какая бы дождливая погода ни была. Этим, да еще умеренным и строго по часам питанием он объясняет свое долголетие, которым гордится более всего на свете. Есть у него еще одно объяснение, на мой взгляд, несколько спорное, но, коли уж начала я рассказывать о мистере Вильямсе, умолчать об этом значило бы обеднить его столь необычный и, все же осмелюсь утверждать, весьма типичный английский облик.
Мистер Вильямс – холостяк.
– Конечно, когда я смотрю в парке на резвящихся детей и думаю, что на смертном одре мне решительно некому будет передать все то немногое, в смысле денег и опыта, что я нажил за долгую жизнь, бывает грустно. Но ведь в жизни всегда что-то за счет чего-то. Зато каких тяжких испытаний не прошли мои нервы от ежедневного активного соприкосновения с женским характером, от ежедневного взаимонепонимания и необходимости скрывать его.
– Хорошо, но…
– Держу пари – знаю, о чем вы хотите и стесняетесь спросить. О, да, подруги у меня были. Представьте, даже теперь есть.
Мистер Вильямс снял на мгновенье котелок и провел ослепительно белым платком по редкому серебристому перелесу. Наверно, у Грина, просидевшего тридцать лет столом к столу с Вильямсом, есть основания для таких утверждений. Мистер Вильямс делает исключение для меня. Совсем не от любви ко мне, хотя относится ко мне неплохо: я нарушила его привычное представление о людях из далекой и загадочной страны. Он представлял себе нас другими: хмурыми, жестокими, воинственно настроенными. Недобрыми. Никакой его вины в этом нет. Он – исправный читатель газеты «Дейли телеграф», а та не жалеет бочки с надписью «Черная краска», когда рисует облик «готовой напасть на нас России».
Справедливости ради должна сказать, что мистер Вильям не переменил своих мнений. Мою «нетипичность» он первобытно объясняет тем, что меня «специально подготовили» перед поездкой, как и тех других, с кем я норовила его познакомить в надежде переубедить. Но именно с этой, «обработанной для поездки на долгое жительство», старый господин и развязывает язык. Он – прежде всего гражданин своей страны. Патриот. И ему хочется, чтобы пришелица издалека поняла его страну такой, какова она есть.
Это вполне совпало с моими намерениями, и мы с мистером Вильямсом являли собой весьма дружную пару на улицах Сити.
– Последние тридцать лет… Какая это была работа?
Старый человек долго смотрел на меня:
– Считайте, что я был клерком. В это словцо умещаются все профессии Сити.
– Я понимаю, клерком. Но что именно вы делали?
В чем состояла тридцать лет ваша работа?
Он опять долго смотрел на меня.
– Не забивайте себе голову тем, чего вы никогда не сможете понять. Лучше зайдем вот сюда.
Мой принцип: будь внимателен к женщине, дари цветы и никогда не позволяй ей подмести полы в твоем доме. Как только женщина взяла в руки щетку, считай, что ты пропал. Оглянуться не успеешь, как ты женат и она говорит тебе: «Подмети, дорогой, в доме грязно». Мои подруги, их две, навещают меня очень редко. Чаще всего я бываю у них. Одна, Джулия, – моя сверстница. Мы в детстве были соседями. У нее внуки и даже правнуки. Но теперь она живет одна на скромнейшую пенсию Для нее, представьте, большая радость, пообедав со мной в маленьком ресторанчике, где она до сих пор любит пропустить рюмочку-другую, потом пойти посмотреть комедию. А мне приятно вспомнить с ней молодость и раз в неделю пообедать в ее крохотной кухоньке – она замечательно готовит пирог с мясом и почками, почти так же, как готовила когда-то моя незабвенная мама. Вторая моя подруга – Эмма – полуирландка. Она еще молода – ей шестьдесят. И хотя я порой устаю от ее разговорчивости и несколько шумного нрава, мне приятно бывать с нею в кино. Жаль только, не могу познакомить Джулию с Эммой. Обе почему-то отказываются. – Мистер Вильямс указывает на пятое с краю окно третьего этажа одного из темно-серых зданий. – Вот за этими стеклами я просидел последние тридцать лет.
Вы заметили, что мистер Вильямс довольно словоохотлив. На самом деле это не так. По свидетельству его, тоже пока еще живого, сослуживца мистера Грина, Вильямс «проклятый молчун».
Он пропустил меня перед собой, и мы очутились в крохотном кафе за столиком, стоящим у самого окна. Мистер Вильямс спросил меня, что я буду есть, и заказал официантке лишь мои яства. Однако она принесла нам обоим.
– Вы, наверно, уже тридцать лет в этом кафе пьете кофе с бутербродом?
– Всего пятнадцать. Прежде я сорок лет пил свой кофе с бутербродом в премилой итальянской лавчонке. Ее держала хорошенькая неаполитанка. Я вышел на пенсию, но все продолжал каждый день являться к ней на ленч. Неблизко от моего дома. Когда она прогорела, я одно время пил двенадцатичасовой кофе дама. Но это оказалось так скучно! И вот опять хожу в Сити. Посмотрите, нам повезло, мы вовремя успели.
У дверей закусочной выстроился «хвост» желающих перекусить. Мистер Вильямс медленно обвел взглядом очередь, она была за стеклом в каких-то миллиметрах от нас.
– И это клерки Сити! – презрительно повторил он.
Клерки стояли, длинноволосые и молодые. Вид их, непосредственный и веселый, вызывал у меня определенную симпатию.
– Почему же мне будет трудно понять, что такое клерк?
– Вы на редкость неспособны в финансовых вопросах.
– Откуда вы знаете?!
Старый человек попал в точку. Мы были знакомы уже месяц. Никаких разговоров на «финансовые темы» не вели. О политике говорили и спорили много. Любимым предметом споров был покойный Черчилль. Он – герой мистера Вильямса. Все поступки и высказывания Черчилля не подлежат, по мнению старого клерка, никакой критике.
– Откуда вы знаете?
Вместо ответа мистер Вильямс взял мою сумку, лежавшую на краю стола, взглядом спросив позволения ее открыть достал мой кошелек с деньгами и вывалил его содержимое на стол так ловко, что ни одна монетка не упала на пол. Звон металла о поверхность стола мгновенно обратил внимание всех, кто густо заполнял кафе. Старый клерк ответил на все взгляды спокойным взором, который говорил: «Занимайтесь своим делом». Его поняли.
Я смотрела на груду своих измятых бумажек – автобусные билеты, ненужные чеки из продовольственных магазинов, деньги, старые записки, мелочь.
Мистер Вильямс аккуратно разглаживал голубой листок пятерки. Длинные белые пальцы нежно скользили по спокойному, невыразительному лицу Елизаветы Второй. Он смял ненужные листки, разгладил все фунты стерлингов и мягко, плотно уложил их в кошелек, мигом похудевший вполовину.
– Я давно обратил внимание на ваш кошелек. Тот, у кого он в таком состоянии, не может состоять в каких бы то ни было хороших отношениях с деньгами. Это всего деталь, но я на эту деталь обращаю внимание прежде всего. Если бы вы были тоже клерком Сити, – о, в настоящее сумасшедшее время женщина настолько быстро и решительно проникла в политическую и финансовую жизнь страны, что я не удивлюсь, если завтра Управляющей банком Англии станет какая-нибудь предприимчивая дама из мира торговцев рыбой или овощами. Так вот, если бы вы тоже были клерком Сити и я увидел бы ваш кошелек, я бы никогда не стал иметь с вами дела. Человек финансового мира начинается с чувства бережливости и любви к деньгам, конкретным их выражениям – пенсу, фунту, шиллингу.
Я видела кошелек мистера Вильямса. Он напоминал лабораторию ученого или, скорее, пульт управления электростанцией. Довольно объемистый, со множеством отделений, он вмещал в себя точно разложенные чековые книжки, карточки, листки с нужными пометками, членские билеты разных клубов и немного денег, разложенных точно согласно достоинству каждой купюры.
– Поэтому, дорогая, пойдемте лучше просто гулять по Сити.
Вообще-то, честно говоря, мне не очень хотелось весенним апрельским днем забивать свою и вправду неспособную к финансовым вопросам голову всеми невероятными сложностями, из которых состоит золотое и бумажное нутро Сити. Но отповедь мистера Вильямса весьма уязвила самолюбие.
Вскоре мы с ним очутились в галерее биржи. Я видела то, о чем много слышала и читала: сквозь стекло глядела вниз, где сновали люди, вспоминала какой-то немой фильм, где тоже сверху был показан зал биржи, точь-в-точь такой и скорей всего тот же самый, ибо биржа, где мы с моим гидом стояли, была не что иное, как «Лондон сток эксчендж» – главная фондовая биржа.
– Дорогая, – жалостливо говорил мистер Вильямс, – вы ничего в этом не поймете, и стараться не надо. Запомните только, что здесь идет торговля акциями. Вот там, в центре, торгуют акциями нефтяных компаний. Люди, которых вы видите, – клерки Сити, но у них есть свои названия, это брокеры и джобберы. И те и другие представляют здесь не самих себя, а те компании, которым они служат. Брокеры от имени компаний покупают и продают акции. Джобберы – это чисто английское дело, в других странах их нет – посредники между брокерами, они назначают цены акций. Вам понятно?
– Нет!
– Мне тоже! – вдруг сказал мистер Вильямс. – Я начинал как джоббер, и хотя Сити у меня в крови, далекий предок еще был менялой на берегу Темзы, а отец даже достиг хорошего чина в главном Банке, джоббер из меня не вышел. Я недостаточно по характеру предприимчив и небыстр в разного рода ситуациях. После года этой работы по ночам приходили кошмары, я посоветовался с отцом, и он сказал мне: «Точно выбранная профессия – залог долголетия. От работы нужно получать радость, а не кошмарные сны. Ну, пусть не радость, но хотя бы спокойное удовлетворение».
– Скажите, – спросил меня старый человек, уже когда мы с ним шли по узкой Трогмортон-стрит. – Вам не кажется Сити узким, угрюмым, темно-серым даже в такой хороший день, как сегодня.
– Да Сити и есть узкий, угрюмый, темно-серый.
Мистер Вильямс весело потер ладонями и убыстрил шаги. Узкие изгибы тесных улиц вели нас, вели, становясь то еще уже, то чуть расширяясь и сужаясь опять. Наконец мы попали в такой тесный проход, что даже идти рядом между серых стен было невозможно. Мистер Вильямс, попросив разрешения быть впереди, быстро пробежал до конца прохода и, пропуская меня, сказал: – Взгляните, это тоже Сити!
Огромные лужайки с вековыми деревьями окаймляли старинные строения, прямо перед глазами был храм, дальше опять лужайки. Вдали, в стене одного из домов были проделаны ворота, и мы, пройдя их, опять попали в царство лужаек. Пахло скошенной травой, которую тут косят чуть ли не каждый день, на траве валялись люди. Это был какой-то совсем другой мир, другой город, английский, типичный, но никак не вяжущийся с Сити.
– Я очень люблю читать книги иностранцев об Англии, в особенности о Сити и в особенности журналистов. Последние такие, должен сказать, верхогляды, что я читаю их писанину, как юмористические рассказы. Сначала, примерно так же, как вы, разбираясь в акционерных делах, они с видом знатоков плетут чепуху, а потом описывают этот тесный Сити, не давая себе труда свернуть в одну из узких улочек. А ведь в Сити на одной квадратной миле не один такой простор, где мы с вами стоим, их целых три. Это старинные колледжи, где выковывается армия знаменитых английских адвокатов – барристеров и солисетеров. Вам, быть может, рассказывали, что нет ничего более сложного и запутанного, чем английские законы?
Мимо нас прошли два молодых человека. Они быстро окинули взглядом мистера Уильямса, совсем не заметив меня, один что-то сказал другому – и оба засмеялись.
– И это люди Сити! – сказала я.
– Да, дорогая, совершенно с вами согласен. В мое время англичане считали позорным глазеть на мимо проходящих людей. Вы поняли, над чем смеялись эти два де била? Над моей традиционной одеждой. Бедная моя страна, теряя силу, теряет облик. Но что самое тяжелое – она теряет достоинство. Я, в сущности, счастлив, что сэр Уинстон не дожил до сегодняшнего дня. Он был бы несчастлив видеть то, что вижу я.
– Но ведь в какой-то степени доля вины его есть в этом. Он стоял у руля этого корабля и правил.
– Вы не понимаете одной простейшей формулы английской жизни. Здесь не очень многое зависит от того, какого рода личность занимает сегодня квартиру на Даунинг-стрит, 10. Англия падает в пропасть не только потому, что ею правят не те люди. А люди, увы, не те. В консервативной партии, к которой я принадлежу, вообще какие-то парадоксы, а не личности: то женщина в брюках, то мужчина в юбке, иначе и не назовешь Хита и Тэтчер. Но Англия падает не поэтому, Дело в том, что сегодня на исходе двадцатого века объективно наступил последний кризис нашего мира. Скоро конец. Наши политики и дельцы не хотят в этом признаться самим себе, окончательно и спокойно принять новые времена, новые системы.
Он говорил уверенно и спокойно. Даже без оттенка печали, столь естественного для приверженца консервативной партии с 1920 года. Плоть от плоти своей страны и своей системы. Человек, переживший свое время и самого себя. Я ничего ему не ответила, ни о чем более не спросила. Да меня в эту минуту как будто и не было для него. Он говорил это не себе, не кому-то, так, в пространство, без желания и надежды быть услышанным.
Мы вышли к берегу Темзы. Здесь когда-то на деревянной скамье сидел предок мистера Вильямса, разменивал деньги, давал взаймы под проценты, отсюда началась история Сити.
– А знаете, – заключил нашу прогулку старый человек, – откуда пошло слово «банк»? Среди менял было много пришельцев из Италии. По-итальянски скамья – «банко». На скамьях шли все денежные операции, так словцо и застряло, а потом выросло в чине и вон каких высот достигло. По-русски «банк» тоже банк?
– Тоже.
Мистер Вильямс улыбнулся. Законное чувство гордости, что слово, к которому он столь исторически причастен, завоевало мир и все-таки пока еще живо, озаряло его белое лицо.








