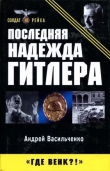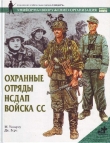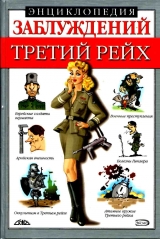
Текст книги "Энциклопедия заблуждений. Третий рейх"
Автор книги: Лариса Лихачева
Соавторы: Мария Соловей
Жанры:
Военная история
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 13 (всего у книги 24 страниц)
Естественно, «пивной путч» Гитлер тоже готовил совместно со своим ближайшим другом Гессом. Однако после провала этого мероприятия их пути на некоторое время разошлись. Адольф, как непосредственный организатор попытки переворота, сразу же угодил на скамью подсудимых, а затем – в тюрьму «Ландсберг». Что же касается Рудольфа, то он предпочел скрыться на затерянной в снегах лыжной базе в Альпах. О своих верноподданнических чувствах к будущему фюреру Рейха Гесс вспомнил лишь после того, как прочитал в прессе о том, что Гитлеру за попытку государственного переворота был вынесен исключительно мягкий приговор. В итоге наци № 2 вернулся в Мюнхен и сдался властям. В письме к матери он так объяснил свой поступок: «Все равно рано или поздно меня нашли бы и, возможно, не в самый благоприятный для меня момент. Кроме того, в «Ландсберге» у меня будет время для учебы, интересная компания, хороший стол, общая гостиная, личная спальня, милый вид из окна и так далее». В итоге Рудольф Гесс был приговорен к 18 месяцам лишения свободы, из которых отсидел только шесть. Условия содержания в тюрьме и впрямь были курортные. Кстати, наци № 2 и в будущем везло с тюрьмами.

Свое первое пребывание в местах не столь отдаленных Гесс описывал следующим образом: «Комнаты были обставлены с большим вкусом; каждый для индивидуального пользования имел ванную комнату с современным оборудованием и постоянной горячей водой. Относились к нам доброжелательно, если не сказать с почтением. Все сверкало чистотой. Шесть часов в день нам позволялось гулять в саду и недостатка в посетителях также не было». Чаще всех к Рудольфу Гессу наведывался известный геополитик Карл Хаусхоффер – они обсуждали геополитические предпосылки немецкого господства. Долгими тюремными вечерами заключенный захаживал в гости к своему соседу по камере Гитлеру и пересказывал ему идеи своего посетителя. Во время одной из таких бесед и возник замысел создания книги о роли и месте Германии в будущем мире.
Естественно, автором идеи и собственно сочинения должен был стать Адольф Гитлер. Гессу отводилась лишь роль секретаря-машиниста, что, впрочем, не помешало ему куда более существенным образом поучаствовать в создании «Майн кампф». Он не столько стенографировал, редактировал рукопись, сколько инициировал сам процесс написания книги и направлял ход мыслей. При этом иногда даже… принуждал будущего фюрера творить шедевр! Каждое утро Гесс будил Гитлера, следил за тем, чтобы тот не курил в постели, заставлял делать зарядку, а после завтрака организовывал ему рабочий процесс: выгонял посетителей и, по его же собственному выражению, «блокировал Адольфу отходы от письменного стола». Иногда непривыкший к кропотливой работе писателя Гитлер начинал возмущаться, называя Гесса плантатором, а себя – негром умственного труда. Однако даже в этих случаях неизменно побеждало упорство Рудольфа: немного побунтовав, Адольф продолжал творить.
Несмотря на творческие усилия Гитлера, некоторые главы книги, по свидетельствам уже упоминавшегося Карла Хаусхоффера, принадлежат перу Гесса. Дело в том, что он, пользуясь правом «первопечатника», не просто набирал на машинке рукопись, но и вносил в нее правки, корректировал нудные и нестройные монологи Адольфа, дополняя их собственными мыслями. В качестве доказательства этому Хаусхоффер приводит тот факт, что после знаменито перелета наци № 2 в Англию Гитлер так и не смог написать продолжение своего труда, хотя до 1941 года неоднократно заявлял о таком намерении.
Правда, даже несмотря на проделанный титанический труд, Гессу так и не удалось придать книге ясность и четкость или хотя бы «вычитать» все имевшиеся в ней ошибки (согласно исследованию одного дотошного немецкого ученого, в труде Гитлера насчитывается более 164 000 синтаксических ошибок). По мнению экспертов, «уши» Рудольфа Гесса торчат в первую очередь из глав, где обсуждаются проблемы расы и причины поражения Германии в Первой мировой войне. Отдельные фрагменты этих разделов почти полностью совпадают с содержанием писем отбывавшего срок в «Ландсберге» Гесса к своей невесте Ильзе.
Некоторые исследователи полагают, что изобретением Гесса является также ряд радикальных идей, касающихся «выведения» господствующей арийской расы, и следующее высказывание: «Народное государство должно взять на себя осуществление исполинской задачи по выращиванию нового поколения. В один прекрасный день оно станет свершением более грандиозным, чем большинство победоносных войн нашей буржуазной эры» Понимал ли Гесс, какой отклик читателей могут найти подобные тезисы, изложенные в «Майн кампф»? Историки склонны считать, что наци № 2 был слишком умен, чтобы этого не понимать. А значит, он в глазах всего человечества может претендовать на соавторство не только книги, но и воплощенных в жизнь постулатов данного нацистского литературного шедевра…
Манштейн. Всегда ли он был согласен с фюрером?
А виновник – генерал.
Интриган и аморал!
Энто он, коровья морда,
Честь цареву обмарал!
Пусть он выйдет!.. Где он там?..
Я чичас ему задам!..
Я сорву с его медальку.
Да медалькой по мордам!..
Леонид Филатов «Про Федота-стрельца, удалого молодца»
Принято считать, что обласканные фюрером фельдмаршалы во всем разделяли взгляды своего вождя. А уж сомневаться в лояльности Эриха фон Манштейна вообще в голову не приходит. Ведь он даже после войны, когда Гитлера уже не было в живых и среди немецких генералов стало хорошим тоном все свои ошибки и поражения валить на фюрера, нашел для наии № 1 слова одобрения, признав его выдающиеся способности к анализу: «Гитлер обладал большими знаниями и удивительной памятью, а также творческой фантазией в области техники и всех проблем вооружения».
Сам фельдмаршал тоже пользовался заслуженным уважением вождя. Известно, что тот однажды заметил: «Возможно, что Манштейн – это лучшие мозги, какие только произвел на свет корпус Генштаба». Исследователь Дэвид Ирвинг, выпустивший в 1977 году книгу «Hitler's War», оригинально охарактеризовал отношения между этими двумя людьми: «Уважение, испытываемое Гитлером к Манштейну, граничило со страхом». Как же при таких характеристиках, данных друг другу, можно сомневаться в полном понимании, единстве взглядов и взаимной симпатии между верховным главнокомандующим вермахта и одним из его фельдмаршалов?

Тем не менее Эрих фон Манштейн неоднократно позволял себе замечания и даже резкую критику в адрес фюрера. Он часто не соглашался со своим вождем и не считал нужным это скрывать.
Впервые неприязнь к нацистам начальник штаба 3-го военного округа Берлина, тогда еще авторитетный полковник, испытал в 1934 году. В то время он имел Железный крест 1-го класса и орден Дома Гогенцоллернов (эти награды он получил за заслуги в Первой мировой войне), а также успешную военную карьеру. Однако, не опасаясь возможных негативных последствий для служебного роста, Манштейн в 1934 году открыто выступил против первых откровенно расистских приказов, касающихся армии. Эти приказы были изданы тогдашним военным министром генералом Бломбергом с целью «очистить» армию от всех не-арийцев, в первую очередь – от евреев. Начальник штаба 3-го округа Берлина написал открытое письмо с протестом и адресовал его любимцу Гитлера генерал-майору Рейхенау. В нем он заявил, что со стороны рейхсвера является нижайшей трусостью идти на поводу у нацистской партии, проводя политику дискриминации военнослужащих-евреев, которые в годы Первой мировой войны продемонстрировали готовность жертвовать жизнью ради Германии.
Не исключено, что Эрих фон Манштейн почувствовал некую личную обиду, нанесенную приказами Бломберга, ведь его собственное происхождение нельзя было считать безупречно арийским. Он родился в семье генерала артиллерии Эдуарда фон Левински, в жилах которого, как пишут некоторые исследователи, текла немецкая кровь с примесью еврейской. Правда, Эриха, который был десятым ребенком в семье, сразу же после рождения отдали на усыновление в бездетную семью тетки. Отчимом младенца стал дивизионный командир кайзеровской армии генерал-лейтенант Манштейн. Усыновление имело юридическую силу, поэтому полное имя мальчика звучало как Фриц Эрих фон Левински, названный фон Манштейн. Со временем общеупотребительным стал сокращенный вариант – Эрих фон Манштейн.
Какими бы ни были мотивы, но письмо с протестом будущий фельдмаршал написал, и оно привело Рейхенау в бешенство. Любимец Гитлера жаждал расправы над своевольным полковником, поэтому показан письмо министру Бломбергу, которого Манштейн обвинят в трусости. Тот вызвал к себе главнокомандующего армией генерала Вернера фон Фрича и потребовал приструнить автора письма. Однако Фрич, ценивший военные заслуги Манштейна, взял его под свою защиту. Он проигнорировал приказ министра и никаких мер для наказания полковника не принял, заявив в качестве объяснения, что вопросы армейской дисциплины его не касаются. Не исключено, что главнокомандующий и сам был согласен с Манштейном. Ведь антиеврейские нюрнбергские законы всколыхнули всю военную среду. Сухопутные силы, авиация и флот отказались выдать некоторых не-арийцев из своей среды.
Однако Бломберг и Рейхенау не простили Манштейну его демарша: они нашли возможность «ненавязчиво» рассказать о протесте Эриха Гитлеру, и тот взял автора письма на заметку. Наказание за смелость критиковать решения фюрера полковник понес несколько лет спустя. В начале 1938 года Гитлер принял на себя исполнение обязанностей военного министра и провел ряд кадровых перестановок. Фрича, обвиненного в гомосексуализме, заменил на его посту генерал Браухич. После этого защитить Манштейна, все еще находившегося в «черном списке» фюрера, было уже некому. Вскоре Эриха, уже получившего звание генерал-майора и должность заместителя начальника Генерального штаба по вопросам оперативного планирования, сняли с занимаемого поста. Тем более что он опять посмел иметь свою точку зрения: вместе с Людвигом Беком написал меморандум, в котором предлагал вернуть сухопутным войскам статус главной военной силы при любой структуре командования вермахтом. Против этого были Кейтель, Геринг. Гитлер, поэтому Манштейн обрел новых врагов. Из Генерального штаба его перевели командовать 18-й пехотной дивизией, расквартированной в Лигнице. Иными словами, отправили в ссылку.
Однако опальный генерал был слишком талантлив, чтобы долго находиться не у дел. Вскоре Германии понадобились опытные офицеры, и уже в сентябре 1938 года Манштейна рекомендовали на пост начальника штаба 12-й армии под командованием Лееба, предназначенной для вторжения в Чехословакию. В апреле же 1939 года его назначили главой Ставки генерала Рундштедта, который командовал группой армий «Юг», и присвоили звание генерал-лейтенанта. Казалось, что карьера Манштейна вновь уверенно пошла в гору.
27 сентября 1939 года Гитлер собрал в рейхсканцелярии руководство вермахта и всех командующих группами армий и заявил о намерении напасть на Францию, пройдя территорию Бельгии и Голландии. Генералитет пытался переубедить фюрера, но тот был непреклонен. При этом планы операций были «сырыми»: они корректировались прямо по ходу подготовки, да и дата нападения неоднократно переносилась.
Заставить фюрера изменить свою точку зрения взялись фон Рундштедт и фон Манштейн. 31 октября 1939 года они обратились в штаб Верховного командования сухопутными войсками с планом, названным позднее «Удар серпа». В нем предлагалось сначала заманить противника на территорию Бельгии и Голландии, а затем отрезать ударом через Арденны. Это предложение вызвало возражения со стороны Гальдера и Браухича, считавших такой вариант кампании полной авантюрой, но понравилось Гитлеру.
В итоге план был принят, но в его реализации автор идеи был далеко не на первых ролях. Уязвленный фон Браухич в 1940 году вновь слегка «притормозил» карьеру уже главы Ставки генерала Рундштедта: будущий фельдмаршал был переведен на должность командира 38-го корпуса, который в то время формировался в Штеттине. Когда немцы вторглись во Францию, Манштейн находился в отпуске в Лейпциге и о начале кампании узнал из радиопередач. На фронт он попал лишь 16 мая 1940 года, а уже через месяц повел своих солдат в бой у реки Сомма. 1 июля Эрих был произведен в генералы от инфантерии (пехоты). 9 июля его 38-й корпус первым вышел к Сене и захватил плацдарм на южном берегу, а спустя 10 дней форсировал Луару. За французскую кампанию Манштейн получил Рыцарский крест.
Видимо, тогда Гитлер впервые в полной мере оценил военные таланты своего генерала. После этого последний вновь стал уверенно продвигаться по служебной лестнице. На время его разногласия с фюрером и штабом Верховной Ставки прекратились.
Эрих фон Манштейн наилучшим образом проявил себя и в войне против СССР, показав, что такое современные стиль, уровень и методы ведения боевых действий. Его 56-й танковый корпус в июне 1941 года был острием северного клина – главного удара вермахта по Советскому Союзу на северном направлении, которым Гитлер обманул Сталина, готовившего Красную Армию к сражениям на южном фланге советско-германского фронта в случае нападения фашистов. Именно Манштейн за 5 дней прошел со своим корпусом 200 км по тылам Красной Армии, обеспечив переправу вермахта по захваченному с ходу мосту через Западную Двину. Ворвавшись в Центральную Россию, он вверг Иосифа Виссарионовича в состояние многодневного панического шока и прострации. Двигающиеся за немецким генералом основные силы пленили только в «котлах» под Минском и дальше до 700 тысяч советских солдат.
Заслуги Манштейна перед Третьим рейхом были очевидны. Он, даже по свидетельству ревнивых к чужой славе гитлеровских генералов, был признан наиболее выдающимся военным фашистской Германии. Его считали гением в оперативных делах – в искусстве маневрирования силами при проведении операций.
Казалось бы, Манштейну было обеспечено стремительное продвижение по службе, но этому воспротивился Гитлер. Фельдмаршал Вильгельм Кейтель до того, как его повесили по приговору Нюрнбергского трибунала, успел написать мемуары, где самокритично признался: «Я очень хорошо отдавал себе отчет в том, что у меня для роли… начальника Генерального штаба всех вооруженных сил Рейха не хватает не только способностей, но и соответствующего образования. Им был призван стать самый лучший профессионал из сухопутных войск, и таковой в случае необходимости всегда имелся под рукой… Я сам трижды советовал Гитлеру заменить меня фон Манштейном: первый раз – осенью 1939 года, перед французской кампанией, второй – в декабре 1941 года, когда ушел Браухич, и третий – в сентябре 1942 года, когда у фюрера возник конфликт с Йодлем и со мной. Несмотря на частое признание выдающихся способностей Манштейна, Гитлер явно боялся такого шага и его кандидатуру постоянно отклонял».

А ведь похоже, что Манштейн в начале войны против СССР старался избегать конфликтов с фюрером! Он даже изменил свое отношение к евреям. Вернее, провел для себя черту, разграничивающую евреев-иностранцев и немецких солдат, которые имели несчастье родиться евреями. Последние, по его мнению, были «своими». А вот «юде» на оккупированной советской территории Манштейн жалеть не собирался. Уже 20 ноября 1941 года им был подписан приказ, в котором говорилось, что немецкий солдат на Востоке должен стать «носителем безжалостной национальной идеологии», вследствие чего каждый из них «обязан до конца осознать необходимость сурового, но справедливого возмездия недочеловекам-евреям». Он призывал военнослужащих находящейся у него в подчинении 11-й армии «проявлять полное понимание необходимости жестоких карательных акций по отношению к евреям, духовным носителям террора против немцев».
Правда, Манштейн не одобрял и не принимал участия в массовых зверствах, проводимых нацистами. Это подтвердил и Нюрнбергский трибунал, который не смог ему инкриминировать пособничество или организацию истребления евреев на оккупированных территориях. Фельдмаршал был обвинен лишь в том, что он не предотвратил жертв среди мирного населения в ходе проведенных им сражений.
Сэмюел Митчем, автор книги «Фельдмаршалы Гитлера и их битвы», предполагает, что причиной изменения отношения Эриха к евреям «стал его компромисс с властью – во имя собственного продвижения. Манштейна обуревало честолюбие, и он отнюдь не скрывал того, что был бы не прочь занять пост главнокомандующего Восточным фронтом, и, кстати, в этом стремлении его поддерживали многие генералы».
При этом Эрих продолжал принимать самостоятельные решения. У него было собственное представление о поведении немецких войск на захваченных землях. Так, для воспитания у своих солдат и офицеров чувства высокого самосознания он предписывал им на оккупированных территориях СССР раздавать сельхозугодья в частные руки. И это делалось, причем вопреки воле Геринга, автора «Зеленой папки» – плана сохранения колхозов. Более того, во вверенных ему частях Манштейн приостановил действие личного приказа Гитлера – «Приказа о комиссарах» – и не успокоился, пока не добился его отмены, считая расстрел на месте плененных солдат РККА нарушением норм армейской чести и общечеловеческой морали.
Несмотря на разногласия, фюрер 1 июля 1942 года присвоил Манштейну звание фельдмаршала. Это стало наградой за успешное проведение боевых действий в Крыму. В мае 1942 года Эрих спланировал и успешно осуществил наступательную операцию по ликвидации Керченского плацдарма, уничтожив при этом 2 советские армии. Обезопасив таким образом тылы, он отдал приказ о штурме Севастополя. Когда победный исход этого наступления уже не вызывал у Гитлера сомнения, фюрер произвел Манштейна в фельдмаршалы. Севастополь пал 3 июня 1942 года, так что отчет о его взятии Эрих принимал уже в новом звании.
А вот осень принесла Манштейну первые неудачи: он не смог взять Ленинград, не сумел пробиться на помощь окруженной армии Паулюса. Тогда же Эрих и фюрер вновь разошлись в подходах к решению тактических задач.
Штаб фельдмаршала, получившего в ноябре 1942 года новое назначение в группу армий «Дон», должен был разработать операцию по спасению 6-й армии, попавшей в окружение под Сталинградом, и восстановить южный сектор Восточного фронта. Спустя несколько дней, 27 ноября 1942 года, Эрих пришел к выводу, что оказавшимся в «котле» военным надо разрешить прорыв. Однако Гитлер отказался от такого варианта. В результате Манштейну предстояло решить сразу три задачи. Во-первых, восстановить практически полностью разбитую линию фронта. Во-вторых, задержать советские войска и не пустить их к Ростову, не позволяя, таким образом, отрезать находившуюся на Кавказе группу армий «А». Наконец, в-третьих, спасти от уничтожения 6-ю армию.
Эрих провел операцию весьма достойно. Бросив в бой свои последние резервы, он приостановил части Красной Армии у Ростова и оказался менее чем в 50 км от Сталинграда. Но на большее ему рассчитывать не приходилось: Паулюс отказался осуществить предложенный им прорыв без приказа фюрера. А Гитлер такого приказа так и не дал. Поэтому спасти 6-ю армию не удалось, хотя Манштейн еще несколько дней удерживал путь к отступлению открытым, пока в этот «коридор» не ушла 4-я танковая армия, входившая в группу армий «Дон».
Сопротивление фашистов у Сталинграда было сломлено 2 февраля 1943 года. Эрих, уверенный в том, что оказавшиеся в «котле» силы можно было спасти, вылетел в Германию с намерением потребовать от фюрера сложить с себя полномочия Верховного главнокомандующего. Однако он не стал предъявлять этих требований, узнав, что Гитлер признан свою ответственность за гибель 6-й армии. Но их встреча все равно состоялась: после четырехчасовой беседы глава Третьего рейха уступил просьбе фельдмаршала частично отвести войска, чтобы освободить силы для контрнаступления.
13 февраля 1943 года Манштейн стал командующим группы армий «Юг». Ему удалось верно определить, что советские войска, стремительно наступая на Харьков, в конечном счете останутся фактически без резервов. Поэтому он разработал дерзкий план, в успехе которого не сомневался. Гитлер, однако, колебался. 16 февраля он даже вылетел в Запорожье, где находилась Ставка Манштейна, с целью отменить операцию. Но напуганный прорывом советских танков фюрер вскоре ретировался, и командующий группы армий «Юг» поступил по собственному усмотрению. Его действия оказались на редкость удачными: Эриху удалось приостановить зимнее советское наступление, повторно захватить Харьков и уничтожить советскую 3-ю танковую армию и подчиненные ей формирования. 14 марта 1943 года за разработку этой операции Манштейн лично от Гитлера получил Дубовые листья к своему Рыцарскому кресту.
Однако когда фельдмаршал предложил свой собственный план летней наступательной компании вермахта на 1943 год, тот традиционно был отвергнут. В ходе операции «Цитадель» группа армий «Юг» имела хорошие шансы на успех, но в конечном счете была остановлена, когда 4-я танковая армия больше не смогла продвигаться на север.
После этого войска Манштейна долгое время отступали под натиском Красной Армии. В сентябре 1943 года они держали оборону западного берега Днепра, пытались вновь захватить Киев, но были отброшены. 4 января 1944 года их командующий прилетел в Растенбург и попросил разрешения отвести весь южный фланг, но вновь получил отказ фюрера. Тогда фельдмаршал обратился с просьбой ко всем, кроме Гитлера и его старшего адъютанта генерал-полковника Курта Цейтлера, выйти из комнаты. После этого последовала сокрушительная критика действий главы Рейха на Восточном фронте.
С. Митчем пишет: «Гитлер высокомерно попытался поставить Манштейна на место, но тот продолжал говорить так, словно распекал бестолкового младшего лейтенанта. Закончил Манштейн свою речь тем, что в который раз потребовал назначения главкома Восточного фронта, разумеется, прежде всего имея в виду себя. В ответ на это Гитлер заявил, что даже он, фюрер, и то иногда не может добиться от фельдмаршалов исполнения всех своих приказов. Так неужели Манштейну это удастся лучше? «Да, – ответил тот, – моим приказам всегда подчиняются». Этого Гитлер никак не ожидал и быстро свернул встречу. Он отклонил обе просьбы Манштейна – как о назначении главкома, так и о разрешении отвести правый фланг».
Как и следовало ожидать, некоторые войска фельдмаршала – 11-й и 42-й корпуса 8-й армии – попали в окружение под Черкассами. Гитлер отдал приказ генералу Штеммерманну, командующему оказавшихся в «котле» частей, держаться до конца и ни в коем случае не предпринимать прорыв. Однако Манштейн, уверенный в том, что Гитлер не вполне адекватно оценивает ситуацию, решил действовать по собственному усмотрению. В середине февраля 1944 года он вывел окруженные силы 8-й армии (56 тысяч человек в составе 6 дивизий) группы армий «Юг» из черкасского «котла», потеряв при этом 24 тысячи человек, в том числе и генерала Штеммерманна. Но эта цифра была в два с половиной раза меньше, чем могла бы быть в случае реализации планов Гитлера. В конце концов фюрер согласился с таким вынужденным маневром и отдал приказ о выводе из «мешка» 11-го и 42-го корпусов, которые к тому времени Манштейн фактически и так уже освободил.

19 марта 1944 года ситуация повторилась: фельдмаршал вновь потребовал у фюрера разрешения на проведение самостоятельных операций и опять получил отказ. В результате 23 марта в районе Буга была окружена 1-я танковая армия генерала Хубе, которому Гитлер запретил отступать. 25 марта в Ставке в Бергхофе Манштейн пригрозил фюреру отставкой и буквально вырвал у него разрешение на прорыв Хубе. 6 апреля тот вывел армию из «котла», подтвердив тем самым правоту командующего группы армий «Юг».
Самоуправство фельдмаршала чем дальше, тем больше раздражало фюрера, которому казалось, что это подрывает его авторитет. Дэвид Ирвинг, один из летописцев Второй мировой войны, отмечал, что Гитлер, признавая военные способности Манштейна, при этом очень завидовал ему: «Каждый из них имел Железный крест за Первую мировую. Гитлер, ефрейтор на той войне, гордо носил солдатский, 2-го класса, Манштейн – офицерский, 1-го класса. Для личных встреч оба всегда надевали эти ордена – на языке этих наград они начинали диалог, всегда переходящий в спор. По воспоминаниям свидетелей таких споров, Гитлер, чувствуя профессиональное превосходство Манштейна, впадал в бешенство, катался по полу и грыз ковер».
30 марта 1944 года, после нескольких горячих дискуссий с Гитлером в Ставке в Оберзальце по поводу ситуации на Восточном фронте и очередного случая неповиновения фельдмаршала, последний был отстранен от командования. В тот же день, подсластив пилюлю отставки, ему вручили Мечи к Дубовым листьям его Рыцарского креста. На посту командующего группой армий «Юг» его сменил генерал-фельдмаршал Модель.
Одни исследователи полагают, что Гитлер не простил Манштейну его упорства в требовании разрешить отступление армии Ганса Хубе, провалившейся в Украине в гибельный «мешок» окружения. Сам же фельдмаршал спасение 1-й танковой армии ценой собственной отставки до конца дней считал достойным завершением своей военной карьеры.
Другие исследователи думают, что фюрер не смог забыть унижения, испытанного в январе 1944 года по вине Манштейна, который заявил, что его приказы, в отличие от приказов Гитлера, исполняют всегда.
Но большинство сходится во мнении, что отставку фельдмаршала вызвал инцидент, произошедший 27 января 1944 года. В тот день, согласно решению бонз нацизма провести политпрофилактику в высших армейских кругах, обер-идеологи Рейха Геббельс и Розенберг промывали мозги собранному в Познани со всех фронтов генералитету. Затем генералов перевезли спецпоездом на «фатерлянд», к Гитлеру. И фюрер провозгласил: если, мол, случится так, что в один прекрасный день он, как Верховный главнокомандующий, останется в одиночестве, первостепенный долг офицерского корпуса собраться вокруг него с обнаженными кортиками… Неожиданно его прервал Манштейн, вскочивший с места с восклицанием: «Так оно и будет, мой фюрер!»
Генерал кавалерии граф Эрвин фон Роткирх-унд-Трах вспоминал впоследствии: «Это оказалось просто ужасно. Наступила такая тишина, что было слышно, как пролетает муха…» Двусмысленность слов, которые выкрикнул фельдмаршал, разными умами понималась по-разному. Адъютанты фюрера и его заместитель Мартин Борман трактовали их в беседах с Гитлером однозначно: Манштейн имел в виду близкую реализацию нарисованной вождем гипотетической картины последнего акта исторической драмы…
Таким образом, все вернулось на круги своя: Эрих фон Манштейн, начинавший сотрудничество с нацистами с того, что критиковал некоторые аспекты их политики, закончил его откровенным неповиновением решениям Гитлера.
«Марш авиаторов». В чьем пропеллере и чьих границ дышит спокойствие?
Вир зинд геборн дас мерхен сделать былью.
Преодолеть ди шпере унд гевайт,
Вернунфт нам дал стальные флюгельхенде,
А вместо херца – аузенбордмотор!
Тимур Шаов
Выпускник консерватории жалуется товарищу, что никак не может сочинить музыку, необходимую ему для защиты дипломной работы. Тот предлагает ему взять дипломное сочинение своего научного руководителя и сыграть его задом наперед.
– Пробовал, – отвечает выпускник композиторского факультета. – Ноктюрн Шопена получается…Из жизни сочинителей музыки
Существует мнение, что в 30-е годы Герман Геринг, налаживая знакомство с ВВС дружественного тогда Советского Союза, услышал песню, хорошо известную многим из нас под названием «Марш авиаторов». Это музыкальное произведение настолько понравилось будущему шефу военной авиации, что он немедленно распорядился перевести его на немецкий язык и сделать маршем авиаторов вермахта. Вместе с тем, существует и другое, зеркально противоположное мнение, согласно которому советские военачальники, услышавшие, как лихо немецкие летчики распевают залихватскую песенку о стальных птицах, хозяйничающих в небе Третьего рейха, решили с помощью ее русскоязычного варианта поднимать дух и советских авиаторов. Логично было бы предположить, что одна из этих версий является заблуждением, а другая – верно указывает на авторство знаменитого марша. На самом же деле методом простого исключения разобраться с этим вопросом нельзя.
Впервые о том, что советский композитор Ю. Хайт выступил в роли плагиатора, миру поведал ведущий одной из программ Русской службы Би-би-си Сева Новгородцев. Он прокрутил фрагмент записи, в котором под известную всем советским людям мелодию хор суровых тевтонов пел следующее: «Ja, aufwarts der Sonne entgegen, mit uns zieht die neue Zeit». При этом никаких аргументов, подтверждающих то, что немцы исполнили этот марш первыми, С. Новгородцев не привел. Но поскольку меломанам были известны оба варианта произведения – русский и немецкий, – начало дискуссии было положено. Музыковеды разделились на два лагеря. Первые утверждали, что эта музыка исключительно немецкая, чуть ли не в XIX веке написанная. Вторые уверяли, что в каждой ноте «Марша авиаторов» слышится большевистская ненависть к проклятым «буржуинам».
Одним из самых скрупулезных исследователей происхождения песни стал американский историк Ринат Булгаков. Он попытался найти главный артефакт, подтверждающий авторство, – граммофонную пластинку с указанием даты записи и фамилиями поэта и композитора. Поиски не увенчались успехом. Тогда пытливый американец сделал запрос в бундесархив города Кобленце. «У нас ничего нет, попробуйте обратиться в Военно-музыкальный институт в Потсдаме», – значилось в полученном Р. Булгаковым ответе. Учитывая немецкую педантичность, отсутствие информации о весьма популярной в 30-е годы песне выглядело более чем странным. В 2002 году американский исследователь сделал еще один запрос. На этот раз – в немецкий Музей и институт кинематографии, находящийся во Франкфурте. Там посоветовали обратиться в расположенный в этом же городе Государственный радиоархив. На удивление, в Радиоархиве нашлось немало данных об истории создания знаменитой песни. Там подтвердили, что на известную музыку действительно положены слова немецкого марша. Его официальное название переводится как «Песня юных берлинских рабочих», но поскольку под «берлинскими рабочими» подразумевались штурмовики СА, музыкальное произведение чаше называли «Боевой песней отрядов СА». Кроме того, в Радиоархиве сообщили, что в Германии этот марш впервые исполнили в 1926 году. Что же касается информации о его авторах, то на «яблоке» граммофонного диска никаких фамилий указано не было. Ринат Булгаков также отыскан текст статьи германского искусствоведа Ганса Байера, который еще в 1939 году в журнале «Die Musik» написал, что ему не удалось найти немецких авторов «Марша авиаторов» и что «нет сомнений в том, что за ее основу (немецкую версию песни. – Прим. авт.) был взят марш ВВС Красной Армии с припевом, который заканчивается следующими словами: „Все выше, и выше, и выше стремим мы полет наших птиц, И в каждом пропеллере дышит спокойствие наших границ“».