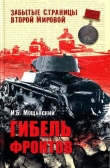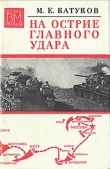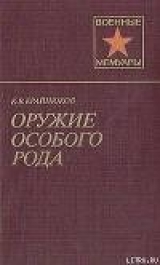
Текст книги "Оружие особого рода"
Автор книги: Константин Крайнюков
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 27 (всего у книги 45 страниц)
Подлинными носителями советской социалистической культуры являлись красноармейские ансамбли песни и пляски. Большое число концертов для трудящихся Польши дал наш фронтовой ансамбль, возглавляемый художественным руководителем Г. Н. Добродеевым. В этом творческом коллективе хормейстерами и дирижерами были Д. В. Данилевич и С. П. Резников, а руководителем оркестра – В. Лисица.
Фронтовой ансамбль располагал талантливыми солистами Д. Стадником, В. Кириаковым, М. Халиным, К. Парийским, С. Каминским. Хор исполнял русские, украинские и польские песни. Среди современных советских песен особой популярностью у слушателей пользовалась "Священная война", написанная композитором А. Александровым на стихи Вас. Лебедева-Кумача. Она воспринималась как своего рода гимн Великой Отечественной войны.
Огромный восторг у местного населения вызывала танцевальная группа фронтового ансамбля. Да это и понятно. Ведь язык танца доступен каждому и не требует перевода. Своим исполнительским мастерством выделялись солисты балета И. Ревельс, Т. Грузинова, В. Локтев, Г. Даштанян, А. Славина, Д. Калинкина, М. Печенюк, Г. Мамонько, Г. Ноженко, К. Соболева и многие другие.
В широком масштабе осуществлялось кинообслуживание польского населения. Перед концертами ансамблей и киносеансами с короткими, но содержательными информациями выступали пропагандисты, в том числе члены военных советов, начальники политотделов армий и другие руководящие политработники фронта. Они говорили о политике Коммунистической партии Советского Союза и крепнущей боевой дружбе между нашими народами, между Красной Армией и Войском Польским. Значительное место занимала информация о положении на фронте.
Мне пришлась по душе яркая, самобытная деятельность талантливого политработника генерал-майора Ивана Максимовича Гришаева. Помнится, вечером 25 января 1945 года я прибыл в 60-ю армию. Она находилась на левом крыле фронта и продвигалась вдоль Вислы, охватывая с юга Силезский промышленный район.
В политотделе царило большое оживление. Работники поарма во главе с генералом И. М. Гришаевым слушали передаваемый по радио приказ Верховного Главнокомандующего. В том приказе отмечались войска 59-й и 60-й армий, занявшие с боями город Хшанув, и 21-й армии, овладевшие городом Глейвиц (Гливице).
Иван Максимович сказал подчиненным, что о салюте Москвы надо не только оповестить части армии, но и сообщить нашим друзьям-полякам. Мы вместе прошли в здание местной гимназии, где армейский ансамбль песни и пляски давал концерт для местного населения. В стремительной солдатской пляске, сопровождаемой молодецким посвистом, кружились артисты ансамбля. Но вот к рампе сцены быстро вышел генерал И. М. Гришаев и призывно поднял руку внимание!
Мгновенно оборвался стремительный танец, выжидательно притих зал. После небольшой паузы Иван Максимович объявил:
– Рад сообщить вам, дорогие друзья, хорошую новость. Только что столица Советского государства – Москва торжественно салютовала доблестным войскам Первого Украинского фронта, овладевшим двадцать четвертого января тысяча девятьсот сорок пятого года крупным центром Домбровского угольного бассейна Хшанувом и крупным центром Силезского промышленного района городом Глейвиц (Гливице).
Зал взорвался аплодисментами. На сцену высыпали все артисты ансамбля и тоже зааплодировали победе советского оружия.
Иван Максимович снова поднял руку, пытаясь продолжить речь, да так и не смог дождаться наступления полной тишины. Пересиливая шум аплодисментов, он громко выкрикнул:
– Наступление, товарищи, продолжается! И овация вспыхнула с новой силой. Ликование польских друзей понять было не трудно. С Глейвицем (ныне Гливице) у поляков были связаны тяжелые воспоминания о начале второй мировой войны. Именно в Глейвице подручные Гейдриха и Канариса учинили чудовищную провокацию, инсценировав нападение переодетых в польскую военную форму немецких уголовников на германскую радиостанцию. Гитлер поспешил использовать это как повод для развязывания войны. Буквально через несколько часов после провокационного инцидента в Глейвице, на рассвете 1 сентября 1939 года, фашистские орды вероломно вторглись в пределы Польши. Так началась вторая мировая война. Гитлеровцы оккупировали Польшу, затем Данию, Норвегию, Бельгию и Голландию, в короткий срок разгромили Францию. Фашистская чума заполонила почти всю Европу, проникла даже в песчаные пустыни Африки, угрожая и другим континентам земного шара.
Но подлые замыслы нацистских претендентов на мировое господство с позором провалились. Боевые действия придвинулись к тем рубежам, откуда началась вторая мировая война, откуда хлынули фашистские орды.
Генерал-майор И. М. Гришаев напомнил польским друзьям, что это произошло потому, что великий Советский Союз не только выстоял в тяжелом и кровопролитном единоборстве с сильным и злобным врагом, но и одолел его, изгнал из пределов СССР, сломил хребет фашистскому чудовищу. Теперь на своих победных знаменах он несет свободу и счастье народам Европы.
Яркая, эмоциональная речь начальника политотдела произвела на всех сильное впечатление и была выслушана с неослабным вниманием.
Генерал-майор И. М. Гришаев умел внести живинку в любое дело и поистине творчески, самозабвенно и с любовью занимался политработой. Иван Максимович отличался большой эрудицией, ярко, сжато и четко излагал свои мысли. Он великолепно проявил себя как в устной, так и в печатной пропаганде. Среди политработников фронта мало кто мог сравниться с ним в умении написать вдохновенное, публицистически страстное обращение, отредактировать памятку солдату или листовку, адресованную войскам противника. Его донесения отличались глубиной содержания, точным и продуманным анализом фактов.
Я не раз ставил Ивана Максимовича в пример политработникам как талантливого пропагандиста и агитатора, человека творческого, обладающего удивительным чувством нового. Мне очень жаль было расставаться с ним, когда после Висло-Одерской операции 60-я армия была передана в состав 4-го Украинского фронта.
Но в оставшиеся дни мы с генералом Гришаевым совершили весьма плодотворную поездку по войскам и освобожденным районам. Иван Максимович доложил, что направленная в Краков для работы среди местного населения бригада политотдела 60-й армии совместно с польскими товарищами отыскала и уточнила некоторые памятные ленинские места.
Подобными историческими поисками активно занимались и другие политорганы. В героической жизни и неутомимой творческой деятельности гения революции В. И. Ленина краковский и поронинский периоды занимали значительное место. 5 мая 1912 года, как известно, вышел первый номер основанной Владимиром Ильичем газеты «Правда». Чтобы быть поближе к России и непосредственно руководить партией и ее центральным печатным органом, в июне 1912 года В. И. Ленин вместе с Н. К. Крупской переехал из Парижа в Краков.
И сразу же Владимир Ильич разворачивает кипучую работу. Он почти ежедневно пишет в «Правду» статьи, дает указания редакции, неутомимо занимается идейным руководством газетой, а также ежемесячным большевистским журналом «Просвещение». В. И. Ленин опубликовал в этом журнале выдающиеся произведения: "Три источника и три составных части марксизма", "Критические заметки по национальному вопросу", "О праве наций на самоопределение", "О нарушении единства, прикрываемом криками о единстве" и ряд других.
Отсюда, из Кракова, Владимир Ильич руководил деятельностью думской фракции большевиков. За советами к Ильичу неоднократно приезжали большевистские депутаты.
На квартире В. И. Ленина проходили совещания и заседания Центрального Комитета партии, хранился архив Заграничного бюро ЦК, Кроме Кракова и Поронина Ильич жил также в деревушке Белый Дунаец, у подножия Татр, бывал в Закопане и его окрестностях.
Владимир Ильич очень интересовался деятельностью польских социал-демократов, революционной борьбой рабочего класса, бывал на митингах, выступал перед трудящимися Польши. В Кракове он сделал два доклада: "Революционное движение в России и социал-демократия" (апрель 1913 г.), "Российская социал-демократия и национальный вопрос"(март 1914 г.).
На Краковском совещании ЦК РСДРП, проходившем с 26 декабря 1912 по 1 января 1913 года, Владимир Ильич сделал два доклада: "О революционном подъеме, стачках и задачах партии", "Об отношении к ликвидаторству и об единстве".
Осенью 1913 года состоялось знаменитое Поронинское совещание ЦК с партийными работниками. На нем В. И. Ленин выступил с отчетным докладом о работе Центрального Комитета, с большим докладом по национальному вопросу и с заключительной речью. Совещание проходило в обстановке строгой конспирации. Большинство его участников остановилось под видом туристов в пансионе гураля (горца-крестьянина) Гута Мостового, где ныне польские друзья создали Музей В. И. Ленина.
26 июля (8 августа) 1914 года В. И. Ленин, как известно, был арестован по ложному доносу и заключен в тюрьму в Новом Тарге. Ввиду явного отсутствия улик и под давлением польской и австрийской общественности военные власти вынуждены были освободить Владимира Ильича. Но весь его архив, его рукописи и книги бесследно исчезли в жандармерии.
В. И. Ленин очень огорчался этой потерей. В письме к Б. Д. Вигилеву, находившемуся в Варшаве, он сообщал: "Конечно, надежды раздобыть мои книги… не много.
Если можно все же сделать попытку узнать, то я просил бы навести справки. У меня осталась там одна рукопись (о германской сельскохозяйственной переписи 1907 года), которую бы я напечатал. Либо Uliza Lubomirskiego, 47 и 49 (я жил в обоих домах). На чердаке. Оставил, уезжая в августе 1914. Это в Кракове.
Либо в Поронине, в том доме, где я жил и где Вы, помнится, раз у меня были.
Вещи не важны, а книги и рукописи хотелось бы"{67}.
После кончины В. И. Ленина Центральный Комитет партии и Советское правительство предприняли новые меры по розыску драгоценного архива. В Польшу была послана специальная дипломатическая миссия во главе с Я. С. Ганецким, который в 1912–1914 годах проживал в Кракове и не раз бывал на квартире у Владимира Ильича. Кое-что было разыскано Ганецким, в том числе подлинные материалы Пражской партийной конференции 1912 года и написанные В. И. Лениным проекты резолюций. Но весь архив вызволить не удалось.
Корреспондент «Правды» по 1-му Украинскому фронту Я. Макаренко впоследствии писал о больших злоключениях ленинского архива: "…Выяснилось, что несколько книг с чердаков домов по улице Любомирского, на титульных листах которых имелись собственноручные пометки В. И. Ленина, попали в руки краковского букиниста Тафета. Но затем они исчезли. Две книги из библиотеки Владимира Ильича нашел доктор Седлячек, работавший в свое время в военной комендатуре Кракова. Двенадцать ленинских книг случайно обнаружил осенью 1918 года у торговки яблоками известный писатель Адам Гжимала-Седлецкий. Он выменял их на оберточную бумагу, долго берег у себя, а в 1932 году передал в дар городской библиотеке в небольшом городке Быдгоще"{68}.
Инструктор политуправления 1-го Украинского фронта майор Щукин, действовавший по поручению Института Маркса – Энгельса – Ленина (ныне ИМЛ при ЦК КПСС), в 1945 году разыскал бывшего работника военной комендатуры Кракова. Доктор Седлячек, хранивший почти три десятилетия две книги с пометками В. И. Ленина, передал их Институту Маркса – Энгельса – Ленина. Ценную находку майор Щукин обнаружил и в Быдгоще. С помощью сотрудников городской библиотеки он нашел еще 12 ленинских книг. В марте 1945 года народный Совет города Быдгощ передал драгоценные книги Советскому правительству в знак благодарности за освобождение польского города от фашистских оккупантов.
В послевоенные годы розыск Краковско-Поронинского архива В. И. Ленина был поставлен на научную основу. ЦК Польской объединенной рабочей партии создал для этого специальную комиссию.
В результате напряженных и планомерных поисков удалось обнаружить в доме Чарторыйских, где сейчас находится Краковский национальный музей, часть укрытого там архива Центрального Комитета РСДРП, в том числе драгоценные ленинские документы. Найдены были и рукописи статей, написанных Владимиром Ильичем в 1912–1913 годах для газеты «Правда», но по ряду причин не опубликованных, а также его письма, записки и другие материалы. Ленинские документы были обнаружены и в других местах.
ЦК Польской объединенной рабочей партии передал Центральному Комитету КПСС 1070 документов, из них 290 ленинских. Находка Краковско-Поронинского архива является значительным событием в собирании драгоценного ленинского наследия. Поиски остальных документов продолжаются и поныне.
В ходе Висло-Одерской операции советские воины вступали в новые освобождаемые районы Польши с большой уверенностью в хорошем и доброжелательном отношении к Красной Армии со стороны местного населения. Полгода пребывания войск фронта на территории дружественной Польши не прошли бесследно и дали положительные результаты. Мы приобрели некоторый опыт массово-политической работы среди местного населения, а симпатии польских трудящихся к советским воинам-освободителям еще более умножились. Упрочились наши связи с демократическими силами страны, возглавляемыми Польской рабочей партией, с воеводскими, городскими, уездными, волостными органами народной власти, которые были созданы на освобожденной территории ПКНО, преобразованным затем во Временное правительство Польской республики.
Наши связи укреплялись не только по государственной и партийной линиям, но и по военной. Улучшились контакты с партизанскими формированиями Армии Людо-вой, действовавшей под руководством ППР. Неоднократно в тактическом взаимодействии с частями 1-го Украинского фронта польские партизаны проявляли боевую активность в районах Кельце, Кракова, Островца, Сташува, Стопницы, а также в Сухедневских лесах. Постоянную связь с ними поддерживал Украинский штаб партизанского движения и его представители на нашем фронте.
Польские патриоты из Армии Людовой во взаимодействии с советскими партизанами наносили удары по коммуникациям и линиям связи противника, взрывали немецкие склады и арсеналы, громили местные гарнизоны гитлеровцев. На некоторых участках польские партизаны помогали нашим войскам при форсировании Вислы и других водных преград, передавали ценные разведывательные данные, оказывали боевую поддержку.
Весь трудовой народ Польши – рабочие промышленных предприятий и транспорта, крестьяне и батраки – радостно встречал приход Красной Армии, громившей фашистских палачей и оккупантов.
В городе Островец все население во главе с руководителями организации ППР вышло встречать советских воинов. На многих зданиях развевались советские и польские национальные флаги. Народ приветствовал воинов-освободителей возгласами: "Да здравствует Красная Армия!", "Да здравствует Советский Союз!", "Слава русскому воинству!", "Слава русскому народу!". Митинг вылился в яркую демонстрацию дружбы и братства двух народов{69}.
Трудящиеся Польши оказывали нашим войскам всевозможную помощь. Они ремонтировали мосты и дороги, предупреждали о минированных участках, стремились внести свой посильный вклад в победу.
В связи со стремительным продвижением наших танковых соединений на запад летчикам все труднее было оказывать авиационную поддержку со старых аэродромов. А новых фактически не было. Гитлеровцы всюду взорвали взлетно-посадочные полосы, разрушили постройки. Распутица еще более усложнила положение. Жители города Лешно, собравшиеся на общегородской митинг, приняли решение помочь Красной Армии. На разрушенную фашистами авиационную базу прибыло 4 тысячи поляков с тысячью подвод. Работа закипела. За двое суток поляки помогли нам выложить из бревен и шлака хорошую взлетно-посадочную полосу, привести в порядок аэродром и подъездные пути к нему. Вскоре экипажи штурмового соединения начали боевую работу. Зимой 1945 года местное население прифронтовых районов Польши отработало на строительстве наших аэродромов около 100 тысяч человеко-дней.
Так граждане возрождающейся демократической Польши помогали Советской Армии-освободительнице громить фашистских оккупантов, так ковалась нерушимая дружба народов.
Если в июле 1944 года мы совершенно не имели никакого опыта политической работы среди польского населения и испытывали острую нехватку необходимых для этого кадров, то к январскому наступлению 1945 года политорганы накопили известный опыт и отчетливо представляли себе, что нужно делать в области идеологической и организационной.
При военных советах фронта и армий были созданы оперативные группы по работе среди местного населения. Они комплектовались из политически подготовленных офицеров, обладающих хорошими организаторскими способностями, высокой общеобразовательной культурой. Эти политработники, знающие польский язык, помогали на местах в организации митингов, выступали перед населением с лекциями и докладами, проводили коллективные и индивидуальные беседы.
Наше политическое влияние на местное население осуществлялось нередко задолго до вступления советских войск в город или село. Во время подготовки к Висло-Одерской операции и в ходе ее политуправление фронта издало и распространило среди населения освобожденных районов Польши свыше 750 тысяч листовок и плакатов на польском языке. Часть из них была разбросана в глубоком тылу гитлеровцев.
Во время январского наступления 1945 года я беседовал с жителями различных районов Польши и с радостью убеждался, что наши листовки на польском языке своевременно доходили до них. Поляки рассказывали, что они с риском для жизни передавали листовки из села в село, из хаты в хату, от человека к человеку. Слово немеркнущей правды проникало и на оккупированную фашистами польскую землю, разоблачая клеветнические измышления гитлеровцев и аковцев.
Большим тиражом политуправление 1-го Украинского фронта распространило как в освобожденных нами районах, так и за линией фронта листовки с заявлением Народного Комиссариата иностранных дел СССР от 26 июля 1944 года об отношении Советского Союза к Польше, с Манифестом ПКНО и Декларацией Временного правительства Польской республики. Наши агитаторы рассказывали населению о том, как на освобожденной Красной Армией территории восстанавливаются разрушенные гитлеровцами заводы и электростанции, железные дороги и линии связи, как под руководством Польской рабочей партии возрождается народное хозяйство, осуществляются социальные преобразования.
Новым в деятельности военных советов за рубежом явилась помощь жителям, освобожденных районов в восстановлении экономической и культурной жизни. Только в течение нескольких месяцев, когда войска 1-го Украинского фронта стояли на Висле, наши инженерные части построили в освобожденных районах Польши 1234 моста длиной 22500 погонных метров. Мы отремонтировали 11 тысяч километров шоссейных и грунтовых дорог, провели большие восстановительные работы на железнодорожных путях{70}.
Военный совет 1-го Украинского фронта в первые же дни освобождения древней столицы Польши передал для населения Кракова 1604 тонны муки, 4 тысячи тонн зерна, 800 тонн сахара и много другого продовольствия{71}.
В ходе январского наступления 1945 года войска фронта освободили значительную часть исконно польских земель вдоль Одера (Одры). Эти пястовские земли были некогда отторгнуты тевтонскими завоевателями. Теперь Красная Армия помогла восстановить историческую справедливость. Коммунистическая партия и Советское правительство хотели видеть Польшу сильной и свободной, демократической и дружественной нам страной. Продвигаясь на запад, наши войска спасали от фашистской каторги десятки, сотни тысяч людей различных национальностей, освобождали из тюрем и гестаповских застенков множество узников, обреченных на смерть. Гитлеровские палачи покрыли Польшу густой сетью концентрационных лагерей. Одним из самых страшных среди них был Освенцим, прозванный "городом обреченных", "гигантским крематорием", "городом мертвецов".
27 января 1945 года части 100-й стрелковой дивизии, которой командовал генерал-майор Ф. М. Красавин, 322-й стрелковой дивизии, возглавляемой генерал-майором П. И. Зубовым, 187-й легкоартиллерийской бригады полковника Р. П. Форбатока и другие части 60-й армии вступили с боями в район Освенцима. Вместе с начальником политотдела 60-й армии генерал-майором И. М. Гришаевым мы прибыли туда с первыми подразделениями. Над землей стелился черный дым и разъедал глаза. Все вокруг было усеяно пеплом. Гитлеровцы перед отступлением пытались уничтожить следы своих злодеяний. Поскольку лагерные крематории не успевали превращать в пепел умерщвленных узников, эсэсовцы облили штабеля человеческих тел бензином, обложили их дровами и подожгли.
На воротах, ведущих в основной лагерь Освенцима, или, как его называли фашисты, Аушвиц, красовалась издевательская надпись: "Арбайт мах фрай" (работа делает свободным). Но из Освенцима люди не выходили, их здесь убивали.
На пути наступления войск фронта мы видели много фашистских зверств, совершенных гитлеровцами на временно оккупированной ими территории. Мы помнили Бабий Яр в Киеве, доверху набитый трупами мирных советских людей, расстрелянных гитлеровцами, мы видели гросс-лазарет в С лаву те, в котором не лечили, а уничтожали, концлагеря во Львове, Раве-Русской и многих других населенных пунктах. Но все они, даже Майданек, не могли сравниться с Освенцимом. Здесь непрерывно дымили 16 крупных крематориев, превращая в пепел тысячи людей.
Советские воины, распахнувшие ворота концлагеря Освенцим (Аушвиц) и спасшие от смерти десятки тысяч узников, были потрясены злодейскими преступлениями фашистов и воочию увидели, какой поистине дьявольской работой занимались гитлеровцы. Чтобы оповестить мир о чудовищных злодеяниях преступной нацистской клики, мы предложили начальнику политуправления фронта генералу Ф. В. Яшечкину направить в Освенцим всех имеющихся у нас работников массовой информации: кинооператоров, фотокорреспондентов, представителей Совинформбюро, ТАСС, радио, корреспондентов центральных и фронтовых газет.
По указанию Военного совета 1-го Украинского фронта освобожденным узникам фашизма была оказана экстренная медицинская помощь, выделено продовольствие, организованы эвакуационные пункты.
В концлагере Освенцим советские воины увидели газовые камеры, в которых эсэсовцы за один «сеанс» умерщвляли 2500–3000 человек, затхлые бараки, в которых томились обреченные на смерть узники из всех стран Европы. Они увидели трупы замученных фашистами жертв, огромнейшие склады одежды, обуви, костяной муки и женских волос, скрупулезно собранных палачами со своих жертв.
Сердца воинов клокотали яростным гневом, и солдатский митинг в Освенциме проходил чрезвычайно бурно. Ненависть к гитлеровским извергам достигла наивысшего накала, когда из бараков двинулись к нашей импровизированной трибуне похожие на скелеты узники в полосатых тюремных одеждах. Эти люди были настолько измождены и истощены, что с трудом передвигались, поддерживая один другого, а некоторые приближались ползком. Сквозь рыдания они взывали на разных языках:
– Отомстите за наши муки и за сотни тысяч умерщвленных людей. Покарайте фашистских убийц! Поднявшись на грузовую машину, я сказал воинам:
– Вы своими глазами видели страшные зверства фашистов. К этому трудно что-либо добавить. Смерть и мучения – вот что принес народам кровавый нацизм!
Я напомнил солдатам, что освенцимский концлагерь со всеми его душегубками есть порождение гитлеровского режима, практическое воплощение человеконенавистнической расовой теории фашизма. В больших и малых освенцимах Гитлер и его подручные замыслили истребить многие народы. Но Советская Армия спасла человечество от нацистских убийц.
Едва я закончил выступление, как на грузовик взобрался взволнованный и побледневший солдат и попросил разрешения сказать несколько слов.
– Нам не надо никаких пояснений, товарищ генерал, – заявил он. – Все ясно. Пусть гитлеровцы не ждут от нас пощады. Звери есть звери. Коричневых волков надо уничтожать!
И оратор добавил, что с сегодняшнего дня он решил пленных не брать. Послышались крики одобрения:
– Правильно! Никакой пощады врагу!
Мы с генералом И. М. Гришаевым озабоченно переглянулись. Чувствовалось, что ненависть к врагу не только достигла наивысшего накала, но и перехлестнула через край. В этих условиях требовалось весь накопившийся у воинов гнев направить по верному руслу.
Вот почему я вторично взял слово и сказал, что предыдущий оратор не прав, предложив пленных не брать. Наша месть не должна быть слепой и безрассудной. Нельзя всех немцев мерить на один аршин. Мы беспощадно уничтожаем тех, кто с оружием в руках яростно защищает гитлеровский кровавый режим. Но тех, кто прекращает борьбу, кто бросает оружие и сдается в плен, мы не уничтожаем и должны сохранить им жизнь. Советская Армия идет в бой со священным девизом "Смерть фашистским захватчикам!" и сокрушает нацистский вермахт, громит эсэсовскую свору. Но мы гуманно относимся к гражданскому населению, избавляя немцев от гитлеровского кровавого режима.
В заключение я выразил уверенность, что дни "третьего рейха" сочтены и мы заставим главных военных преступников, всех комендантов и подкомендантов, всех кровавых палачей Освенцима, Майданека и других лагерей смерти держать ответ за совершенные ими злодеяния.
Хорошо понимая, что одним выступлением на митинге сразу всех не убедишь и перелома в настроении людей не достигнешь, я предложил генералу И. М. Гришаеву, а также всем другим руководителям политорганов продолжить разъяснительную работу в войсках, и прежде всего в частях, освобождавших район Освенцима.
В донесении, направленном Государственному Комитету Обороны, я писал: "Освобожден район концлагерей Освенцим. Ужасный лагерь смерти. Здесь фактически имеется пять лагерей. В четырех из них содержалось население из всех стран Европы, пятый лагерь был тюрьмой, куда заключались люди за всякие провинности перед фашистской администрацией.
Каждый лагерь представляет собой огромную площадь, обнесенную изгородью из нескольких рядов колючей проволоки. Поверху идут провода под током высокого напряжения. За этими изгородями бесчисленное количество деревянных бараков. Бесконечные толпы людей, освобожденных Красной Армией, идут из этого лагеря смерти. Среди них венгры, югославы, итальянцы, французы, чехи и словаки, греки, румыны, датчане, бельгийцы. Все они выглядят крайне измученными, седые старики и юноши, матери с грудными детьми и подростками, почти все полураздетые.
Очень много наших советских граждан, жителей Ленинградской, Калининской, Тульской, Московской областей, изо всех районов Советской Украины. Среди них немало искалеченных, сохранивших следы пыток, следы фашистских зверств. В Освенциме, по предварительным показаниям заключенных, замучены, сожжены и расстреляны сотни тысяч людей.
Прошу распоряжения о высылке представителей Государственной Чрезвычайной Комиссии по расследованию фашистских зверств"{72}.
Не дожидаясь прибытия из Москвы Государственной комиссии, предварительным расследованием немецко-фашистских злодеяний в концентрационном лагере Освенцим занялась комиссия политического управления 1-го Украинского фронта. В нее мы включили и доверенного национального комитета "Свободная Германия".
Строительство концентрационного лагеря Освенцим, как гласил отчет комиссии политуправления 1-го Украинского фронта, началось еще летом 1940 года. После вероломного нападения фашистской Германии на Советский Союз лагерь стал расширяться. Первоначально гестаповцы планировали дополнительное строительство в районе с. Райско. Но комендант лагеря Освенцим заявил, что для его заключенных это место не подходит, так как земля пригодна для жизни и посевов. Он приказал строить второй лагерь на гнилом болоте в районе Бжезинки.
Территория концлагерей Освенцима все больше и больше расширялась. С начала 1942 года, после того как Освенцим посетил рейхсфюрер СС Гиммлер, развернулось ускоренное строительство больших крематориев. В 1943 году к новому лагерю в Бжезинке была протянута железнодорожная ветка, по которой сюда доставляли заключенных из разных стран Европы.
Члены комиссии показывали мне документальную запись врача Отто Волькена, который был заключен гестаповцами в мужской концлагерь Бжезинка и выполнял там обязанности писаря. Он тайно зарегистрировал некоторые данные.
Вот одна из таких записей, вошедшая в акт комиссии как документ обвинения: "21.10.43. Из Вестербурга (Голландия) прибыл очередной транспорт с заключенными. В лагерь отправлено 347 человек, в крематорий – 1041 человек.
21.10.43. Прибыл еще один транспорт. На этот раз из Рима. В лагерь 149 человек, в крематорий – 447.
28.10.43. Транспорт из Познани. В лагерь – 72, в крематорий – 212.
24.11.43. Транспорт из Риги. В лагерь – 120 человек, в крематорий 480.
28.11.43. Транспорт из Франции. В лагерь – 241, в крематорий – 720 человек.
4.3.44. Из Чехословакии доставлен транспорт с мужчинами, женщинами и детьми. Все 3752 человека отправлены в крематорий.
23.3.44. Доставлена очередная партия заключенных из Голландии. Все 184 человека отправлены в крематорий.
13.3.44. Прибыл транспорт из Афин. 320 человек направлены в лагерь, а 980 – в крематорий.
18.4.44. Из Люблина доставили 301 женщину. Все они ранее занимались сортировкой вещей и ценностей заключенных в Майданеке. Их всех отправили в крематорий"{73}.
Это лишь выборочные записи из далеко не полных регистрационных данных о поступлении в Освенцим заключенных. Станислав Хелькель и другие железнодорожные служащие станции Освенцим показали, что бывали дни, когда в лагерь из различных стран Европы поступало по 10–15, а то и 25 транспортов. Каждый железнодорожный эшелон состоял из 40 и более вагонов, средняя вместимость каждого вагона – 75–80 человек.
В декабре 1943 года из Баварии в Освенцим доставили 1200 истощенных людей, надорвавшихся на непосильных работах в каменоломнях возле Флостбурга. Когда транспорт прибыл в Освенцим, при проверке оказалось, что в живых осталось 948 человек, а остальные умерли в вагонах. После того как невольников строем погнали в лагерь, на месте разгрузки осталось 32 человека, которые не способны были самостоятельно передвигаться. Комендант лагеря Бжезинка Шварц приказал привести их "в чувство" и облить холодной водой, хотя на дворе стоял сильный мороз. К утру они почти все замерзли. Только пятеро еще дышали.
Как было установлено расследованием, большинство прибывавших заключенных сразу же подвергалось уничтожению. Но и те, кто оставался в лагере, тоже были обречены на смерть. Врачи-эсэсовцы в широком масштабе использовали заключенных для различных экспериментов, завершавшихся смертью пациентов. Это ведь здесь, в Освенциме, производил над заключенными бесчеловечные опыты врач-садист Менгеле, уничтоживший огромное количество невинных людей. Своим изуверством он стяжал позорнейшую известность во всем мире. Менгеле и другие лагерные врачи по два-три раза в месяц проводили в Освенциме так называемые селекции, обрекая на уничтожение всех подопытных людей. Врач-палач Менгеле, равно как и комендант освенцимского концлагеря Рудольф Гесс, повешенный по приговору польского народного суда, а также их подручные впервые были заклеймены как опасные военные преступники в документе предварительного расследования, проведенного комиссией политуправления 1-го Украинского фронта. В отчете комиссии, в частности, говорилось: "После нападения фашистской Германии на Советский Союз в лагерь стали поступать партии советских военнопленных. Режим для них был установлен еще более жестокий, чем для остальных заключенных. По заявлению Евгения Носаля, 20 сентября 1941 года в лагерь доставили первых сто русских военнопленных, в основном офицеров. После допроса их всех расстреляли во дворе блока № 11. Через три дня прибыло еще около трехсот пленных. На следующий день все они были отправлены в «баню» и на «дезинфекцию». Больше их никто не видел. Вероятно, всех их отравили газами.