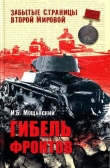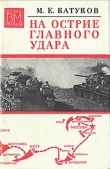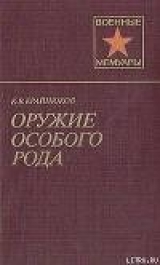
Текст книги "Оружие особого рода"
Автор книги: Константин Крайнюков
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 22 (всего у книги 45 страниц)
Перегруппировав и подтянув войска, фашисты во второй половине октября обрушились на повстанческий район.
В тот трудный час главную тяжесть борьбы с гитлеровцами приняли на себя партизанские отряды. Руководимый Коммунистической партией, народ Чехословакии не склонил головы перед поработителями. В тяжелой боевой обстановке Главный штаб партизанского движения осуществил реорганизацию соединений и отрядов и их планомерный отход в горы. Генерал-майор А. Н. Асмолов рассказывал мне о мужественном борце за народное дело Яне Шверме. Видный деятель Коммунистической партии товарищ Шверма, будучи больным, возглавил организованный отход партизан в горы. Ему предлагали эвакуироваться на самолете, но партийный руководитель наотрез отказался покинуть партизан. 10 ноября в неистовую метель при переходе через Хабенецкий перевал Ян Шверма скончался. Он стал национальным героем страны, символом мужества и стойкости.
После Карпатско-Дуклинской операции эмигрантское правительство Бенеша предприняло попытку ликвидировать чехословацкие части в СССР. Руководству фронта стало известно довольно странное предложение министра обороны буржуазного правительства Ингра, переданное через главу чехословацкой военной миссии в СССР генерала Пика. Предлагалось распустить танковые, артиллерийские и авиационные части 1-го чехословацкого армейского корпуса, превратив его в пехотную бригаду. Мотивировалось это тем, что танковая бригада и другие специальные части понесли в горах потери в технике, что пополнить их трудно и т. п. Но мы в этом предложении видели стремление ликвидировать вооруженные силы чехословацкого народа. Нам и раньше было известно, что реакционеры из Лондона мешали организации в 1942 году первого чехословацкого батальона, противились назначению Люд вика Свободы, отказывались присваивать офицерские звания закаленным в боях коммунистам, которые приобрели военный опыт еще в интернациональных бригадах в Испании, а затем на территории нашей страны сражались с немецко-фашистскими захватчиками. Буржуазные военспецы требовали поставить чехословацкие части "вне политики", даже объявили запрет антифашистской агитации.
Обсуждая на Военном совете фронта вопрос о чехословацком корпусе, мы верили, что у этого соединения большие перспективы и хорошая база роста. Ведь корпус достиг родной земли, и люди труда добровольно вступают в него, в том числе партизаны, участники Словацкого национального восстания. Свертывать это соединение, когда впереди решающие бои за освобождение Чехословакии, было никак нельзя.
Заручившись согласием Ставки Верховного Главнокомандования, Военный совет фронта пополнил чехословацкую танковую бригаду новыми боевыми машинами, усилил части артиллерией и другой техникой, восстановил боевую мощь корпуса.
Вскоре 1-й чехословацкий армейский корпус был передан в состав 4-го Украинского фронта и принял участие в боях за полное освобождение своей страны.
Так вопреки проискам эмигрантского буржуазного правительства Бенеша чехословацкий корпус был не только сохранен, но и послужил базой для развертывания национальных вооруженных сил. 6 октября 1944 года стало Днем чехословацкой Народной армии.
В послевоенное время мне неоднократно приходилось бывать в братской Чехословакии. Большое впечатление произвела поездка на празднование 20-й годовщины Словацкого народного восстания. В состав советской военной делегации входили маршал авиации С. А. Красовский, генерал А. Н. Асмолов и другие активные участники боевых событий. Мы летели в Прагу на воздушном лайнере, пилотируемом прославленным асом нашего фронта дважды Героем Советского Союза Дмитрием Глинкой. В Банска-Бистрице, празднично украшенной красными знаменами и трехцветными национальными флагами, нас встретили с сердечным радушием. Побывали мы на знаменитом аэродроме Три Дуба, на местах легендарных сражений, посидели у традиционного партизанского костра дружбы.
По приглашению министерства обороны ЧССР я находился в Чехословакии в феврале 1968 года, в дни празднования 50-летия Советских Вооруженных Сил, выступал перед чехословацкими воинами и трудящимися ЧССР с докладами о полувековом героическом пути Советской Армии и Военно-Морского Флота, о нерушимой дружбе братских армий и народов, зародившейся в годы нашей общей борьбы против фашизма.
Неизгладимое впечатление на меня произвела поездка в Чехословакию в майские дни 1975 года, когда наша страна и все прогрессивное человечество праздновали 30-летие Победы советского народа и его Вооруженных Сил над кровавым фашизмом. Одновременно отмечалось 30-летие освобождения Праги от ненавистных гитлеровских захватчиков.
Сердечной и задушевной была встреча нашей военной делегации с генералом Людвиком Свободой. Вспомнили мы Киевское сражение, бои под Соколове, Белой Церковью и в Карпатах. Высоко оценивая годы совместной борьбы, годы суровых ратных испытаний и славных побед, дважды Герой Чехословацкой социалистической республики и Герой Советского Союза генерал Людвик Свобода писал: "Я убедился в великой мудрости и огромной созидательной силе партии Ленина. Они проявлялись повсюду, где надо было поднимать, организовывать, сплачивать людей, мобилизовать все силы для борьбы с врагом. Коммунисты были примером во всем, на самых трудных участках они всегда были впереди.
На каждом шагу мы ощущали вдохновляющее воздействие братской помощи, интернационалистской убежденности советских людей. Народ-герой ничего не жалел, когда речь шла о содействии нам в то тяжелое для чехов и словаков время.
Помню, как в предгорьях Карпат два советских офицера спасли мне жизнь. Вблизи от нас разорвалось несколько вражеских мин. Один из офицеров мгновенно прижал меня к земле, другой тут же прикрыл своим телом. Никогда не забуду слова одного из них – капитана-артиллериста: "Нас могут убить, вас не смеют…"
Путь, пройденный вместе от Бузулука до Праги, оставил глубокий след в моем сердце. Чехословацко-советская дружба вошла в мою плоть и кровь"{45}.
Приближался сорок пятый…
На лысом бугорке, обдуваемом студеными ветрами, одиноко возвышался дорожный столб. Ярко раскрашенные фанерные стрелы указывали: "К Висле", "До переправы – 0,5 км, до Берлина – 695 км".
По крутому спуску наша машина скатилась к реке, дробно простучала по бревенчатому мосту. Висла почти вся покрылась льдом и снегом, лишь кое-где темнели полыньи. Стояла безмятежная тишина.
А совсем недавно воды Вислы кипели от частых разрывов бомб и снарядов. С неистовым воем к переправам рвались фашистские пикировщики, а над польскими фольварками в бешеном круговороте яростных поединков сновали десятки наших и вражеских самолетов.
Тяжелые бои шли в воздухе и на заречной земле, именуемой сандомирским плацдармом. Напряжение борьбы постепенно ослабевало, пока не установилось относительное затишье.
Один из видных военных историков как-то задал В. Д. Соколовскому и автору этих строк вопрос:
– Когда на Первом Украинском фронте началась подготовка к Висло-Одерской наступательной операции?
И мы, не сговариваясь, вполне убежденно и обоснованно ответили ему, что подготовка фактически началась 29 августа 1944 года, когда полностью завершилась Львовско-Сандомирская операция и войска фронта по приказу Ставки на всей полосе перешли к жесткой обороне.
Василий Данилович не преминул заметить, что Ставка очень точно определила, когда нам выгоднее всего завершить операцию. К тому времени состояние двух противостоящих группировок было таково, что и мы наступать не могли, и противник, основательно потрепанный нашими войсками, уже не представлял серьезной угрозы, в сложившейся ситуации самым разумным было перейти от наступления к обороне, чтобы прочно закрепиться на достигнутых рубежах и начать подготовку к новой операции.
– Правильно выбрать такой момент, – заключил генерал армии В. Д. Соколовский, – дело не простое и относится к области военного искусства, в развитии которого мы немало преуспели.
Война – это не только жаркие бои, но и повседневный, напряженный ратный труд. Используя каждый час наступившего затишья, воины старательно готовили оборонительные позиции, чтобы они стали неприступными для врага. За короткое время было отрыто 1500 километров траншей полного профиля и ходов сообщения, передний край прикрыт минными полями и различными инженерными заграждениями. Войска фронта создали многополосную оборону на глубину 30–40 километров, надежно оградив плацдарм и переправы через Вислу.
Инженерные работы, которыми занимались все наши воины, были рассчитаны не столько на оборону, сколько на будущее наступление. Сандомирский плацдарм мы подготовили для сосредоточения здесь ударной группировки. Например, каждый артдивизион оборудовал основные и запасные огневые позиции с таким расчетом, чтобы в нужный момент на них могли разместиться артполк или даже артбригада. Все делалось продуманно, строго по плану.
Помню доклад Военному совету начальника инженерных войск фронта генерала И. П. Галицкого. В нем говорилось не только о создании оборонительных рубежей, но и о подготовке лесных массивов для размещения как имеющихся в наличии частей, так и ожидаемых резервов Ставки. Саперы заблаговременно расчистили просеки, сделав их пригодными для проезда автотранспорта, разбили леса на кварталы-квадраты и просеки-улицы, дав им условные наименования. Прибывающие к нам соединения и части имели карту лесов и точно знали квадрат, где им надлежало разместиться. На плацдарме они находили не только образцы блиндажей, наблюдательных и командных пунктов, но и шахтные колодцы с водой, бани и другие сооружения, необходимые для войск. Наши инженерные части установили 240 километров придорожных вертикальных масок, изготовили большое количество маскгазонов, осуществили и другие мероприятия по маскировке оборонительных рубежей, а также мест расположения личного состава и боевой техники.
Наши пехотинцы, артиллеристы, связисты и воины других родов войск соорудили по типовым образцам Ю тысяч землянок, 11 тысяч артиллерийских и минометных позиций, 1160 командных и наблюдательных пунктов, всевозможные укрытия для личного состава и боевой техники. Одновременно создавались магистральные ходы сообщения глубиной до 2 метров и шириной поверху 2,5 метра, что позволяло воинам быстро и скрытно выдвигаться на передний край.
Войска, преднамеренно перешедшие к обороне, жили мыслью о новом наступлении. Их неустанно готовили к этому командиры и политработники. Когда мы прибыли в одну из частей 4-й танковой армии, нас окружили воины. Посыпались вопросы:
– Скоро ли наступление?
– Будет ли Первый Украинский брать Берлин?
Я порекомендовал солдатам настойчивее учиться, старательнее готовиться к победным боям, чтобы сокрушить врага на Висле, дойти затем до его жизненно важных центров и разгромить фашистское логово.
Однажды порученец майор В. А. Иванов пришел из штаба взволнованный и положил на мой стол ворох новых карт.
– Посмотрите, товарищ генерал, что прислали! – радостно воскликнул он, поспешно развертывая новые, хрустящие листы. – Вы видите, что на них написано: «Краков», «Бреслау»… И берлинский лист выдали!
Что ж, в конце 1944 года появилась насущная потребность и в этих листах.
Маршал Советского Союза И. С. Конев, начальник штаба фронта генерал армии В. Д. Соколовский, начальник оперативного управления генерал-майор В. И. Костылев, Военный совет уже давно занимались первоначальными наметками и прикидками, вынашивая замысел зимнего наступления войск 1-го Украинского фронта.
Ставка Верховного Главнокомандования и Генеральный штаб в творческом содружестве с руководством 1-го Белорусского, 1-го Украинского и других фронтов разрабатывали план новой крупной операции, вошедшей в историю Великой Отечественной войны под названием Висло-Одерской.
Подготовка к наступлению шла по всем правилам. Оперативная пауза продолжалась примерно четыре месяца. В условиях войны такая возможность представляется крайне редко, и мы стремились как можно лучше использовать драгоценное время для обучения воинов и сколачивания подразделений.
Занимались все войска, в том числе части первого эшелона, а также штабы соединений и политорганы. Это была настоящая академия, давшая немало знаний и навыков солдатам и сержантам, командирам и политработникам.
Командующий войсками фронта Маршал Советского Союза И. С. Конев в приказе поставил следующие задачи: "1. Продолжать боевое сколачивание подразделений и частей:
а) к 20. 11. 44 г. во всех дивизиях закончить подготовку к наступательному бою батальона, полка со средствами усиления;
б) продолжать выучку отдельного бойца и сколачивание в наступательном бою отделения, взвода, роты;
в) тактическую подготовку рот, батальонов заканчивать учением с боевой стрельбой;
г) особое внимание уделить отработке вопросов взаимодействия с танками, артиллерией, минометами, авиацией, а также с соседями;
д) провести не менее одного учения в ночных условиях.
2. В тактической подготовке добиться высокой подвижности, маневренности войск. Необходимо выработать умение атаковать с ходу, вести бой в лесу, при полном взаимодействии пехоты с артиллерией, танками и авиацией в осенне-зимних условиях.
Тактическим учениям должны предшествовать тактико-строевые занятия, на которых особо тщательно отработать взаимодействие огня и движения боевого порядка, сквозные атаки на всю глубину батальонного узла обороны противника и провести показные учения"{46}.
Приказ обязывал части второго эшелона заниматься боевой и политической подготовкой 8-10 часов в сутки, а подразделения первого эшелона – 4–6 часов. Войска, несущие боевую службу на переднем крае, периодически подменялись и выводились в тыл для проведения учений.
Командующий и Военный совет фронта уделяли особое внимание штурмовым батальонам, которые должны были первыми прорывать сильно укрепленную оборону врага на сандомирском плацдарме. Во главе этих подразделений стояли смелые, опытные, авторитетные и волевые командиры. В воспитании личного состава им помогали проверенные в боях и хорошо подготовленные политработники.
С командным составом штурмовых батальонов штаб фронта провел показное тактическое учение на тему:
"Действия штурмовой группы при прорыве позиционной обороны противника". Саперы воспроизвели примерную копию сильно укрепленного опорного пункта врага, оборудовали дзоты, траншеи, ходы сообщения, установили трофейные мины, различные инженерные заграждения. Систему огня обороняющихся также построили по немецкому образцу.
Показное учение, проходившее в обстановке, приближенной к боевой, принесло немалую пользу командному составу штурмовых батальонов и рот.
В ноябре и декабре 1944 года Военный совет фронта, руководящие работники штаба проверяли готовность соединений и объединений. Вместе с Маршалом Советского Союза И. С. Коневым мы побывали на учениях с боевой стрельбой в 4-й танковой армии, которой командовал генерал-полковник Д. Д. Лелюшенко.
– Посмотрите, какой великолепный «зоопарк» организовал на полигоне Дмитрий Данилович! – шутливо сказал командующий бронетанковыми и механизированными войсками фронта генерал Н. А. Новиков. – Здесь и «пантеры», и «тигры», и даже "королевские тигры". Такое разнообразие вряд ли где встретишь.
И в самом деле, на полигоне в качестве мишеней были расставлены различные трофейные танки и самоходки, по которым вели огонь наши воины.
Танкисты, мотострелки и артиллеристы наступали слаженно, взаимодействовали четко, успешно решали тактические и огневые задачи, метко поражая цели с ходу и с коротких остановок.
Когда смолкли выстрелы, к трофейным танкам, выставленным в качестве мишеней, поспешили многие участники учений.
Вместе с членом Военного совета армии генерал-майором танковых войск В. Г. Гуляевым и начальником поарма полковником Н. Г. Кладовым мы подошли к группе воинов, стоявших возле подбитого «тигра». Бывалый танкист, показав молодым воинам на многочисленные пробоины в броне вражеской машины, с гордостью сказал:
– Как видите, наши герои бьют «тигры» в хвост и в гриву. Но бороться с немецкими танками надо умеючи. У «тигра» лобовая броня имеет толщину сто миллиметров, поэтому лезть на рожон не стоит, а лучше всего занять выгодную позицию и бить по бортам, корме и ходовой части вражеской машины. Результат получается отличный!
Ветеран, рассказывавший молодым воинам о вражеской технике и способах борьбы с нею, предложил воинам перейти к следующему «экспонату» – немецкому сверхтяжелому танку Т-VIБ, так называемому "королевскому тигру". Показав палкой на пробоину в башне вражеской машины, танкист весело сообщил:
– У "королевского тигра" лоб чуть ли не вдвое толще, чем у обыкновенного, но и он не устоял перед нашим снарядом…
В то время мы располагали тяжелыми танками ИС, имевшими 122-мм пушку, и самоходками ИСУ, вооруженными 152-мм орудиями. Снаряды этого калибра пробивали любую броню.
Слушая беседу ветерана с молодыми воинами, мы с удовлетворением отметили, что учеба и воспитательная работа с людьми проводятся конкретно и целеустремленно. В подразделениях, участвовавших в тактических учениях, можно было увидеть не только памятки, выпущенные штабом и политотделом армии, но и боевые листки, а также листовки-молнии, которые передавались из экипажа в экипаж. Словом, использовались самые разнообразные формы и методы, побуждающие фронтовиков учиться военному делу настоящим образом, как требовал того великий Ленин.
Коммунистическая партия проявляла постоянную заботу об укреплении Советских Вооруженных Сил, о повышении боевой выучки и политической сознательности защитников нашей Родины. В канун 27-й годовщины Великой Октябрьской социалистической революции Центральный Комитет обратился к войскам с призывом: "Воины Красной Армии! Неустанно совершенствуйте свое боевое мастерство, полностью используйте нашу прекрасную боевую технику, бейте вражеские войска до полного их разгрома!"{47}.
Пропагандируя вдохновенные Призывы ЦК партии, наша печать распространяла передовой опыт, помогая молодым солдатам овладевать ратным мастерством, готовиться к суровым испытаниям. Герой Советского Союза гвардии старшина Андрей Мелконян, отважно сражавшийся в Сталинграде, на огненной Курской дуге, Днепре, Днестре и Висле, выступил на страницах фронтовой газеты "За честь Родины" с серией статей об инженерной разведке местности, о том, как нужно обезвреживать вражеские фугасы, снабженные различными коварными «сюрпризами». Он справедливо отмечал особо важную роль саперов, прокладывающих путь стрелковым и танковым подразделениям.
По почину коммуниста Героя Советского Союза Михаила Сохина на страницах фронтовой газеты развернулась перекличка снайперов. Мастера огня хорошо помогали командирам в подготовке метких стрелков. Много ценных советов дал молодым воинам опытный механик-водитель гвардии старшина И. Кылымник – один из зачинателей движения по сбережению техники и продлению межремонтных сроков эксплуатации танков и самоходно-артиллерийских установок.
Командные кадры и работники штабов творчески осмысливали итоги недавно закончившейся Львовско-Сандомирской операции, тщательно анализировали боевые действия войск по окружению и ликвидации бродской группировки противника, форсированию Вислы, захвату и удержанию плацдарма, организации взаимодействия на различных этапах наступления.
Ставка Верховного Главнокомандования в директиве от 30 ноября 1944 года отмечала, что, несмотря на крупные победы, одержанные Красной Армией, в войсках допускались отдельные просчеты, особенно в организации взаимодействия авиации с танками. В частности, имели место несогласованность во времени при нанесении ударов по противнику, запоздалые вылеты по вызову, не всегда надежное прикрытие наземных войск.
Выполняя директиву Ставки, мы провели командно-штабное учение с руководящим составом фронта. Несомненную пользу принесло совещание членов военных советов и начальников политотделов армий.
Выступавшие далеко не случайно сосредоточили свое внимание на подвижных войсках и авиации. В предстоящей операции основную роль в развитии наступления должны были, как и раньше, сыграть введенные в прорыв танковые и механизированные соединения. Им надлежало овладеть важными районами и рубежами, захватить переправы через реки и узловые железнодорожные станции, чтобы нарушить коммуникации противника.
Кто мог оказать наиболее эффективную поддержку подвижным войскам в оперативной глубине? Главным образом авиация. Она способна непрерывно поддерживать наших танкистов, надежно прикрывать их с воздуха, подавлять неприятельские очаги сопротивления на земле.
Речь шла о том, чтобы, умело используя различные меры партполитработы, подкрепить усилия командования по улучшению взаимодействия как между однородными подразделениями, так и между различными родами войск, помочь им в укреплении дисциплины и организованности. Подчеркивалось, что вся деятельность политработников, партийных и комсомольских организаций должна тесно увязываться с боевой подготовкой, активно влиять на совершенствование тактики и оперативного искусства.
В дни подготовки к новой наступательной операции во 2-й воздушной армии было проведено крупное летно-тактическое учение. Тема: "Действия авиации при прорыве сильно развитой и укрепленной обороны противника". Руководил им генерал С. А. Красовский.
На наблюдательном пункте, откуда хорошо просматривался изрезанный траншеями и окопами район обороны «противника», находились командующий войсками фронта Маршал Советского Союза И. С. Конев, начальник штаба генерал армии В. Д. Соколовский, члены Военного совета, командармы.
Первыми в небе появились истребители соединений, которыми командовали генералы А. В. У тин и М. Г. Мачин. Очистив воздушное пространство от патрулей «противника», они точными атаками уничтожили зенитные батареи и другие важные цели.
Затем показались бомбардировщики. Группы вел генерал И. С. Полбин. Он первым спикировал на батарею «противника» и по-снайперски точно положил бомбу в цель. Встав в круг, экипажи поочередно атаковали объект. Мы увидели в действии известную полбинскую «вертушку». Каждая бомба сбрасывалась прицельно.
Метко поражали выставленные на полигоне мишени штурмовики генерала В. Г. Рязанова. Эффективно атаковали наземные цели полковник А. И. Покрышкин и другие летчики-истребители. Яркими факелами вспыхнули бочки со смолой, ящики с трофейными снарядами и взрывчаткой.
Особенно внушительным был массированный удар, Наша авиация обрушила на участок предполагаемого прорыва множество фугасных бомб и реактивных снарядов.
Глядя на обвалившиеся и полузасыпанные траншеи, разрушенные дзоты и блиндажи, на груды металлолома, в который превратились трофейные танки, орудия и минометы, на объятые огнем и окутанные дымом позиции противника, Маршал Советского Союза И. С. Конев с удовлетворением сказал:
– Такой удар способен потрясти любую оборону врага… – Иван Степанович помолчал, посмотрел на плывущие в небе облака и со вздохом добавил: – А вот строптивая матушка-зима может преподнести нам сюрприз и испортить погоду, сделать ее нелетной. Это обстоятельство тоже надо учитывать при планировании операции.
На разборе летно-тактических учений командующий войсками фронта И. С. Конев оценил массированный удар нашей авиации как наиболее эффективный способ взламывания обороны противника. Маршал с похвалой отозвался о действиях групп пикировщиков. Он сказал, что именно так надо уничтожать опорные пункты в глубине вражеской обороны и резервы, выдвигаемые противником для контратаки. Командующий приказал отработать плановые таблицы взаимодействия и выделить офицеров наведения, которые должны быть направлены в танковые и механизированные корпуса.
В описываемое мной время советская авиация уже господствовала в небе. 2-я воздушная армия, входившая в состав нашего фронта, имела перед Висло-Одерской операцией 2588 самолетов. Для того чтобы лучше показать значимость этой цифры, напомню, что фронты, участвовавшие в контрнаступлении под Москвой, располагали лишь 760 самолетами, а Военно-Воздушные Силы всей действующей армии в конце 1941 года насчитывали 2495 боевых машин. Это убедительно говорило о том, как далеко шагнула в своем развитии отечественная авиация, как много сделали для завоевания победы талантливые конструкторы, самолето – и моторостроители, героические труженики советского тыла, обеспечивавшие Вооруженные Силы авиационной техникой и боеприпасами.
В канун 1945 года внимание Военного совета 1-го Украинского фронта было приковано к войскам, прибывавшим к нам из резерва Ставки. 30 октября 1944 года нам передали 52-ю армию, которой командовал генерал-полковник Константин Аполлонович Коротеев. Членом Военного совета здесь был генерал-майор А. Ф. Бобров, а начальником штаба – генерал-майор А. Н. Коломинов. Вместо убывшего полковника П. В. Банника в должность начальника политотдела армии 15 декабря 1944 года вступил полковник П. Н. Михайлов. Я хорошо знал его. В начале тридцатых годов мы с Панкратием Никитичем Михайловым учились вместе в Ленинграде на сухопутном факультете Военно-политической академии, которую в 1938 году перевели в Москву.
После совместной учебы мы много лет не виделись с Михайловым, встретившись, долго говорили об однокурсниках, преподавателях и начальниках. Вспомнили, как волновались когда-то перед экзаменами.
– Но самый трудный экзамен мне придется держать здесь, на фронте, признался Панкратий Никитич.
Этот инициативный, упорный в работе человек, основательно изучивший военное дело, с честью выдержал боевой экзамен, хорошо проявил себя на ответственном посту начальника политотдела объединения.
В декабре 1944 года в состав фронта вошла 59-я армия. Но с ее командующим генерал-лейтенантом И. Т. Коровниковым м е довелось встретиться несколько раньше, в ноябре, когда он с группой офицеров управления прибыл к нам для ознакомления с обстановкой в новом районе дислокации.
Познакомив меня с командармом, маршал заметил, что боевую закалку Иван Терентьевич получил на посту военного комиссара. Мы с И. Т. Коровниковым оказались одногодками и земляками. Иван Терентьевич родился и вырос на Волге. Как и я, он добровольно вступил в Красную Армию в грозном 1919 году и тоже вначале был политбойцом. В тридцатых годах, когда И. С. Конев командовал особым корпусом в Монголии, И. Т. Коровников являлся комиссаром соединения. Окончив перед войной командный факультет Академии моторизации и механизации, он стал заместителем командира 2-й танковой дивизии, находившейся в Прибалтике. В июльские дни 1941 года Иван Терентьевич возглавил 1-й механизированный корпус, затем армейскую группу войск, а в начале 1942 года принял командование 59-й армией.
Членом Военного совета этой армии был генерал-майор П. С. Лебедев. Как и командарм, он в предвоенные годы выполнял интернациональный долг за рубежами нашей Родины. Будучи комиссаром 36-й мотострелковой дивизии, участвовал в боях на Халхин-Голе, был награжден двумя орденами Красного Знамени Монгольской Народной Республики.
С первых дней Великой Отечественной войны П. С. Лебедев находился в действующей армии. 26 июня 1941 года северо-восточнее Шяуляя он лично повел подразделение в контратаку и получил ранение. Оказавшись в тылу противника, политработник П. С. Лебедев собрал из солдат разных частей боевую группу и пробился к своим.
Рассказывая о ратном пути 59-й армии, член Военного совета генерал П. С. Лебедев вспоминал о боях на Волховском и Ленинградском фронтах, об освобождении древнего Новгорода и участии в морском десанте по захвату ряда островов в Выборгском заливе. После выхода Финляндии из войны войска армии охраняли здесь границу нашей Родины.
– Такой мирной тишины, какая установилась на советско-финляндской границе, на плацдарме за Вислой не будет, – предупредил я Лебедева. – Скоро в самое пекло пойдем – штурмовать фашистское логово. Надо готовить войска к напряженным боям и длительному наступлению с высоким темпом.
Примерно за неделю до упомянутой беседы из Москвы вернулся командующий войсками 1-го Украинского фронта Маршал Советского Союза И. С. Конев. По его веселому и приподнятому настроению нетрудно было догадаться, что поездка прошла успешно и он привез хорошие новости.
Конев проинформировал Военный совет о том, как Верховный Главнокомандующий рассматривал представленный руководством 1-го Украинского фронта план предстоящего наступления. Нас обрадовало, что его оперативная часть была целиком одобрена.
Вспоминаю, как поправила нас Ставка при подготовке Киевской наступательной операции, как придирчиво Сталин разбирал план Львовско-Сандомирской операции. И если теперь наши предложения не вызвали со стороны Верховного Главнокомандования и Генерального штаба никаких возражений, это, несомненно, говорило о возросшем мастерстве военных кадров.
План Висло-Одерской наступательной операции явился итогом коллективного творчества Ставки, Генштаба, командующих, штабов и военных советов 1-го Белорусского, 1-го Украинского и других фронтов. Мы с воодушевлением встретили сообщение Ивана Степановича о том, что предстоящая операция явится важнейшей составной частью кампании 1945 года, В ходе ее Советские Вооруженные Силы должны были окончательно разгромить гитлеровскую Германию и сокрушить фашизм. Не вдаваясь в детали замысла завершающей кампании, И. С. Конев сказал, что Ставка признала центральный участок советско-германского театра военных действий главным и что войска 1-го Украинского и 1-го Белорусского фронтов нацелены как раз на берлинское стратегическое направление.
Разрабатывая наступательную операцию, Военный совет исходил из указаний Коммунистической партии, изложенных в приказе Верховного Главнокомандующего № 70 от 1 мая 1944 года и в последующих документах. Поставив перед Красной Армией историческую задачу очистить от фашистских захватчиков всю нашу землю и восстановить Государственные границы Советского Союза по всей линии от Черного моря до Баренцева, Верховный Главнокомандующий подчеркнул, что только этим задачи не могут ограничиваться. "Чтобы избавить нашу страну и союзные с нами страны от опасности порабощения, – говорилось в приказе № 70 от 1 мая 1944 года, – нужно преследовать раненого немецкого зверя по пятам и добить его в его собственной берлоге. Преследуя же врага, мы должны вызволить из немецкой неволи наших братьев поляков, чехословаков и другие союзные с нами народы Западной Европы, находящиеся под пятой гитлеровской Германии{48}.
В ходе январского наступления 1945 года войскам 1-го Украинского фронта вместе с нашими соседями предстояло завершить освобождение польского народа от фашистских оккупантов, выполнить благородный интернациональный долг, великую освободительную миссию.