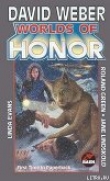Текст книги "Черная сакура"
Автор книги: Колин О'Салливан
сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 15 страниц)
Как ни странно, когда он выкладывал мне свои гнусные секреты, мне приходилось сдерживаться, потому что рука инстинктивно тянулась к нагрудному карману. Мне хотелось удалить его с поля. Какой абсурд. Привычки, которые мы приобретаем, странные, непроизвольные…
Ничего, я уверен, ровным счетом ничего со мной полиция не сделает, даже если меня застигнут ползающим по округе. К тому же, если я не ошибаюсь, полицейскую будку смыло во время прошлого наводнения. Не знаю точно, что стало с находившимися внутри полицейскими; наверное, качались на воде, как и все прочие – их суровые лица смягчились, сморщились от избытка влаги, их пистолеты на доли секунды всплыли стволами вверх, целясь в пустое небо, а потом канули на дно.
Неудивительно, что за последние годы селение погрязло в беззаконии; в отсутствие полиции развелось множество преступников, бродяг, беспризорников, жуликов и бесшабашных проходимцев (неуловимых, словно волки); постоянное моральное падение, неуклонное скатывание в омут. А в городах никому и дела нет. При Тринадцатом мегаполисы содержатся более-менее прилично, они по-прежнему оживленны, привлекательны и горделивы (хотя тоже слегка потрепаны). Да, пожалуй, вся страна демонстрирует некоторую стабильность, но есть ведь и маленькие селения, заброшенные полусмытые городишки; их чересчур много, чтобы ими заниматься, а населяют их старики, один другого дряхлее, – край, где нет молодости, только морщинистые лица, которые повидали слишком много, а юные отошли в мир иной или так и не появились на свет! Все хуже и хуже. Даже в школе, где я работаю, учеников почти не осталось, от силы человек сорок, а раньше было триста; лучше, да, лучше бы этим разоренным селениям вымереть окончательно и избавиться от страданий навсегда, навечно…
Я бегу. Быстро бегу по улицам. Бегу то ли от чего-то, то ли к чему-то. Нет, просто бегу. Я…
Начинает накрапывать дождик, потом припускает сильнее. Поэтому и я ускоряюсь.
Руби!
Не уверен, вслух я это выкрикнул или нет, иногда вопль звучит только у меня в голове, иногда застревает в горле, а иногда пронзительный, умоляющий, вырывается наружу, вспугивая птиц, что гнездятся на скелетоподобных деревьях; они встревоженно покидают свои нехитрые жилища, взмывают в небо, а я представляю себе, будто их тучи – это дымовые сигналы: Руби! Руби!
От бега меня мутит, накатывает внезапная слабость. Я скольжу взглядом по угрюмым закоулкам изувеченного селения, объятого вечным ледяным безмолвием, постоянным страхом, останавливаюсь передохнуть на мосту (на мосту, который крепок по-прежнему, несмотря на трещины в своде) и смотрю на реку, текущую подо мной. Столько воды. Она всегда в движении, и ничто ее не удержит. Она везде. Нашла свое место. Везде, куда хватает глаз, везде – волны и ручьи, реки и дожди, и слезы тоже.
Я снова бегу, пот у меня на лбу мешается с дождем, становясь еще жиже, еще солонее. Вернувшись в центр, я сбавляю скорость (дышать тяжело, в боку колет) и перехожу на шаг.
Чем бы я ни занимался этими сумрачными вечерами, какие бы ни совершал прогулки и забеги, где бы ни скитался и ни шагал, я непроизвольно высматриваю Руби. Я много чего вижу. Много где оказываюсь.
Неужели для этого я и брожу вечерами?
В школе нас заставляют сидеть на совещаниях. Долгих, очень долгих совещаниях. Руководители бормочут про то и про это – их лица напоминают безумные маски на какой-то мрачной церемонии, они расплываются, даже когда оказываются совсем рядом со мной, – а я сижу, клокоча от гнева: мне приходится тратить личное время, которым стоило бы распорядиться гораздо выгоднее. А как? Бродить. Бегать. Искать. В последнее время, начав об этом задумываться, я осознаю, как мало мы – все мы, люди – уделяем внимания сексу. Если это самое важное и отрадное для homo sapiens занятие, то почему его так мало? (Я говорю не только о себе.) Если бы не наша вечная усталость, разве не стали бы мы чаще заниматься любовью с нашими прекрасными женщинами, наполняя страну…
Почему столько времени уходит на всякую ерунду? Например, на вязание? Иногда я размышляю об этом на утомительных совещаниях. Многим из нас нет и тридцати, так почему бы нам не поразвлечься, не провести досуг более приятным способом, вроде разнузданной оргии? Поговорю об этом с Мариной.
Фонарный столб. Здесь обычно стоит Марина. Нет. Марины нет. Лишь одинокий фонарный столб. А ее нет. Здесь нет. Марина не здесь. Иногда моей голове нужно время, чтобы во всем разобраться. Привыкнешь, бывает, к определенному положению вещей, и вдруг оно меняется.
У меня болит голова. Над глазами. Болит лоб. И за глазами тоже. И уши заложены, они всегда заложены.
Я бреду по темному переулку. Медленно поднимаюсь по железной лестнице, стараясь ступать потише. Подбираюсь к ее окну – вуайеристские наклонности, а у кого, сказать по правде…
Марина не из тех, кто бросает слова на ветер. Она говорит, что я могу посмотреть. Я получил от нее разрешение. Она сама сказала. Зачем ждать другого вечера? Почему не сегодня? Она устраивает презентацию. Сама этого хочет. Сама меня пригласила.
Мои глаза снова выпучиваются, внутри всего моего существа вскипает внезапная боль, а потом, потом я вижу (я снова Любопытный Том) двух боковых арбитров (моих коллег) в постели с Мариной (моей шлюхой, моей шлюхой, до которой я ни разу не дотронулся, которой ни разу не заплатил даже из приличия).
Черт побери!
Все трое голые, наваливаются друг на друга. Настоящая вакханалия, словно столетия назад. Марина запрокидывает голову и хохочет (ее волосы извиваются точно змеи, руки выписывают спирали), а эти двое лапают, щупают ее (вид у нее демонический, взволнованный, она словно любуется собой).
Хиде Миёси и Такэси Накадзава. Один сверху, другой снизу. Марина посередине (тут вам не футбольное поле, когда посередине я, а они по краям, флажками машут). Эти двое – точно близнецы, с гнусными лисьими мордочками, исходят слюной. Даже роста одинакового. В постели все равны. Жизнь, в сущности, большое футбольное поле. Постель уничтожает все различия. Ноги переплетаются. Меня мутит еще сильнее, живот скручивает, в голове тяжесть, на глаза что-то давит изнутри, уши закладывает. Мне хочется блевануть, хочется сдохнуть. Но я продолжаю смотреть. Вы бы и сами догадались, что я не отведу глаз, что не оторвусь от зрелища.
И это… это она предлагала мне увидеть? В этом предлагала поучаствовать? «Почему бы вам как-нибудь не заглянуть в мое окно? Возможно, вам понравится. Я оставлю занавески открытыми». Такую вот презентацию устроила. По мне лучше уж те, что показывают в школах и на конференциях, с проекциями и анимированными картинками; там еще лазерной указкой отмечают то, на чем нужно заострить внимание.
Еще сплетения. Еще извивы. Эти двое запускают пальцы ей в волосы. Моя шлюха, моя шлюха Марина, моя любовь; где мой здравый смысл?
Я отвожу глаза от окна и сажусь на мокрую землю. Неужели я не заметил, что снова пошел дождь? Неужели дождь идет каждый день? Неужели и без того воды недостаточно? Я сижу в луже, обхватив себя руками, вся задница мокрая и, если я не ошибаюсь, по щекам опять текут слезы.
Руби. Руби, если бы я нашел тебя. Успокоится ли тогда моя душа? Моя жена воспрянет. Мы наконец вздохнем спокойно. Я больше никогда не пойду бродить вечерами.
Вдруг среди мусорных баков поодаль от дома раздается грохот, и я вижу господина Уссурийского Енота, у которого из пасти свешиваются какие-то ошметки. Я смотрю на него, и он смотрит в ответ, как всегда невозмутимо, будто говорит: «Хочешь? Могу поделиться. Мы похожи, ты и я. Томимся и блуждаем, копаемся в отбросах, как и все остальные». Это улыбка? Животное мне улыбается?
Поделиться.
Они делят ее. Мои коллеги. Мою драгоценную проститутку. Решусь ли я снова заглянуть в окно?
Животное благополучно семенит прочь. Я ему не нужен. Ему. Определенно это он. На лбу написано. Такой же тоскующий, блуждающий взгляд, как у меня. Томимся и блуждаем.
А кому? Кому я нужен? Если я исчезну прямо сейчас, если дождь размоет меня, превратит в лужу на стылой мокрой земле, кому до этого будет дело? Кто прикатит тачку?
Я еще раз смотрю в окно, и вот тогда, тогда, когда думаешь, что видел все, когда думаешь, что ничего нового уже не будет (волки, волны, смерть, разрушение, сострадательные звери), когда думаешь, что в этом гнусном мире ничто больше тебя не удивит (бестактные восьмидесятилетние директора с мечами, воображаемые подводные миры, пьянчуги, которых отвозят домой на тачках), перед тобой является такое!
Марина встает на кровати, встает над двумя мужчинами, полностью обнаженная – роскошные белые груди, поджарое атлетичное тело… А когда я смотрю на нее снова (вытаращив глаза, разинув рот), сквозь пелену слез вижу… пенис… Напряженный и крепкий… Выступающий из ее женского тела, и…
И…
И эти двое тянутся к нему, ласкают его, один берет в рот, другой поглаживает яйца. Это не искусственный… инструмент. Не пластиковая пристегивающаяся штуковина, не игрушка, нет. Он настоящий, самый что ни на есть настоящий.
Я отворачиваюсь и блюю. Нагнувшись вперед, изблевываю все содержимое моего прогнившего нутра на мокрую землю. Наружу выходит обед, приготовленный Марисой, но также все мои любови, все мои желания, горести, страхи и убеждения. (Я сожалею о своей жизни. Я сожалею о вашей жизни. Сожалею обо всех жизнях на планете. Сожалею, что Руби больше никогда не придет домой. Что случилось с Руби в тот день? Я сожалею о нездоровом воздухе, который мы втягиваем в себя, и о еще более нездоровом дыхании, которое мы выпускаем из себя обратно в мир. Сожалею о множестве людей, которые умерли, и о множестве людей, которые вынуждены жить дальше. Сожалею, что мне постоянно приходится бороться, что жизнь каждого человека – сплошная борьба, сожалею о том, что происходит, и о том, чего не происходит. Сожалею почти обо всем и хотел бы, чтобы моя жизнь сложилась иначе. Любым из миллиона других способов.) Да, теперь все мои убеждения в этой желтой с белесыми вкраплениями лужице, и моя глупость тоже, разумеется, и моя наивность. Как я мог, как мог, в самом деле, не видеть? Из-за неиссякаемых слез, из-за романтического дурмана? Зачем нужны глаза? Зачем нужны глаза? Матушка, скажи мне, пожалуйста, зачем нужны глаза?
И тут я слышу смех, доносящийся из комнаты. Хриплый, развязный смех. Знаю, с некоторых пор мой слух испортился… но этот смех он еще способен различить. Как будто они знают, что я снаружи, что рушится очередной из моих миров.
Сплошное глумление.
А еще, я только что осознал, что не знаю, чем занимаются эти двое, боковые арбитры – в смысле, какая у них работа. Мне известно только, что они машут флажками, шнуруют бутсы, приходят поиздеваться надо мной, когда я вытираю с машины пятна от брошенных в нее яиц, а теперь еще вот это. Почему я ни разу не удосужился у них спросить, не удосужился выяснить? Может, мне просто нет дела. Правда? Неужели мне просто нет дела?
Солипсизм. Философская позиция, которую мой отец, пожалуй…
Но почему мне должно быть дело? До чего-либо. До Марины. Какая разница, кто она на самом деле, эта шлюха, которую я люблю, эта шлюха, которую я люблю и ни разу не осязал? Неужели она – это он! (Мы думали, все «трансухи» разъехались по своим циркам. Филиппинцы? Тайцы? Они, эти так называемые комики в роскошных нарядах, сыпавшие дурацкими остротами, годами маячили на наших экранах, а изнывавший от скуки народ, как обычно, поддавался любым новомодным течениям, даже самым дурацким. Помню, как еще подростком смеялся над ними, ощущая смутное любопытство – столь диковинно они выглядели во всех этих боа и браслетах. А потом начались землетрясения, телестанции разрушились, наше самодовольное спокойствие тоже, и трансухи убрались восвояси, мотая хвостиками между ног.) Но что это меняет? Мне только хотелось слышать, как она говорит на своем иностранном языке, слышать эти бессмысленные звуки и пытаться их упорядочить… Я женатый человек, семейный человек, и моя жена… Асами – так зовут мою жену, и…
Дверь открывается, выходит Марина в ядовито-розовом халатике, закуривает сигарету. Удивительно, что еще производят одежду подобных расцветок. Кому она нужна? Возможно, шлюхе. Шлюхе с членом. Она видит мое плачевное состояние: я скорчился на земле, под дождем, ничего на свете не понимаю, вся рубашка спереди заляпана грязью. На лице Марины ни тени удивления.
– Так и думала, что вы придете посмотреть. Самое время.
– Не стоило мне сюда приходить.
– Однако вы здесь, господин Бродяжка. Заходите, развлечемся. Первый раз бесплатно, сами знаете.
– Я ищу дочь.
– Здесь вы ее не найдете.
– Да, но я должен… я вынужден…
– Знаю, всегда немного шокирует, когда застаешь своих сослуживцев за подобным, но они просто мужчины, которые хотят развлечься. Ничего плохого в этом нет. Они никому вреда не причиняют. И, знаете ли, платят хорошо. Правда, они неженатые, в отличие от вас. Наверное, и ответственности никакой не чувствуют. Ваши друзья.
– Они мне не друзья.
– Сами решайте, господин Бродяжка. Я просто протягиваю вам руку. Не хочу причинить вам вреда. Вы мне нравитесь. Мне нравится, как вы приходите поболтать со мной, как вы бродите вечерами. Вы привлекательный мужчина. Я не против познакомиться поближе.
«Ты еще привлекательный мужчина. У всех есть маленькие секреты… всем есть что скрывать».
Я не привлекательный мужчина. Я не намерен ни с кем знакомиться поближе. Ни с кем.
Она достает из-за двери зонтик и раскрывает над головой. В этом прорехи нет. Защитная оболочка. И конец, кажется, не заостренный, на оружие не похож.
– Новый зонтик?
– Да, нам нужны хорошие зонты. По прогнозам, дождей будет еще больше. Уличные женщины всегда сверяются с прогнозом погоды. У меня есть еще зонт, который я беру, когда предчувствую опасность. Знаете?
Не знаю.
Она называет себя уличной женщиной. Сколько всяких определений для того, чем она занимается. Но чем она является по сути? Вот что меня гнетет. Я уже не уверен, чем она является по сути. Я так многого не понимаю.
Она улыбается мне, у нее ангельское лицо, возможно ли, чтобы…
– Никогда не задумывался о погоде, – бормочу я, пытаясь выбраться из мысленного тупика.
– Похоже, вы о многом никогда не задумывались.
На ее обращенном ко мне лице смесь жалости и ехидства. Потом она властно вскидывает голову, приказывая мне подняться. Ее тело отныне мне безразлично, однако я чувствую, что могу ввериться ее повелениям. Я мог бы жениться на ком-нибудь подобном. Она не свалится горестной грудой. Она выходит на улицу промозглыми, дождливыми вечерами, пытаясь насосать себе деньжат; у меня есть вполне приличный, пока еще целый (хотя и мрачноватый) дом, жена и постоянная работа. И все-таки она жалеет меня. Ее тело уже прикрыто. Она вся тщательно прикрыта, с виду такая милая, что хочется обнять (если бы только изгнать из памяти ее придаток). За это я и благодарен.
Марина затягивается сигаретой.
– Хотите разок? В смысле, затянуться.
– Нет. Я не курю.
– Ну разумеется. Вам еще предстоит бегать туда-сюда по футбольному полю. Нужны сильные легкие.
Изнутри доносится довольный вздох. Смех умолк, теперь только вздохи и стоны.
– Судя по звукам, эти парни приятно проводят время. Стоит и вам как-нибудь попробовать. В смысле, приятно провести время.
Однажды мой литературно образованный отец рассказал мне о книге, которую тогда читал[19]19
Кратко излагается сюжет романа Джона Апдайка «Кролик, беги».
[Закрыть]. Он вообще любил рассказывать о книгах, любил пускаться в подробности, но благодарных слушателей обычно не находил – кажется, его это не особо волновало, возможно, впрочем, все мы разглагольствуем лишь сами для себя. Книга была про парня, который однажды просто взял и сорвался с места, бросил жену и семью, сел в машину и укатил, сам не зная куда или только смутно представляя себе направление. Отец сказал, что звали этого человека Кролик, и моим молодым (и не слишком внимательным) ушам такое имя героя показалось довольно странным. Отец сказал, что все люди хотят сбежать. Такова их природа: стремиться прочь от рутины повседневного существования. В глубине души каждый человек чувствует, будто может начать все заново где-нибудь в другом месте, зажить по-настоящему. Будто в следующий раз все станет по-другому, гораздо лучше. Той книге, наверное, уже сто лет. Прочту ли я ее когда-нибудь? Нет. Это все в прошлом. Книги мне ни к чему. От книг никакого проку. Ни мне, ни другим. Все, что нам нужно – это корабль, который удержится на плаву, когда какой-нибудь Ной возьмет нас на борт и увезет подальше, в безопасное место. Может, его-то я и разыскиваю: Ноя, а не Руби. Но я делаю то, о чем говорилось в книге, внезапно становлюсь вот этим самым Кроликом, сурово и спокойно смотрю в глаза Марине, а потом пускаюсь бежать вниз по дороге, прочь отсюда. Бегу до самого дома, мокрый от пота и дождя; вымок насквозь, продрог. Открываю дверь и падаю в прихожей, тяжело дыша, стены ходят ходуном вокруг меня.
Ходят. Ходуном. Все ходит ходуном. Вокруг меня. Как будто я сижу верхом на детском новогоднем волчке, который дергают за ниточку и раскручивают до предельной скорости. Мне надо успокоиться, медленно выдохнуть, чтобы осознать, где я – кружащаяся голова на кружащейся планете. Неужели таков удел каждого человека? Не только мой… неужели?
Я не знаю правил этого мира. Я совсем мало знаю об играх, в которые играют люди. Я не должен высказывать мнения о голах, которые они забивают. Я вообще не должен высказывать своего мнения. Не должен реагировать. Только когда правила нарушаются. А такое здесь бывает? Правила нарушаются? Насилие? Произвол? Где Руби? Не таков должен быть миропорядок. Дети не должны уходить раньше времени, раньше своих родителей. Это неправильно. Залезаю в нагрудный карман – там пусто, где мои карточки? Зачем эти женщины с похожими именами? Зачем все это? Чтобы запутать меня? Почему они все сливаются в одно? Почему? Почему я так несправедлив к ним? Почему фантазии все разрастаются и разрастаются, а я оторван от реальности?
Тот пенис, он был настоящий, да? Где же Ной?
Пошатываясь, я встаю на ноги. Словно новорожденное животное – скажем, жираф, весь качаюсь и выгибаюсь, изо всех сил пытаюсь выпрямиться. Смотрю на свое лицо в зеркале. Вот он я. Отражение. Значит, не вампир. Еще живой. Но еле-еле. В этом неясном образе еле-еле различаю себя. Свет по-прежнему выключен, так что мое лицо выглядит расплывчатым, призрачным, однако я там, то есть тут, просто с трудом себя узнаю. Чем я стал?
Я не знаю правил этого мира. Я знаю только правила игры в футбол. Я знаю, что происходит на поле. В короткий отрезок времени. Это все, на что я годен. Все остальное вокруг меня – хаос. Все остальное… мое отвращение ко всему сущему.
Теперь медленно вверх, вверх по деревянной лестнице, напрягая ум, чтобы не сбиться с пути, чтобы голова не закружилась, чтобы не заблудиться, мимо висящих на стенах портретов семьи из трех человек: Томбо, Асами и Руби. Это мы. Заворачиваю в спальню и вижу в кровати фигуру, повернутую спиной, бугор под одеялом. Громоздится грудой. Не вижу ее лица. Живая груда. Сонная груда. Горестная груда. Груда мяса. Груда.
Начинаю раздеваться, аккуратно развешиваю одежду в платяном шкафу. Потом облачаюсь в свою бежевую пижаму, застегиваюсь на все пуговицы, прямо как солдат перед сражением, а не мирный человек, отходящий на покой. Но я не солдат, не Фудзибаяси, и хотя мог бы маршировать в строю и даже вставать на учения рано утром, я никогда не скрючивался в окопах, никогда не облетал чужие поля на ревущем вертолете, никогда не держал оружия. Я только свищу в свисток. Могу ли я убивать? Смогу ли я – на войне, когда придется, когда припрет, – смогу ли спустить курок? Что, если…
На часах без одной минуты десять. Моя жена тяжело дышит. Ее зовут Асами. Меня зовут…
Ну и денек. Впрочем, как и любой другой.
Я знаю, что завтрашнее пробуждение причинит боль. Пробуждение причинит боль. Пробуждение. Причинит. Боль. Когда я открою глаза. Или еще раньше. Когда я только проснусь и тысяча мыслей нахлынут… Пробуждение причиняет боль. Отсутствие Руби причиняет боль. Груда возле меня причиняет боль. Воздух, сквозь ноздри попадающий в легкие, кислород, поступающий в мозг, причиняют боль; дышать, дышать мучительно, ибо пробуждение причиняет боль. Вечная безутешность причиняет боль. Планы и расписания причиняют боль. Планерки. Совещания. Календари и ручки. Каждый день причиняет боль. Без Руби. Отсутствие прикосновений причиняет боль. Красота передо мной, внутри и вокруг меня, красота, к которой нельзя прикоснуться, причиняет боль, словно любимые моей матерью отгороженные веревками картины в галереях; когда прикасаться нельзя, а можно только смотреть – это причиняет боль. Когда ко мне последний раз прикасались? Жалкий зверек у меня в трусах. Созерцание причиняет боль. Можно только смотреть. Не прикасаться. За ограждения не заходить. Бытие причиняет боль. Пробуждение причиняет боль. Пробуждение, за которым последует все это, причиняет боль.
Что же мне делать? Вставать. Вставать и продолжать сызнова, когда наступит час. С самого утра. Вот что все они советуют. Вот что делают большинство людей. Несмотря на катастрофы. Несмотря на цунами. Несмотря на громы и богов, гневно грозящих кулаками. Каких богов? Но все так поступают. И так должен поступать я. Должен. Начинать сызнова. Пусть кислород проникнет внутрь, пусть возбудятся синапсы – и за дело, за дело. Встать завтра утром. Пробуждение всем причиняет боль. Почему у меня должно быть иначе? Пробудиться рядом с горестной грудой, пробудиться без Руби, встать и идти, делать и двигаться, встать и идти, и делать, весь день напролет…
Пройдет какое-то время, и морское дно снова содрогнется, волны снова ринутся на землю, а люди, в виде крохотных частиц жалкого дерьма, снова вернутся домой. Я устал. Устал от этих мыслей.
Быть бы и мне такой же грудой. Почему нет? Почему мне приходится вставать по утрам? Почему я не сломался?
Я поворачиваюсь к своей жене и целую в голову.
– Спокойной ночи, милая.
В комнате ни звука, только часовая стрелка передвинулась на десять. Мои выпученные глаза еще несколько мгновений остаются открытыми, я таращусь в потолок. Потом и они закрываются.