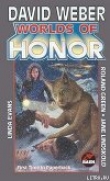Текст книги "Черная сакура"
Автор книги: Колин О'Салливан
сообщить о нарушении
Текущая страница: 11 (всего у книги 15 страниц)
5
Мне стоило бы догадаться: Монстра у моей машины. Опять рвет и мечет. Правильнее всего было бы убраться отсюда поскорее; надо попытаться бежать и спастись. Но в каком направлении повернуть? И зачем? Вряд ли я сумею от него улизнуть. Конечно, он не первой молодости и, наверное, не так уж крепок физически, но у него есть приспешники, которые выполнят любые его повеления: его мордовороты в два счета свернут мне шею своими мясистыми ручищами. Или яйцеметатели. Их я тоже вижу, ошиваются на другом конце парковки, хотят снова заляпать мою машину липкой жижей. У меня нет шансов.
– Я думал, мы договорились, господин арбитр. Мне казалось, мы пришли к некоему взаимопониманию.
«У игры есть правила. Моя работа – поступать по справедливости. Принимать справедливые решения, и ничего больше». Вот что я хочу сказать, но вместо этого трясусь и заикаюсь.
– Я… я…
Я хочу рассказать ему о жизненной боли, о поэтических мгновениях, о моих родителях, моей пропавшей дочери, моих любовях и потерях, о Майиной заднице и о том, какую боль причиняет пробуждение. Но какой в этом смысл? Что от этого изменится? Все это выйдет наружу бессмысленной отрыжкой. Ибо именно так работает мой разум. Работает, работает, а излишки выпускает из себя, будто газы. Лучше всего, если он достанет пушку и прикончит меня прямо сейчас. Есть ли у Монстры пушка? Насколько он закоренелый преступник? Я скоро узнаю.
Один заламывает мне руки за спину, а другой тем временем лупит в живот. Ветер полностью выходит из моих парусов, и я оседаю, колени подгибаются – иногда во время игры мяч случайно прилетает мне в живот или, того хуже, находит путь к моим причиндалам – увлекательное зрелище для взбудораженной толпы, унизительный и болезненный опыт, – но этот удар сильнее в два или три раза, совсем не случаен, точно направлен и мучителен. Следующий удар приходится мне по носу, и на лобовое стекло брызжет кровь. Сегодня никакого яичного белка, только красная-красная кровь.
– Вы обошлись мне слишком дорого.
Меня запихивают в фургон и увозят. Я даже не видел, как он подъехал, но внезапно оказываюсь внутри, и избиение продолжается. В голове у меня сплошной шум, громовой шум, кровь бурлит потоком, словно Ниагарский водопад. Они связывают меня, скручивают руки за спиной, и в кожу мне врезается не то веревка, не то проволока.
– Слишком дорого.
Кажется, фургон движется довольно быстро. Окон нет, так что проверить мне не удастся, да я вообще не мог бы выглянуть наружу – глаза не открываются, то ли из-за синяков, то ли от страха. Вероятно, я вообще больше ничего не увижу; я просто хочу, чтобы на этом все закончилось. Можно? Пожалуйста, пожалуйста! Возможно ли это? Последний свисток. Удар. Удар. Еще удар, пожалуйста. Они пошли на такие хлопоты, вся эта их организация… похоже, намерения у них серьезные. Уверен, меня станут пытать, сейчас они только разогреваются; вероятно, они даже решили меня убить. Пожалуйста, пожалуйста. И побыстрее.
Я принимаю свой жребий. Не спорю с судьбой. Не прошу о милости. Все это будет во благо.
В моей памяти проплывают лица, передо мной, словно в альбоме, по очереди возникают все, кого я любил: Руби, Асами, мать, отец, Мариса, шлюха Марина, моя коллега Майя. Мужчина только один. Это печально, но не слишком меня удивляет. Где же мои приятели детства? Почему я не могу представить, как кто-то помогает мне собирать карточки с мультяшными героями, лягушачью икру, неприличные комиксы, воспоминания? Почему…
Приехали. Меня выволакивают наружу. Снова лупят и пинают. Все тело болит. Кровь капает из носа. Горячая кровь. Движение причиняет боль, жизнь причиняет боль. Очнись.
Я еще надеюсь, что они быстро осуществят задуманное, перейдут к самой сути – давай, Монстра, делай свое черное дело… Знаю, я начинаю бредить, наверное, это и называется «шок», врачи из дневных сериалов быстро его диагностируют. Вероятнее всего. Шок. Но почем мне знать? Или я просто оттягиваю свою гибель? В мозгу у меня кружится изумительной красоты цветной вихрь, в основном багрец и оттенки лилового, как бы предвестие синяков, которые уже образуются на моей плоти. Эта временная слепота работает еще и как буфер, защищает меня от боли, с которой мое тело не умеет справляться… Да, наверное, это шок.
Лица по-прежнему скользят у меня перед глазами: Асами, моя прелестная жена, почему ты не поднимешься? Почему не возьмешь мою руку, которую я протягиваю тебе изо дня в день?
Меня усадили на стул. Ни одной мелочи не упустили.
Сами встали вокруг и рявкают, дико и бессмысленно – точно волки, что рыщут ночами по окрестностям, вынюхивая живое мясо, голодные, злобные, жаждущие крови, они издают такие же звуки, рявкающие и жуткие, и еще леденящий душу утробный вой. Кровь приливает к ушам, и слова трудно разобрать: на каком языке они говорят? Это сбивает меня еще больше; я хочу всеобщего порядка, хочу, чтобы моя жизнь…
Багрец. Оттенки лилового. Пульс. Воспоминания о прошлом в линялом альбоме. Лягушачья икра? Какого она цвета? Прозрачная, да?
Наконец остается один Монстра. Надо мной раздается его громкий голос. Я открываю глаза, чтобы его увидеть. Я могу видеть. Я способен видеть. Его ухмылка. Его прищур. Я могу слышать. Надо только сосредоточиться. Сконцентрироваться. Сказать им то, чего они хотят. Тогда они, возможно, позволят мне вернуться. Но я не хочу возвращаться. К чему мне возвращаться? Лучше погибнуть. Лучше уйти прямо сейчас, быстрее, быстрее, прочь отсюда. Эти мысли не мрачные, не тяжелые. Напротив, желание умереть – светлое и легкое. Мысли о смерти не нагоняют мрака, смерть озарена сиянием, светлым и теплым, легким и воздушным. Я вообще слушаю? Что он мне говорит?
– Слишком дорого.
Я так понимаю, для него это главное, и, видимо, извиняться бесполезно. Он спрашивает, почему я ему не подыграл, почему не уступил, почему оказался таким несговорчивым. Я снова хочу объяснить, что у игры есть правила. Моя работа – поступать по справедливости. Мой долг – быть справедливым. И ничего больше. Но у меня нет сил. В мозгу опять воцаряются красный и желтый цвета. Это успокаивает.
Его мордовороты подходят ближе, как будто ожидая, что в любую минуту произойдет что-то важное (я могу внезапно воспламениться, могу умереть прямо под их кулаками!), и это заставляет их участить удары.
Однако вмешивается Монстра. Он вздыхает, глубоко вздыхает – и я могу собраться с силами, я почти растроган. Он недоумевает, неужели я оказался таким твердолобым, чтобы пренебрегать его волей, пренебрегать его мощью. Откуда у меня взялось мужество? Неужели я оказался таким безмозглым? Но… разве он не знает, что я уже мертв? Уже далеко отсюда. Что все последние годы лишь мое тело совершало движения, а душа давным-давно отлетела? Разве он не знает, что я сожалею о своей жизни? Сожалею о вашей жизни. Сожалею обо всех наших жизнях…
Он садится на стул напротив меня – откуда здесь эти стулья? Где мы? На каком-то складе, похожем на пещеру. Вот вывески, большие магазинные вывески, на которых изображены яблоки, наливные, спелые яблоки. Тут до меня доходит, что мы в соседнем селении, совсем недалеко от моего дома, раньше это место и впрямь славилось яблоками, которые здесь выращивали, очень вкусными; но все яблони или вырвало с корнем во время землетрясения, или смыло во время наводнения, или еще как-нибудь уничтожило во время какого-нибудь другого бедствия – выбирайте, что больше нравится. Наверное, этот склад давно заброшен. Только у Монстры и его карикатурных горилл хватило воображения использовать его под камеру пыток, будто в кино. Я все еще надеюсь, что он достанет нож, перережет мне горло и положит всему конец. Не думаю, что в понедельник утром я смогу явиться на работу в таком виде. Прежде всего, директор очень обеспокоится, когда вызовет меня к себе в кабинет для краткой беседы. Думаю, я бы предпочел меч. Я уже мертв. Давным-давно. Несмотря на жуткую боль, я нахожу происходящее весьма забавным – наверное, начинается бред, омерзительные игры рассудка, будто с нас еще не хватило борьбы.
Монстра выглядит усталым. Может быть, видит безнадежность в моих глазах. Может быть, и сам утратил надежду. Может, его семья унесена волнами или досталась в добычу волкам, или провалилась в какую-нибудь дыру, или утонула в потоке грязи. Такое могло случиться. Случиться могло все что угодно. Может быть, подростком он перенес насилие – заманили в рощу на окраине селения, раздели и отдали на поживу вампирам. Почему нет? Случиться могло все что угодно. Чем вас удивить под конец игры?
– Вы никогда об этом не проболтаетесь. Никогда не расскажете, что с вами случилось. Никто не узнает. И вы никогда больше не будете судействовать. Найдем кого-нибудь другого.
Я хочу сказать ему, что никогда не стремился этим заниматься, что меня просто уломали один раз, а потом пошло-поехало. Просто у меня оказалась лицензия арбитра, которую я получил, когда учился на преподавателя физкультуры, и если мне больше не придется свистеть в свисток, я только порадуюсь. Или если мне больше не придется дышать, тоже будет неплохо. Руби сгинула. Моя жена в каком-то смысле тоже. Я хочу женщин, которые не хотят меня, шлюх и… И я в ловушке, и…
Но задор покинул его, как и меня. Он просто сделал ставку не на того человека. Может, подумал, что мои приспешники, Хиде и Такэси, втянули меня в свою гнусную клику и…
Это не потому, что я нравственнее и все такое, я просто хочу немного порядка; если в футболе есть правила, эти правила надо соблюдать; никаких нравственных высот, игра должна проходить как положено. Вот и все. Вот все, чего я хотел, чтобы от меня требовали. Честная игра.
Мой отец сумел бы написать целый трактат о честности. Вероятно, он постиг такие философские понятия, как нравственность, справедливость, честность, но моей сильной стороной это никогда не было, я ничтожество, полное ничтожество, просто человек, который сидит на кухне и…
Непохоже, что он приставит мне нож к горлу. Кажется, и пушки у него нету. Видимо, меня просто вышвырнут. У него даже нет сил прикончить меня. Не знаю, что я испытываю: облегчение или разочарование.
– Слишком дорого.
Он вздыхает – тяжело, как и я. А потом встает со стула и отряхивается. Подает знак своим людям, и они оттаскивают меня обратно в фургон. Может, это акт милосердия. Не знаю.
Несколько минут мы едем, а потом в фургоне что-то лязгает, раздается крик «здесь!», мои путы спадают, дверь открывается, и меня на ходу выталкивают из машины. Я падаю, качусь кувырком, корчусь от боли, а когда открываю глаза, вокруг ночь, непроглядная тьма, и я снова один.
Когда-то у меня были друзья мужского пола. Почему я думаю о них сейчас? Один. Здесь. Почему нет? Момент не хуже любого другого. Лягушачьей икры не было. А мальчишки, мальчишки моего возраста были; разумеется, мы играли в спортивные игры, в видеоигры, лазали по деревьям в лесу на окраине селения, качались на канатах. Тогда там росли леса? Почему сейчас эти леса представляются мне реденькими, со скелетоподобными деревьями, вроде тех костлявых недокормленных девчонок, которым велят раздеться, а они стыдятся своей убогой наготы?
Макио Нисимото.
Хитоси Идзуми.
Масанобу Наката.
Куда они подевались? В селении их больше нет. Возможно, поступили умно и переехали? Убрались отсюда? Или их смыло волнами? Вероятных сценария только два?
Я лежу и смотрю на звезды. Их немного. Я могу сосчитать. Тусклые и мелкие, они все-таки источают свет.
Я чувствую боль. Душевную боль. Я на дороге.
Я один.
6
Нет, не один.
Волчица с детенышами.
Я взаправду это вижу? Или выдумываю?
Она метрах в двадцати от меня, глубоко в кустах, окруженная плотными зарослями и…
Но я перехватываю ее взгляд, а она перехватывает мой, мы смотрим друг на друга; ее глаза сверкают зеленым; мне приходится вглядываться, чтобы рассмотреть ее. Вероятно, мои глаза привыкают к мраку, но ее облик становится различимее – ее и трех маленьких волчат, которые тычутся ей в морду, требуя отрыгнуть еще пищи, чтобы наполнить их брюшки – вечно голодные, вечно алчущие, вечно ищущие корма, дышащие.
Она знает, что я здесь. Не только видит, но и чует: мой пот, кровь, что вспузырилась на поверхности и теперь запекается в уголке глаза. Она знает, что я не опасен, только покой нарушаю, я не копытное животное, за которым охотно погонялась бы ее стая – а где, кстати, ее стая? Охотится где-нибудь: преодолев изгородь, кидается на овечье стадо? Они и меня могли бы растерзать, разумеется, – неважно, копытный я или нет, – они бы приспособились, мы все приспосабливаемся – к новым обстоятельствам, к новым временам. Волчица глухо рычит, и по этому гортанному рокоту я понимаю, что расстояние до нее – чуть больше десяти метров; еще шаг, и ее детеныши окажутся под угрозой, еще шаг, и ей придется защищаться или нападать, чем бы это ни обернулось. Но я не намерен приближаться, с меня довольно смотреть на волчицу издали: драгоценное потомство прижимается к ней, чувствуя себя в безопасности, зная, что мать сделает все, чтобы они остались в живых.
Волки, что спускаются с возвышенностей, пытаясь хоть как-нибудь выжить в нынешнюю беспокойную пору, кормятся старыми, больными, немощными людьми и животными; повсюду запах гниющего мяса; на что еще годятся тела, оставшиеся после наводнения? Новые времена, новые ситуации. Волки всегда найдут и новую добычу. Полуночные завывания на луну: Canis lupus hattai – где, где ты пробыл так долго?
Помню, в детстве отец читал мне старинные народные сказки, в которых действовали лесные звери, и с каждым происходили забавные случаи; были там хитрые лисы, коварные змеи, всякая прочая живность, но только волки меня пугали – своим количеством, своим единством, тем, как они наступают со всех сторон и набрасываются, не оставляя жертве ни единого шанса.
В тех историях хлебопашцы поклонялись волкам, почти что обожествляли их, выставляли перед своими жилищами блюда с лучшей едой для них, задабривали их, умоляли сохранить в целости грядущий урожай и отваживать оленей и диких кабанов, приходивших попастись. Отец смаковал подробности, объяснял, зачем этим зверям сорок два зуба: некоторые плоские, чтобы разгрызать кости, некоторые острые, чтобы раздирать кожу и плоть. Когда я отправлялся в постель, эти образы были еще свежи в моей смятенной памяти – исходящие слюной злобные стаи вторгались в мои сновидения, – и такое иногда повторяется до сих пор; если вокруг тебя чего-то много, оно просачивается, просачивается повсюду: волки, волны, женщины – и горе, горе об утрате, горе и страх. Но зачем было забивать юную мальчишескую голову такими образами?
Сновидения причиняют такую же боль, как и пробуждение. Сновидения – это…
Я покидаю ее. Она не дантовская волчица, она животное, которое пытается выжить и сберечь свое потомство, и потому заслуживает одобрения. Я должен был так же защищать свое потомство. Свою единственную девочку. Как я мог потерять мою единственную девочку, как могла моя рука разжаться и выпустить ее…
Я уношу свое избитое, окровавленное лицо, свои саднящие конечности прочь от этой безмятежной сцены, волокусь к себе в логово.
Как знать, что ждет меня там? Кого я найду? Что дальше?
Вы давным-давно любезно выслушиваете меня, и, к сожалению, до сих пор не увидели никого, похожего на героя.
Дорога длинная, и мои усталые ноги с трудом ковыляют по ней. Я, конечно, крепкий, сильный мужчина, но на сегодня с меня хватит, вполне хватит. Наверное, инстинкт ведет меня, как и любого зверя, в правильном направлении, обратно в селение, к дому. Мне не нужно спутников, не нужно компьютерного навигатора, не нужно даже звезд, я просто бреду своей дорогой, плыву, словно видение, колыхаюсь, подобно туману.
И вот наконец дом – готически мрачный, неизменно тоскливый. Все вокруг него разрушилось и попадало в бурливое море. Я всхожу по склону и смотрю на дом, размышляя, сумеет ли он когда-нибудь сберечь хоть немного тепла и неужели на это способны только дома, где есть дети; кто решится провести ночь внутри?
Мариса выглядывает из окна второго этажа, наблюдает, как я тащусь по дорожке и почти что вваливаюсь в двери. В общем-то, когда дверь открывается, я действительно валюсь прямо Марисе в руки, будто так и было задумано. Наверное, я тяжелый. В придачу к тяготам ее собственной жизни ей приходится возиться с моей, и это, наверное, тяжело. Почему она не моя жена? Я вдыхаю ее запах, в котором ароматы кухонных приправ смешиваются с нежными духами. Почему моя жена не подхватывает меня за порогом? Моя жена пахнет лишь тлением.
Почему Мариса не моя жена? Серьезно, почему?
Ее лицо искажено ужасом, она ничего подобного не ожидала. Не ожидала, что я вернусь в таком состоянии.
– Что стряслось?
Ее пронзительный голос буравит мне уши. Уши болят, болят.
– Суровая выдалась игра, – говорю я, пытаясь легче воспринимать произошедшее, пытаясь легче воспринимать собственную жизнь. Я пытаюсь выдавить из себя улыбку, но это слишком мучительно.
Я валяюсь на том же самом коврике, на котором лежал… сколько часов назад? Помните? Мы вместе лежали на этом ярко-синем коврике для упражнений, на этом непотребном мультяшно-синем коврике: я качал пресс, а она навалилась на меня. А теперь поглядите на нас. Она склонилась надо мной, и любой проблеск желания, которое могло в ней возникнуть, пересилила жалость. Жалость и участие. Я глотаю воздух, точно рыба на грязном берегу, с трудом втягиваю его в легкие, но мое сердце наконец перестало бешено колотиться, мои ноги с блаженным облегчением вытянулись, им больше не нужно шагать по тропинкам, тащиться по дорогам.
У моей матери были изображения и фотографии различных версий «Пьеты», очевидно, работы Микеланджело, а также «Матери и сына» Джозефа Уайтхеда, и как раз эта скульптура мне сейчас вспомнилась: хотя я лежу не на коленях у Марисы, но представляю себя именно так; в композиции главенствует ее материнская заботливость, а мой жалкий вид пробуждает одну лишь печаль.
Внезапно Мариса срывается с места и спешит обратно к насущным делам. Уносится взволнованным вихрем. Возвращается с мягкой ветошью и маленьким тазиком, но особенно желанным и приятным оказывается запах дезинфицирующего средства, этого целительного бальзама, несущего успокоение, исполненного воспоминаний о детстве. Мариса намачивает ветошь и осторожно протирает мое плаксивое лицо, мои ссадины, а я радостно все это принимаю, размякаю, погружаюсь в безмятежность. Теперь я понимаю: это самая большая близость, которая возможна между нами, и я благодарен Марисе, рад, что она существует, что она мне родня.
Она что-то шепчет мне, совсем как ребенку, и я задумываюсь – над сестрой своей она так же шепчет и воркует? Какой чудесной матерью она могла бы стать. И еще может. Сколько ей лет? Надеюсь, еще не слишком поздно. Да? В этот миг я также припоминаю все свои нелепые эротические стремления, не только к ней, но и ко всем прочим женщинам, которых я запятнал своим повествованием. Но совершенно ясно: самое нужное для такого ничтожного человека – это чтобы кто-нибудь обрабатывал его раны. Или было бы лучше, если б мы, словно звери пустыни, сами себе их зализывали? Мариса, несмотря на свою мясистость, по-беличьи суетясь, хлопочет вокруг меня. Мне хорошо, я мог бы пролежать так вечность; да и в мире, наверное, есть много чего хорошего, и грустно смотреть, сколько всего напрочь смывает волнами.
Мариса смывает мою боль, мыло лезет мне в нос, мое дыхание становится спокойным, и воздух проходит уже без труда; ее улыбка – бальзам на душу.
– Те девчонки, – говорю я. – Что с ними?
– Мне удалось их прогнать. Незачем им тебя тревожить, по крайней мере сегодня.
– Но ведь они еще объявятся, разве нет?
Не знаю, зачем я задаю этот вопрос. Возможно, сам с собой советуюсь.
– Да, думаю, они еще придут. Надо прикрыть эту лавочку. Много чего надо подлатать. Залечить раны.
Она снова протирает мои телесные раны, а ее голос исцеляет раны душевные. Я слышу свист, слышу крики футбольных болельщиков, слышу волчий вой – голодные детеныши хотят еще, – слышу, как наверху моя жена ворочается в кровати; показать ей мои раны? Рассказать ей, что со мной произошло? Вызвать у нее жалость? Вызвать у нее слезы? Или хватит с нее слез? Мне хочется думать, что в обозримом будущем эта страна просохнет. Больше не нахлынут волны, больше не польются потоки грязи, не будет больше снега и наводнений, прекратятся слезы. По крайней мере, на какое-то время прекратятся. Это самое большее, что я могу ей дать. Нет, я не покажу ей своего лица, сплошь в синяках и грязи. Своего черного сердца.
Минуту или две я с удовольствием прислушиваюсь к заботливым прикосновениям мягкой ветоши к моей зудящей, уже начинающей подживать коже.
Мариса поднимается, чтобы вылить воду из тазика и наполнить его снова, и я не чувствую потребности смотреть на ее бедра, пожирать глазами ее груди – мне довольно ее улыбки, – и я осознаю (жалкий образец мужества, до которого я дорос), что большинство моих увлечений были ошибочны, что я морально… оступился, я скучаю по своей матери и, да, не должен бросать свою жену. Возможно, еще настанет время, когда из всего этого убожества явится герой, и возможно, это буду я.