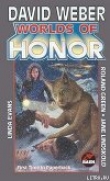Текст книги "Черная сакура"
Автор книги: Колин О'Салливан
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 15 страниц)
8
Голос катастрофы-1
Гора не умеет говорить, но обладай она даром речи, что бы она сказала? Может, сказала бы:
«Я стою здесь давным-давно, а вы не можете сдвинуть меня, нет, не можете сдвинуть меня».
Будь у горы язык, она бы, наверное, принялась дразниться.
«Стоит мне пожелать, и я принесу разрушения: глубоко в моем чреве огонь, клокочущая злоба, которую я могу возгнать и исторгнуть наружу. Это я говорю, ибо я гора, я предсказываю катастрофу. Я и мои друзья, мои друзья-горы, мы – хребет этой земли, и мы в сговоре. Когда под нами движутся плиты, они подвигают и нас, и мы не можем устоять на месте. После одуряющей дремоты, после многолетней спячки, когда мы думали только об успокоительном дуновении нежных ветерков, мы оживаем вновь и выпускаем шлейф пепла, и небеса темнеют над вашими головами. Ведь вы всего лишь люди и не значите ничего, вы лишены настоящего долголетия, ваше время почти истекло, ваша эпоха скоро сгинет в бездне забвения, а мы еще будем здесь, мои друзья и я, хребет этой земли, ее костяк, мы стоим твердо, многочисленные и великолепные.
Поглядите на демонов, что беснуются вокруг нас: ошалелый разбежавшийся скот, лесные пожары, газовые вспышки и обнаглевшие волки, исходящие кровожадной слюной, и все это слилось воедино, внушая бесконечный ужас.
Одинокие странники, вы отчаянно карабкаетесь по нашим склонам и молитесь своим бессчетным синтоистским богам в надежде, что ваш народ не постигнет новое бедствие. Но ваша надежда останется втуне, ибо я провозвещаю катастрофу, а я лишь одна из легиона, и мы устоим, ибо мы умеем одно – властвовать».
9
Иногда так глубоко погружаешься в средоточие собственной черноты, что начинаешь истерически смеяться, раскатисто хохотать над откровенной несправедливостью мироздания. Почему одни богаты, всегда получают все, чего захотят, у них большие здоровые семьи, обеспеченные и довольные, а другие, хорошие простые люди, теряют даже то малое, что сумели нажить, самое насущное? Почему так выходит? Иногда смеешься, как чокнутый, понимая, что никакой надежды нет, что на какой путь ни сверни, он будет труден и ты окажешься на краю черной пропасти. Такова моя комедия. Надеюсь, вам весело.
Я бегу – посмотрите на мои длинные ноги, – повинуясь происходящему на спортивной площадке; все эти глаза, большие выпученные глаза, ничего не упустят: глаза насекомых изо всех углов глядят на мой затылок.
За спиной у меня двое игроков вцепились друг другу в футболки – привычная ласка, трепка и таска. Когда я оборачиваюсь и смотрю на них, они быстро прекращают возню.
Вы можете подумать, что я целиком сосредоточен на игре. Можете подумать, что она безраздельно владеет моим вниманием. Но мои мысли блуждают. Я еще способен сразу заметить нарушение. Инстинкт, наверное. Рано или поздно он становится второй натурой.
Как я во все это ввязался? Да как и во все остальное: кто-то просит подменить, оказать услугу, а то жена рожает, собаке делают лоботомию или еще что-нибудь, и ты соглашаешься. Потом оказывается, что это происходит раз в месяц. Потом – каждую неделю. Спасения нет. Иногда за проведение матчей мне выплачивают небольшое вознаграждение, точнее говоря, дорожные деньги. Чаще же я не получаю ничего. Конечно, это зависит от организации, с которой я имею дело. Зависит от чьей-то щедрости. У меня есть какие-то деньги, чтобы обеспечить себя и Асами. Еще есть какие-то деньги в банке (банк и банкиров еще не смыло). Школа, несмотря на все трудности, еще способна мне платить, чтобы я приходил учить этих бездельников и шалопаев, заставлял их бегать, потеть и хорошо спать по ночам от переутомления (я строгий преподаватель). Мои родители тоже оставили сбережения. Мои покойные родители. Под водой деньги не нужны.
Все это быстро иссякает. Время. Деньги. Да и вообще все. Либо исчезает совсем, либо удаляется от тебя. Лишь одну песню я умею петь. Других не знаю.
Нарушение. Возмущение. Мой свисток пронзительно дребезжит в октябрьском воздухе. Я вызываю одного из игроков и даю ему нагоняй: «Еще раз, и желтая карточка». Сейчас урок физкультуры. Парни-подростки и девушки-подростки играют в футбол. Самый любимый в мире вид спорта. Я пытаюсь воспитать в них честность и внушить, что арбитр всегда наблюдает за ними. Они этого в общем-то не понимают. Большинство из них играют не особо хорошо и без всякого интереса, не то что ребята из внеклассной секции или те энтузиасты, которые собираются по выходным, и их яростное окружение. И, так или иначе, им еще нужно подучить правила, еще нужно усвоить, что правильно, а что неправильно, нарушение есть нарушение. Это уроки жизни: следует быть внимательнее.
Две девочки сверлят меня жесткими взглядами. В последнее время я часто ловил на себе их жесткие и жуткие, решительные взоры. Я не особо люблю этих двух и частенько отчитываю. Многократно сообщал классному руководителю об их различных проступках. Но они, кажется, ничего не извлекли из своих ошибок и выдумывают все новые проказы. Они похожи на каких-то таинственных ведьм – две пары зловещих глаз, в чьих зрачках мне мерещатся два бурлящих котла; затаившееся зло – надо быть начеку.
Я думаю о Руби – каждый матч, каждый день. Думаю о жене, что горестной грудой лежит под потным одеялом. Врачи, которые приходят ее осматривать, пытаются убедить ее, что надо двигаться. Эти ученые мужи со своими мудрыми советами – они совсем вымотаны, ведь столько людей пострадало за последние годы, пострадало от нескончаемых бедствий. Сколько может вытерпеть одна страна? Слышите хохот из ОРКиОК? Как будто нас наконец постигло возмездие.
(От нас ждали извинений: от первого премьер-министра, потом от второго, от третьего, извинений за содеянное много десятилетий назад, но четвертый и пятый, шестой и седьмой, и все прочие тоже остались в стороне, возможно, именно поэтому нам никогда не предлагали…
Хотя я не политик и…)
Возмездие.
Так вот почему их смех такой бесстыдно громкий?
Мы понесли ущерб. Все мы. Все.
Тогда удавите нас. Одного за другим. Или запустите в нас еще одну ракету. На этот раз настоящую, чтобы всех нас уничтожить. Это станет облегчением. Отстранением. Отстранением от страданий. Может быть, семейная трагедия…
Все ее тело в болячках, ведь она столько времени пролежала в постели, пока часы непрестанно тикали, а солнце всходило и закатывалось, день за днем, вдох за вдохом. Горестная груда. Наверное, она уже и не замечает своих болячек, совсем отстранилась. Моя жена совсем отстранилась. Вот к чему все свелось. Примерно раз в неделю она принимает душ или ванну, моется молча, в тишине, слышен только причудливый шум воды, нежные всплески, бульканье в трубе, но все эти звуки раскатываются по безмолвному, бездетному дому. Сама она не говорит почти ни слова, только слегка фыркает, будто ее постоянно преследует докучливый призрак.
Психотерапевт, очередной психотерапевт сказал, что в конце концов это пройдет. «У нее горе, все люди переносят горе по-разному». Но тут нечто большее. Для горя нужно, чтобы перед тобой лежало мертвое тело, холодный, окоченелый труп того, кого ты любил, и тогда горе неизбежно наступит. Нужно сначала увидеть, осознать, и тогда будешь готов отпустить. Вот в чем загвоздка: она не готова. Может быть, думает, что однажды Руби вернется, вбежит в дверь, заглянет в холодильник, достанет баночку йогурта. Она всегда его любила. Ела по ложечке, но любила. Ее длинные ноги перешагнут порог и…
Ты этого ждешь, Асами? Руби с улыбкой отворяет дверь, прямиком подлетает к холодильнику и облизывает крышечку от йогурта, словно голодная кошка.
Бог и астронавты! Бог и астронавты! Только что об этом подумал! Еще одно воспоминание о Руби. Руби с подружкой играли у нас дома. У них были куклы, изображающие принцесс или что-то в этом роде, маленькие фигурки, одетые в розовое и пурпурное, все в украшениях. Свои игры девочки сопровождали постоянными комментариями, и ее подруга – кажется, по имени Юна – сказала: «Боже Всевышний, позволь мне сегодня на балу встретить принца». Такое у них было преставление о романтике – невинные, сладкие, зыбкие мечтания; им тогда было лет, наверное, по шесть. Руби наморщила свой чистый, гладкий лобик и спросила: «Почему ты сказала: “Боже Всевышний”, Юна? Принцессе не нужен бог. Все равно никакого Бога нет. Ты ведь сама знаешь, да?» Я прижался ухом к двери, в нетерпении ожидая, что будет дальше, куда заведет диспут шестилетних философов, украсивших мое воскресенье. Юна возразила, что Бог есть. Его не может не быть. Возможно, Боги. Много Богов. Почему еще мы ходим в святилища на Новый год и молимся о будущем? Почему еще мы тянем за веревку и звоним в колокол, складываем ладони и молимся, надеемся? А моя маленькая рационалистка, моя умница парировала: «Если наверху есть Бог, как ты считаешь, почему астронавты до сих пор его не видели?» Мне пришлось зажать рот ладонью, чтобы не засмеяться. Юна явно смутилась; научный подход моего шестилетнего гения возымел действие; моя дочь умела думать сама, у нее все будет хорошо. История о принцессе продолжилась, и, кажется, прибыли сказочные кареты, запряженные изящными белыми лошадьми, а на балу вальсировали прекрасные принцы во всем своем дивном великолепии. Но моя Руби была выше любой принцессы, лучше всякой царственной особы, лучше всякого бога или даже Бога, лучше всех, Руби была для меня всем.
Мы были молодыми родителями. Руби в наши планы не входила. Мы поженились, как грубо выражаются американцы, «по залету». Руби оказалась неожиданностью, самой лучшей случайностью, даже для двадцатилетних, у которых на уме было совсем другое. Мы радовались своей молодости, пили сладкий чухай и пели во все горло в полутемных караоке-барах, куролесили в компании нескольких разбитных приятелей; то было время бодрости и задора. Появилась Руби, и все переменилось, она заставила нас резко повзрослеть. Я еще учился в педагогическом. Асами бросила свой колледж, обратилась (со стыдом) к родителям за поддержкой – и получила ее (и мои, и ее родители перебороли стереотипы, смирились с позором и всячески нас поддерживали). Конечно, мы думали, что Руби останется с нами. Думали, что наша страна преодолеет чудовищные трудности, которые на нее обрушились. Думали, что наша жизнь сложится совершенно иначе; мы много чего думали.
Лишь невнятное бормотание доносится до меня от Асами. Она позволяет мне поцеловать ее в голову перед сном. И только. Она – призрак той женщины, которой была раньше. Я помню, как Руби (милашка-дошкольница) влетала в кухню и бросала в угол кухни свою детскую косметичку, из которой выглядывала розовая зубная щетка. Помню, как Асами вбегала следом и игриво отчитывала ее: «Проказница, чуть с ног меня не сбила!» Ловила и щекотала ее. Я входил в кухню, и Асами устремлялась ко мне, смотрела в глаза, брала за подбородок и приближала мое лицо к своему, целовала меня прямо в губы. Руби смотрела на все это, поигрывая красным камушком в своем ожерелье, улыбалась. Обычный день.
Футбольный матч продолжается. Все они совершенно никчемны. К счастью, урок подходит к концу. Скоро я выпью кофе. Сяду в учительской, буду отхлебывать из горячей кружки, чтобы напиток вливался в мое нутро и согревал душу. Директор вызовет меня к себе в кабинет и станет говорить со мной, выговаривать мне – сегодня понедельник, а он обычно делает это по понедельникам. Эта неприятная процедура, насколько мне известно, касается меня одного. Наш директор, он…
Я смотрю на часы и даю свисток. Игра окончена. Все расходятся без малейшего огорчения. Мне плевать на них на всех. Меня это огорчает ничуть не больше.
Едва углубившись в недра школы, я вижу их. Опять эти две девчонки. Меня передергивает от их вида. Я шагаю по школьному коридору, а они стоят и не сводят с меня глаз. Приближаюсь к ним – недавно надраенный пол поскрипывает под моими кожаными ботинками (я всегда переодеваюсь: на уроках я, естественно, одет по-спортивному, но в остальное время, особенно на встрече с директором, полагается деловой костюм). Мы в темной, бессолнечной части школы – плотные ряды деревьев за окном отбрасывают непроницаемую тень, в коридоре совсем мрачно, только тусклый свет от мерцающей люминисцентной лампы впереди – так что эти двое кажутся темными фигурами, тенями, только глаза поблескивают цветными контактными линзами, которые они вставили сегодня. В школе пытаются это запретить, но борьба не приносит плодов. Эти сверхсильные контактные линзы производства ОРКиОК можно настраивать, а если соединить их с головной гарнитурой, то ученики могут разглядеть классные учебные экраны с приличного расстояния или даже приближающуюся ракету за несколько километров.
– Немото-сенсей, ничего, что мы пришли сегодня поговорить с вами? – спрашивает Сиори Такеяма, она явно верховодит и явно слетела с катушек.
Они обе нервируют меня. Я пытаюсь выглядеть погруженным в себя, как будто у меня много дел и нет времени останавливаться и трепать языком.
– Что такое?
– Мы обе собираемся в следующем году подать заявку на вступление в Силы самообороны и хотим узнать насчет физических требований и…
– В этом вопросе вам поможет инструктор по военной подготовке.
– Да, но может быть, несколько подсказок насчет физических тренировок, как добиться идеального тела, вы же знаете…
Она хочет, чтобы я рассмотрел ее тело – тактика отнюдь не утонченная, такая очевидная. Поэтому я смотрю ей прямо в глаза. Та, которая пониже, расплывается в ухмылке. Почти что чувствуется, как их поры сочатся феромонами.
– Я прошу извинить, но у меня сейчас урок, возможно, будет время попозже…
– Но…
Эти феромоны – будто пыль и обломки, которые остались от какой-то звезды и прямо передо мной пытаются образовать новую планету, плодородную и пригодную для жизни.
– Нет, извините, я…
Слова застревают в горле, едва я их выпаливаю, спокойствие мигом покидает меня. Что происходит с этими двумя? Как получается, что в разговоре с любым своим учеником я могу сохранять хладнокровие, а когда появляются эти суккубы, моя кровь вскипает? Что за злобный напор, что за…
У меня нет времени размышлять, потому что меня вызвали. Мне приходится оставить мысль о кофе и направить стопы в кабинет директора. Он знает, что у меня до следующего урока не меньше полутора часов, и потому готов потратить на меня свое драгоценное время. Такой он человек, тратит свое драгоценное время; я уверен, в запасе у него полным-полно придирок. Записка на моем рабочем столе гласит, что я должен явиться в его кабинет для «краткой беседы», и я вздыхаю. Такой вот я теперь вздыхатель.
– Наша школа – механизм особого рода.
Он всегда начинает свою тираду/филиппику/исповедь/лекцию/«краткую беседу» с какого-нибудь высказывания, волнующего и бодрящего, заранее подготовленного и отработанного, обычно заимствованного и чаще всего неуместного. Как я уже говорил, мой отец был знатоком литературы, даже держал у себя настоящие бумажные книги и постоянно приводил выдержки из Флобера, Оэ и Кундеры, так что любую цитату я узнаю с лету, едва услышу. И у меня на языке они постоянно вертятся – сейчас что-нибудь вспомню.
– Садитесь, дружище.
Сегодня он, кажется, в бодром расположении духа, а это о чем-то говорит, даром что ему за восемьдесят и выглядит он потрепанным. Выходить на пенсию он отказывается. Мы не уверены, что его пребывание здесь вообще законно, но он такой человек, всегда стремился попирать авторитет начальства. А теперь, в этом загнивающем селении, он сам авторитет и начальство. Призывы к изменениям громогласно раздавались целое десятилетие, насколько я помню – я начал здесь работать в возрасте двадцати двух лет, и уже тогда всем осточертели его эксцентрические выходки.
– Нашей школе нужны такие, как вы. За вами будущее не только этой гибнущей школы, но и этой злосчастной страны, нам нужны такие замечательные личности вроде вас, чтобы дать надежду всей этой кретинической молодежи.
Начинает мягко. Но скоро из него попрет настоящий фашист. Просто дайте ему время разогреться. Расправить свои дурацкие мысленные мышцы.
– Да, сильные люди, честные люди. Но скажите, Немото-сенсей, почему вы еще никого не произвели?
– Не произвел?
Мне понадобилось какое-то время, чтобы уяснить смысл его бормотания, но наконец я (с удивлением) осознал, что он спрашивает меня (в очередной раз), почему я не наплодил потомства. Мы говорили об этом уже не единожды. Во-первых, это не его дело, но люди старшего поколения считают, будто имеют право вмешиваться в любые семейные дела, а потому неудивительно, что боссы советуют проявлять побольше активности в постели – по той же причине правительство назначило дополнительные надбавки школьным работникам, которые производят на свет больше детей (такие наверняка есть). А во-вторых…
– Это жизненно важно, Немото-сенсей. Если у вас есть дети, вы подаете правильный пример. А здешним детям нужно видеть правильный пример и отличать его от правильного примера.
– Вы хотите сказать, от неправильного примера.
– Да, разумеется. Я так и сказал.
Конечно, вы так и сказали.
Он смотрит в окно, единственное во всей школе окно, не забранное решеткой, его длинное прямоугольное лицо внезапно светлеет, глаза увлажняются, будто он размышляет о былых временах, когда земля была твердой и основательной, редко вздрагивала и тряслась, вулканы не красовались друг перед другом, выпуская в воздух кольца дыма, а наши гневливые соседи еще не проводили испытания ракет, ставшие в конце концов не столько испытаниями, сколько угрозами и властными требованиями. Сам директор твердит, что те острова принадлежат нам, и хотя споры продолжаются, он все сильнее укрепляется в своей уверенности. Но сегодня его занимает не политика, а семья и путь к национальному возрождению.
Пускай себе трещит. Я знаю, когда перестать слушать. Это обычная трепотня. А в сущности, неприкрытое хамство, и будь мы в другой стране, вероятно, я сказал бы, куда ему идти и что делать. Но здесь, несмотря на все большее распространение вульгарного сленга и засилье бессмысленной грубости (и в речах, и в поступках), от нас ожидают уважения к боссам; они всегда правы – всего неделю назад он позволил себе сексистское замечание в адрес моей коллеги, учительницы физкультуры, славной Майи, спросив ее, как такая роскошная женщина до сих пор не может изыскать способ, чтобы завести ребенка. Никто в учительской и бровью не повел при этом громогласном и оскорбительном замечании, никто не возмутился; на стороне директора выслуга лет и почтенный возраст – даже в этом вымирающем краю сохраняется традиционная иерархия. Может, развязные болельщики на мерзких субботних матчах правы? Может, всем нам следует выкрикивать друг другу оскорбления, общаться друг с другом в новой вульгарной манере – и это подействует освежающе?
Пока директор глядит в окно, собираясь с мыслями, я рассматриваю стены. Гляжу на изящные деревянные панели, которые ежедневно чистит и протирает целая бригада старательных уборщиков. Вижу изящные каллиграфические работы, старые изображения старой страны: туманные горы, черепахи, журавли, красные солнца, суеверия и идеалы; все напоминает о прежних временах, когда не было ни войны, ни беспокойства, ни социальных потрясений, когда природный мир был изобилен и щедр, а промышленность играла заметную роль. То было давным-давно, когда еще не родился никто из нас, даже директор Мисава, а теперь стало историей, но эти картины действуют успокоительно; я понимаю, зачем он развесил их здесь, понимаю их ценность, их пользу. Еще у него есть меч – длинный, сверкающий клинок, который он часто начищает в чьем-нибудь присутствии, медленно проводя по нему тканью и стараясь, чтобы свет отражался от лезвия и попадал в глаза посетителю, как будто директору девять лет, а не вдевятеро больше. Большинство не обращают внимания, устав от его показной бравады. Он кладет палец на острие, проверяет, хорошо ли оно заточено, годится ли в дело, глубоко ли войдет в человека (в кого-нибудь из ОРКиОКцев, которых он так ненавидит). Как и все обитатели исчезающих селений, он причисляет себя к крайне правым – в той мере, чтобы не прослыть совсем отсталым (все они такие, заблудшие в политике, мечутся от левых к правым, а потом обратно от правых к левым), и ни перед кем не извиняется.
– Бац, бац – и готово.
Наверное, так директор описывает наилучшую технику успешного соития, что довольно удивительно, ведь он наверняка давным-давно не занимался ничем, отдаленно напоминающим половой акт. Он улыбается, как будто только что подал мне совет, в котором я остро нуждался, сообщил сведения, которые я усердно разыскивал. Разговоры с ним зачастую напоминают задания, которые дают на уроках по иностранному языку: «Заполните пропуски подходящими по смыслу словами», только тут никаких слов на выбор не предлагается; говоря с директором, нужно заполнять пропуски самому, как будто едешь на поезде его несуразных мыслей, несущемся по скользким рельсам (он даже меня самого вынуждает приплетать метафоры, и я запутываюсь еще больше). Меня тянет сбежать отсюда, и я испытываю облегчение, когда меня наконец отпускают, мой рот наполняется вкусом воображаемого кофе.
– И еще кое-что.
Ну естественно.
– Да. Что именно?
– Я бы хотел, чтобы вы начистили этот меч. Однажды сюда может заглянуть с визитом император, а ведь мы не хотим, чтобы это место выглядело запущенным. Я уверен, он такой человек, которому нравятся чистые и блестящие мечи. Нам нужно все подготовить для него, ибо он богоподобен.
– Начистить? Вы хотите, чтобы я…
– Ну нет, не надо ничего чистить. Я сам могу начистить. Разве я сказал начистить его?
Я давно подозревал, что у него провалы в памяти, возможно, Альцгеймер, слова явно доходят до него медленнее, чем всем нам хотелось бы.
– Вы хотите, чтобы я его наточил? Да?
– Да. Именно.
Он уже просил меня об этом, и я выполнил его просьбу. Отнес меч к соседу, у которого есть точильные бруски и инструменты, которые не только затачивают лезвие, но и исправляют изъяны, удаляют ржавчину, полируют ножны, так что все становится как новенькое.
Директор вручает мне меч – церемонно, как все у нас делается. Я должен помнить, что выполняю эту работу для него. По крайней мере, на лице у сбрендившего старикашки проступает улыбка. Я должен помнить, что нельзя просто бросить меч в багажник. Кто знает, какой ущерб он причинит, если угодит в плохие руки.
Нет причин для негодования. Кофе плещется у меня в кружке, от него поднимается приятный пар, аромат наполняет уютную кухоньку, примыкающую к учительской. Все учителя заняты у себя за столами, хмурятся над кипами бумаг, постоянно растущими перед ними. Они вечно хмурые, насупленные – здесь редко увидишь улыбку – эти бедолаги завязли в своей колее, как бывает где-нибудь на угрюмом заводе или в офисе, прикованы к своей работе, пытаются толкать вперед страну, которая неспособна сдвинуться с места (вердикт экономистов: мы слишком медленно искали новые действенные подходы, слишком закоренели в своей несклонности к предпринимательству, слишком медленно менялись, слишком вяло подбирали альтернативы), трудятся ради своих семей, которым, возможно, все равно, которые, возможно, уже прекратили существование, или еще держатся, сложно сказать. Одно я заметил: по утрам изо рта у этих людей пахнет зубной пастой, а к полднику – желчью.
Вот нелюдимый Мацуда, учитель истории, пишет замечательные хокку, но в разговоре страшно медлительный – его жену унесло во время последнего, самого разрушительного цунами; ему почти не о чем говорить с другими, его грустные трехстишия достаточно красноречивы.
Вот весельчак Накасима, учитель обществознания, уже седой в свои тридцать, задорный, но усердный; я держусь от него подальше, потому что он любит поговорить о футболе, а мне и так футбола хватает за глаза; лучше бы кто-нибудь поговорил со мной о пчелах, или об электротехнике, или почему горячие юпитеры горячие.
Вот ассистент учителя иностранных языков – в глубине комнаты, в углу – самое подходящее место для такого тупицы. Он тут уже не первый год, а по-японски знает только самые начатки, олух не то из Британии, не то из Ирландии, не то еще откуда-то, вечно жалуется на свои хвори, то на боль в спине, то на мигрень; нудный тип, которому стоило бы свалить несколько лет назад, когда отплыл ковчег с иностранцами – по паре представителей каждого народа, в том же составе, что и прибыли, только удирали они гораздо быстрее, трепеща от страха перед наводнением – вот тогда этому болвану подобало изящно удалиться, а он вместо этого женился, и его красавица-супруга (удачно отхватил) в интересном положении. «В интересном положении». Странно слышать подобную фразу. Кому нынче интересно чье-либо положение? Кому?
А вот наконец Майя. Моя коллега, учительница физкультуры. Сейчас. Дайте мне минутку, собраться с духом. Еще глоток кофе. Так.
Вот наконец Майя.
Хороша до боли.
Она мое исступление, мое мучение.
Майя работает здесь всего несколько лет и, стало быть, значительно моложе меня. До сих пор помню день, когда она восшествовала в школу. Майя всегда или шествует, или вышагивает, или выплывает, никогда не ходит обычной походкой. Будто супергерой из манги, обитатель иных миров, который выше человеческих слабостей. А ведь походка – главное в человеке. Глаза у нее маленькие, узкие, всегда будто сфокусированные на чем-то крайне важном. Губы полные, припухшие, высокие скулы – из-за них выражение лица надменное, неприветливое, – но так и хочется протянуть руку и провести по ним пальцем. Кожа гладкая и белая. Под цветной спортивной футболкой – аккуратные груди, она всегда выпячивает их, когда идет (прошу извинить: когда выплывает, шествует, вышагивает), словно подзадоривая окружающих своими идеальными формами. Она движется, будто наполнитель в старинных лавовых лампах: изящно и непринужденно, плавно перетекая. Ноги у нее не слишком длинные, не слишком короткие, а когда она стоит рядом со мной (если мои колени еще не подкашиваются от похоти), то ее рост кажется идеальным – разумеется, для меня. Мускулистые, как у теннисистки, лодыжки, красивые голени, подтянутые полные бедра, а еще выше… еще выше – божественные ягодицы. У меня голова кружится, когда я вижу их перед собой – особенно удобно, если Майя идет впереди, – да и когда не вижу, потому что я все равно непрестанно думаю о ней, о них. Даже, к стыду моему, когда лежу рядом с безмолвной женой, они и тогда передо мной – их мясистая полнота, их округлая, неподвластная гравитации, плотская вещность; мне снились эти формы, как я гладил, стискивал, целовал их, эякулировал на них в безотчетном ночном экстазе. Тут нет ничего хорошего для моего мужского рассудка, ничего хорошего из этого не выйдет.
Кстати, однажды – возможно, тогда был бонэнкай[11]11
Традиционные проводы старого года в Японии.
[Закрыть], предновогодняя вечеринка для сотрудников – мы даже уселись рядом друг с другом на застеленном татами[12]12
Плетеные маты, которыми в Японии застилают полы.
[Закрыть] полу в отдельной комнате в изакае. Майя оживленно болтала. Я нервически поддерживал разговор, пытаясь скрыть свое лихорадочное состояние. Это было совсем по-другому, не как в школе – там, в школьной подсобке, в окружении полок с волейбольными и бадминтонными ракетками мы обсуждали дела, учебные стратегии, результаты тестов, а здесь она расспрашивала меня о моей жене, о моей жизни. Мне хотелось закричать: «Разве ты не понимаешь? Это все ты! Это все ты!» Вместо этого я целый вечер кивал и односложно буркал. В какой-то момент она наклонилась к низкому столику, взять соевый соус или еще какую-то приправу, и ее груди скользнули по моим бедрам, скользнули прямо по мне, коснулись меня! Уверен, сама она едва ли заметила. Мимолетный эпизод. Но электрический разряд, прошедший сквозь мое тело, перетряхнул меня всего. Как только я заснул в ту ночь? Как я вообще мог спать после этого… совращения? Словно линия электропередачи, сорванная тайфуном, я шиплю и трещу, до меня опасно дотрагиваться.
Да, мой разум в смятении. Если трезвый рассудок можно сравнить с искусным танцовщиком на изящном венском балу трехсотлетней давности, то мой разум – одержимый вуду дикарь, в исступлении пляшущий вокруг костра под кроваво-красной луной. Вот как она на меня действует.
Хотелось бы мне сказать, что когда мы впервые оказались вместе, в одной комнате, наши глаза встретились и в обоих нас возникло томление, любовная привязанность, но, конечно, ничего подобного не произошло, она смотрела мимо меня, как будто меня не существовало, и по-прежнему так смотрит, кроме тех случаев, когда ей приходится обращаться ко мне по школьным делам. «Нам нужны новые мячики», – говорит она. Это она про теннис.
Настоящая, живая, теплая женщина – мучение для меня. Но фантазии… фантазии помогают мне проводить дни. По этому поводу мой отец любил цитировать персонажа Беккетта: «Какая разница, как проходят дни – главное, что проходят», и если…
Кафка! Вот кого процитировал директор. «В исправительной колонии». Я только что вспомнил. Причудливые мгновения.