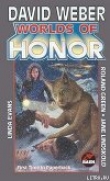Текст книги "Черная сакура"
Автор книги: Колин О'Салливан
сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 15 страниц)
Колин О’Салливан
Черная сакура
Патрику Дойлу
Из-за землетрясений жить там становится безумием. Взгляните на эти разломы. Они слишком большие, их слишком много. Извержения вулканов. Что может быть страшнее, чем извержение вулкана? Как они выдерживают снежные лавины, сходящие из года в год, с жуткой регулярностью? Трудно поверить, что там живут люди. Наводнения. Огромные площади затоплены, все смыто подчистую. Как они выживают, что будет с ними дальше?
Дон Делимо. Человеческие моменты в третьей мировой войне
Было нечто, чем я дорожил больше всего прочего, сам не вполне осознавая. То была не любовь, о боже, нет, не слава, не богатство. То было… Словом, я вообразил, будто в определенные моменты моя жизнь приобретала редкое и ценное достоинство. Не было нужды в каких-либо исключительных обстоятельствах; мне требовалось лишь немного порядка.
Ж.-П. Сартр. Тошнота
Ничто из этого не должно произойти
I
Бичуемые бурей непрестанной
1
Что по-настоящему пугает, так это тишина. Она, короткая и жуткая, повисает перед тем, как поле огласят ругательства или речевки, – будто попадаешь в вакуум. Наверное, таким было рождение Вселенной: сначала небытие, безмолвие, а потом созидательный взрыв. Хаос, предшествующий порядку.
Это происходит несколько раз за матч. Сразу за свистком, свидетельствующим о нарушении – скажем, один игрок сбил с ног другого, – одни при виде совершенного на их глазах неискупимого греха округляют глаза, перебарывая спазм в горле, другие злорадно ухмыляются… Пауза. Но через секунду животное нутро всякого зрителя являет себя, вырываясь на свободу с шиканьем и ревом.
Холодным, сырым октябрьским днем я стою посередине футбольного поля. Сужу матч, по крайней мере сегодня. Игроки – совсем дети. Подростки. Так их и назовем. Подростками. Все они любители. Да я и сам не профессионал. Но они воспринимают все это чересчур серьезно. Для них каждый удар головой или пас с лёта, каждый отбор мяча – вопрос жизни и смерти; каждая секунда важна и существенна. Почему-то во время игры всегда заботят разные мелочи. Да и вообще бывает, что перед вещами, ничтожными в масштабах Вселенной, мироздания, наши давние горести, значимые, насущные вопросы отступают на задний план.
На мне черная униформа: шелковая футболка, шорты, черные носки под самые колени с двумя белыми полосками наверху. Черны мои глаза, черны мои редеющие волосы, и сердце мое нынче примерно такого же цвета. В последнее время то, что начиналось со света и надежды, внезапно сделалось серым и мутным. Теперь даже мои мысли чернеют, превращаются в грязную жижу, застывают, становятся вязкими, как смола. Но однажды, если мне хватит упорства не утратить надежду, я снова засияю яркими красками, снова обрету улыбку и спокойствие, как в те времена, когда рядом была Руби. А пока мне остается только ждать и терпеть. Мои соотечественники всегда славились терпением – ну, так о нас говорили, когда еще это кого-то занимало. Терпение – одна из доблестей. Опять же, так говорят. Да вообще много чего говорят…
Зрители вытаращили глаза – похоже, ждут перелома в игре. Машут шарфами, свистят, вскрикивают, завывают.
Шум, даже если его производит такая незначительная толпа, порой оглушает. Или это просто мои уши: в последнее время их постоянно заливает не то какой-то жидкостью, не то непонятным гулом; потому и голова постоянно заполнена чем-то вязким и густым.
Сектора болельщиков – откуда они, все эти люди, не каждый день их увидишь – недавно отделили друг от друга ограждениями. Несколько чиновников в крикливых костюмах беспокойно мотаются по трибуне. Им, неприкаянным и беспомощным, в радость хоть чем-то занять себя на улице, а не сидеть дома, осознавая собственную бездарность. Впрочем, они настолько тупы, что верят: если начнутся беспорядки, они сумеют что-нибудь предпринять, а местные-то отлично знают, что, когда прорвет дамбу, поток не остановишь. Все более-менее равновесно, как всегда бывает перед надвигающейся катастрофой, на пороге беды, на краю гибели, – а она все ближе, ближе: скоро накатит очередная гряда волн и сметет несколько селений вроде этого, или земля забурчит, зарокочет, разверзнется и поглотит нас. Ничего необычного. Земля ярится. Из века в век. Все приступы ее ярости хранятся в нашей памяти, словно произошло это вчера или позавчера. А завтра… Завтра близко и полно опасностей. Там мы живем. На краю. На краю. На этом проклятом краю.
Для всего этого жалкого сброда, этих взбудораженных, крикливых, истеричных, никчемных болельщиков, этих орущих парней и визжащих девиц, я сейчас самый ненавистный человек. Есть такое расхожее выражение: «кричать желтым голосом». Пронзительный шум, который производят они все разом, такой и есть – злобный, резкий, жгучий. Но я умею отстраняться. Не обращать внимания. Судьи это умеют. И учителя тоже. Шагая по коридору под чей-то язвительный шепот, я вычисляю его источник, но, полагаясь на свой здравый смысл, пропускаю мимо ушей. Я мог бы бросить им вызов и даже накинуться с кулаками, но ведь они этого и добиваются. Я просто не подаю вида. Иду, куда шел. Игнорирую насмешки и держу себя в узде. Белый шум в голове иногда тоже приятен: он напоминает помехи в ненастроенном радио или сигналы спутника, совершающего одинокий полет к дальним областям галактики. Позволяю себе предаться «поэтическим моментам» – в тот миг кажется, что запечатленная красота мироздания способна затупить летящие в лицо осколки судьбы – я ощущаю себя таким же спутником. Мы, забытый богами народ, используем все, что помогает нам выстоять.
Какое бесконечное отвращение они питают ко мне, средоточию вселенского зла, застывшему перед ними на этом размокшем поле. И все же я оказываю им ценную услугу. Если бы не я, этакая словесная пиньята[1]1
Пиньята – мексиканская полая игрушка из папье-маше, наполненная сладостями или сюрпризами, также игра, цель которой – разбить эту игрушку и получить содержимое.
[Закрыть], возможно, им было бы не на кого проораться. Возможно, они стали бы лупить своих жен, мужей, детей, лабрадоров. Стали бы грабить, насиловать, убивать. Вполне вероятно. Моя жена, когда она еще разговаривала, однажды рассказала мне историю о том, как один сумасшедший уничтожил целую деревню. Видимо, ночью ходил от дома к дому, через кухню проникал в комнаты и приканчивал спящих, которых находил. Целую деревню. Правда, там жили всего сорок пять человек, – совсем маленькое поселение, деревушка – но для единовременного убийства число впечатляющее. Наверное, тогда он получил большое удовольствие. Спустя три недели его нашли повесившимся – болтался на дереве с кривой ухмылкой на расклеванном воронами лице: видно, не осталось больше никого, кому он мог бы принести смерть. В жажде уничтожения он даже повалил наземь угрюмые, одетые в лохмотья огородные пугала!
Какие голоса в нем звучали, какой неотвязный зуд пронизывал его кости?
Интересно, кто нашел его, человека, который целиком вырезал спящее селение? Или кто-то уцелел? Возможно, житель соседней деревни вышел на воскресную прогулку и, неторопливо прохаживаясь мимо унылых, согбенных в беззвучной мольбе яблонь и сакур заметил на одной из них чудовищный плод и срезал его с ветки? Какая жуткая картина.
Однако пора продолжать игру.
Не знаю, откуда взялось такое ожесточение. Нам рассказывали, что раньше подобным нелепым буйством славились британские футбольные фанаты; мы видели это на своих экранах. А может, турецкие? Ярко-красные вспышки и дым на трибунах. Шарфы, намотанные поверх ртов, скрывающие… Скрывающие что? Знакомые лица? Дьявольские усмешки? Я задумываюсь: ведь это футбол, да? Не война? Нет, это «хулиганство», даже слово такое раньше было. А когда? Целую жизнь тому назад. А теперь опять. Мерзость. Какая же мерзость! Некоторые явления, тенденции, веяния доходят до нас слишком поздно; а потом укореняются и расползаются гнилью. Так что это за ожесточение? Наверное, всем этим людям не терпится излить на меня свой яд. Возможно. Им нужно выпустить пар. Существовала же какая-то процедура, когда человеку просверливали череп, чтобы вышли пары? Я имею в виду, много веков назад. Представляю себе заинтересованных, увлеченных зрителей с картин голландских мастеров – скажем, Рембрандта (моей матери было приятно просто услышать его имя). Как это называлось? Такое проявление жестокости?
Маленькие лабрадоры в своих корзинах с мягкими подушками вне опасности, золотистые ретриверы и хомяки в целости и сохранности – домашние животные, те, которые еще не сбились в стаи, здесь по-прежнему пользуются спросом.
Пусть себе тешатся, злобные рожи, бешеное фанатьё. Пусть изрыгают ярость из сердца и изливают ее из своих похабных ртов; похабщина – таково новое веяние в нашем умирающем селении (население тысяча девятьсот девяносто девять человек, а раньше, кстати, было гораздо больше, но и такого количества мне хватает за глаза; во всяком случае, теперь люди держат задние двери запертыми, ведь кругом волки, бродяги, снова волки). Новые эмоции явно нравятся молодым, тут они умельцы. Это почти все, на что они способны…
Я ворчу, будто какой-нибудь столетний брюзга, старый пердун, хотя на самом деле вовсе не такой, просто болен и устал от дождя над грязным полем, от всей моей жизни, которая идет ко дну и катится в тартарары.
Старшие тоже не отстают: это не юношеское бунтарство, не взбрыкивания одного поколения против другого; тут все задействованы – по крайней мере, хоть в каком-то смысле нация объединена.
А я стою посередине, в черном, и принимаю на себя удар, пытаюсь сосредоточиться. Это не настоящая… не официальная моя работа. Я учитель физкультуры в местной средней школе, однажды меня попросили судействовать на игре и (наверное, у меня хорошо получилось) теперь приглашают снова и снова. От них не уйдешь. Местные руководители – они вроде мафии из минувшей эры. Или вроде тех квадратноголовых терьеров – забыл, как называются такие злобные собаки с мертвой хваткой. Тут всегда чего-то требуют. Это понимаешь через неделю на любой работе. От тебя станут чего-то требовать, а ты будешь повиноваться. Тебя не отпустят. Ты в ловушке.
Внезапно меня обступают со всех сторон: вокруг, оспаривая мое последнее решение, толпятся футболисты. Справляются, в своем ли я уме. Наверное, я недостаточно сосредоточился. Мой ум часто рассеян. В своем ли уме я был? В своем ли уме сейчас?
Я отмахиваюсь от них. Мой лоб сурово и решительно нахмурен. Я научился принимать такой вид. Стоял перед зеркалом, сдвигал брови, щурил глаза, которые считаются выпученными. Теперь я не чувствую в этом необходимости. Зеркало меня больше не замечает. Не дает ясного отражения. Даже в собственной прихожей я не могу определить, какое впечатление произвожу.
Назначаю штрафной удар. Один парень готовится. Игроки противоположной команды выстраиваются, прикрывая свои причиндалы, а вратарь руководит. Приказы четкие, инструкции быстрые. Я намечаю спреем линию, и они встают в ряд вплотную друг к другу; чувствуется солидарность – мне это нравится, даже начинает казаться, что, объединившись, люди способны добиться чего-то, защититься от чего-то по-настоящему быстрого и резкого. Но обычно они, эти стражи ворот, выглядят беспомощными: между ними остаются щели, бреши, часто мяч попадает им прямо по голеням, отскакивает в сторону и сеет хаос. Порой мне сложно удержаться от смеха. Отступив на несколько шагов, парень разбегается и бьет, направляя мяч в верхний левый угол ворот, и у вратаря, как бы он ни суетился, нет ни малейшего шанса. В мире есть вещи, с которыми ничего сделать нельзя. Силы, которые не остановить.
На трибунах хрипло клекочут девицы – выпорхнувшие из джунглей птички-истерички. Половина из них теперь ненавидит меня еще больше. Конечно, тут моя вина. Я испытываю какое-то неизъяснимое удовольствие от силы – в моих руках, в свистке, в забитой мрачными мыслями голове. Я уже изрядно настрадался – пусть делают со мной что хотят. Пусть хоть вздернут. Это станет облегчением. Прочь отсюда, подальше от горя и страданий.
Кучка безумцев. Всего лишь подростковый футбольный матч, но эти искаженные мукой лица проигравших – в них боль, трагедия поражения! Таков их источник скорби, поскольку настоящая скорбь для них слишком ужасна, чтобы о ней задумываться.
Восстань. Воспрянь. На их мученья глянь.
О, они уже пошли на попятную и готовы меня простить! Готовы полюбить меня за тот успех, которым я вознаградил их скромных героев. Наш народ переменчив. Как всякие болельщики. Нас всех легко поколебать, когда судья принимает решение в нашу пользу, когда Вселенная дурачит нас, убеждая в своей благосклонности, когда волны усмиряют свой нрав и едва ли не приглашают заняться серфингом.
Сокомандники влепившего гол парня вопят и скачут, но я заставляю их вернуться на свою половину. Должен признать, борьба была довольно смачная. Не удивлен, что они ликуют, эти альфа-самцы, внезапно слившиеся в счастливых объятиях. Но у меня не должно быть никакого мнения об их голах. Вообще не должно быть никакого мнения. Никакой реакции. Я вмешиваюсь, только когда нарушены правила. И во сне вижу только два цвета: красный и желтый. Угрожающе огромные полотна. Будто картины Ротко[2]2
Марк Ротко – американский художник-абстракционист, известен в основном своей живописью цветового поля.
[Закрыть] развешаны по стенам большой белой галереи моего разума. Красный. Желтый. Аккуратно лежат в моем нагрудном кармане (Ротко уже не бесплотный и воображаемый, а сжатый и внезапно злобный) и готовы в любой момент явиться наружу. Потянуться за этими карточками или за блокнотом – такое же привычное действие, как утереть лоб или почесать затылок, а в последнее время – почесать свои унылые, неприкаянные яйца. Я часто так делаю. Да, слишком часто. Привычки. Примычки. Черное злорадство. Такая у меня жизнь. Так часто… так часто, как глазеть на светофор, ожидая зеленого света. Да, света.
Светофоры пока работают, хотя и потрескивают, шипят и моргают, сбитые с толку, как и люди.
Лицо у меня как у игрока в покер. Каменное лицо. Посмотрите на него, загрузите мою фотку (если сможете поймать сносную связь); в небе постоянно жужжат дроны.
Оскорбляемый, презираемый, поносимый и обязанный всегда оставаться беспристрастным – это я. Прекрасный способ прожить жизнь, правда? Такая свобода…
Будь уравновешен. Будь справедлив. Когда нужно, потакай. Не совершай ошибок. Не совершай!
Я грожу пальцем. Еще одна въевшаяся привычка. Будто из другой эпохи. Бабушка увещевает сопляка-мальчишку, чтобы не ел пирожков до ужина, не портил аппетит! Но игроки-подростки обращают внимание, да. Для них все это очень серьезно. Помнится, я уже говорил.
Задачка не из легких. Стараться быть уравновешенным. Делать все абсолютно правильно, непредубежденно, справедливо. В конце концов, я устал. В конце концов, мы все устали, все. Что по-настоящему справедливо в этом мире? Что?..
Но я сам загнал себя в такое положение, сам вырыл себе яму. Мне тридцать лет, я тридцатилетний учитель физкультуры, а изредка – футбольный арбитр, но морщины меня сильно старят (раньше наш народ выглядел молодо и держался бодро; теперь мы умудренные, старые); моя жена больше не разговаривает: ни со мной, ни с кем-нибудь еще, разве только безмолвно, с мимохожими призраками; моя дочь, моя любимая дочь исчезла, исчезла навсегда; я хочу женщин, которые не хотят меня, шлюх и…
Я в ловушке, от меня то и дело чего-то требуют; я сам себе вырыл яму и теперь обязан сидеть в этом дерьме.
2
Ярость режет. Ярость режет. Ярость режет свою одежду на ленточки. Ярость щелкает ножницами, потом опять режет. Режет собственную кожу, режет себя. Нет. Не режет. Себя не режет. Надо иметь мужество, чтобы резать себя. Мужество, чтобы вообще резать кого-то. А она до такого еще не дошла. Она об этом думала – порезать себя, порезать других, выместить свою злость, свое вечное презрение – но вместо этого Ярость режет на ленты старую футболку. Старую футболку, которую она уже не носит. На ней изображен Микки-Маус – с большими ушами, с черными глазами, с мерзким тоненьким хвостом. Этому мышонку сто семнадцать лет. Но красная футболка оказалась слишком узкая.
Ее груди становятся больше. Они ее радуют. Ей пятнадцать. Она хочет выставлять их напоказ, почему бы нет? Но эта футболка слишком узка в плечах, вот в чем проблема; не говоря уже о грудях, их форме, их плавных очертаниях; она ими гордится.
Проблемы с футболкой, с головой, с Микки-Маусом – она знает, как их разрешить: вырезать из своей жизни. Взять и вырезать. Ножницы манят ее. Их длинные лезвия, такие острые. Ручки, такие удобные, такие функциональные – просто продеваешь пальцы и начинаешь: чик-чик, раз-раз – не успеешь и глазом моргнуть, а все уже порезано на ленточки. Во всяком случае, ее новые футболки (ручной работы, собственного изготовления) гораздо лучше. Одна, которую она надела сегодня, заявляет всем: «Я люблю ОРКиОК», а внизу, где пупок – милое, улыбчивое лицо (ее собственное лицо, намалеванное несмываемыми чернилами). Футболка эта призвана возбуждать гнев, оскорблять и притягивать косые взгляды – то есть напоминать всем о том, кто такая Ярость на самом деле и откуда она родом. Маленький бунт в угрюмые времена в угрюмой деревушке. Они не любят соседей, потому что соседи не любят их – так она понимает политику, внутреннюю и международную. Она вскрывает самую суть вещей – это она умеет! – отсекает всякую чепуху. Вот почему она ненавидит взрослых. Они чепуху не отсекают, а наоборот – стараются навалить побольше. Она не уверена, удастся ли ей вообще стать взрослой, хотя до этого осталось всего пять лет. Да и что тогда изменится? Честолюбивым замыслам тут не место, их сменили покорность и смирение. Мир хорошенько встряхнуло, и все, словно ракушки, налипшие на нос корабля, отцепилось и отпало: нет больше ни машин, ни компьютеров – развалились на части, повыходили из строя, обветшали. «Изготовленное в ОРКиОК» (Объединение республик Китая и обеих Корей) – самое простое и дешевое на планете – принимается с благодарностью: расписочку не желаете? Новый язык. Новые места для прогулок: леса из руин и обломков. Никто в этой ее глухомани не хочет видеть ОРКиОК на футболке, и потому она ее носит (а если холодновато, наденет футболку под плотный шерстяной кардиган), потому она лезет на рожон и развлекается с ножницами по выходным. Красный. Желтый. «Я люблю ОРКиОК». Личного производства. Собственного изготовления. Забавно заниматься подобными вещами. По воскресеньям в деревне больше делать особо нечего. В прошлом веке таких называли «панками». Можно посмотреть клипы про них, если не лень искать и связь еще в порядке. Вызывающая одежда, бьющая по ушам музыка – забавные они, эти панки. Было это семьдесят лет назад. Ярость не носит кожаную куртку и не прокалывает нос. Этого никто не делает. А может, когда-нибудь она и решится, возьмет и попробует – скорее всего, ей понравится вид и запах крови, красной-красной крови, от которого ее лучшая подруга наверняка грохнется в обморок. Ярость не играет на гитаре и не бьет в барабаны. Она любит делать все по-настоящему: резать, втыкать, вставлять в отверстия.
– Хорошо выглядишь. Очень сексуально. Сексуальная пантера, – говорит Скорость. «Сексуальная пантера», «Страшный медведь», «Миленькая панда» – это для нее настоящее, это для нее мерило вещей – мультяшные животные в ее затуманенной голове. Величайшее из всех творений для нее – красная панда. Образчик милоты. Животное совершенство. Совершенная, словно мультик. Без изъянов (у реальных людей есть изъяны). Она надеется, что однажды увидит настоящую панду, может, даже погладит. Сгодится и набитое чучело. Скорость многого не требует. По крайней мере, пока. Она хочет, чтобы ее родители прекратили грызться. Прекратили ссоры по ночам, тычки и удары – кулаком в грудь? Костяшками в череп? Вот что она слышит, пытаясь заснуть. В ее кошмарах топочут и лупят друг друга ногами усатые дядьки, а она хочет, очень хочет видеть во сне милое мохнатое существо.
– Если бы я была мужчиной, все время на тебя глазела бы, – говорит Скорость.
– Ты и так все время на меня глазеешь, мелкая лесбиянка.
Они смеются, потому что иногда, в спальне, как вот сейчас, когда им нечем заняться и они слегка, а может, и не слегка возбуждены, они обе – мелкие лесбиянки. Иногда начинает Ярость, ведь она выше и сильнее, и всяких таких мыслей у нее полно. Она придвинется к Скорости и возьмет ее за подбородок, а потом поцелует взасос, ее плотные, полные губы сомнут тонкие, податливые губы Скорости. А иногда это происходит нежно – зависит от настроения. Потом она быстро сдернет с себя футболку (домашнего изготовления, со слоганом), потом так же быстро (грубо) стянет футболку со Скорости, подняв ее руки над головой, будто та маленький ребенок. Сначала поиграются с сисечками, потом, довольно скоро, полностью оголятся и примутся за писечки. Ярость всегда достигает оргазма. Не остановится, пока не кончит. Скорость его еще не испытывала. Наверное, потому она такая напряженная и беспокойная. А происходит все это по воскресеньям в маленькой спальне с облупленными ядовито-розовыми стенами, с белым ковром на полу и скрипучими дверьми и окнами. В комнате все скрипит: от каждого шага или движения комната издает слабый, но зловещий вздох, будто ей надоело вмещать в себя и их самих, и их бесполезное барахло, будто комната просто ждет, когда море двинется на приступ, вздуется, взревет и разгромит наконец все это чертово селение, оставив позади себя лишь белые кости и бесприютную, бесплодную почву.
Девочки видели всего один или два члена и хотят еще. Сосед, придурковатый Дайсукэ, без всякого смущения показал им свой, и они дали ему денег – купить в магазине ноутбук, потому что свой он потерял, потому что он всегда теряет свои вещи и малость не в себе, хотя обе девочки относятся к нему хорошо и используют его – ведь они собираются позвать его как-нибудь еще, чтобы он опять показал член, на сей раз стоячий, полностью стоячий; в тот раз он выглядел вялым, но это, возможно, из-за наркотиков – судя по остекленевшим глазам, паренек нагрузился под завязку; жизнь не приносит ему впечатлений, а он не привносит впечатлений в жизнь, ни в свою, ни в чужую. Бедолага, нагрузился под завязку. Обе они видели члены своих отцов, давным-давно, в купальне, во время семейных купаний, или в семейном онсэне[3]3
В Японии – горячий источник для купания.
[Закрыть], когда все вместе погружались в горячий поток. Пока они еще только смотрят на члены, но им нужно разнообразить свои игры. В них кипят гормоны, хотя обе они понимают, что лучше держать все под контролем и не переходить через край. Говорят они в основном про мальчиков и на самом деле совсем не лесбиянки; ласкаются просто из любопытства и для быстрой разрядки. Да, на самом деле их интересуют мальчики, даже щуплые оборванцы, что сидят рядом с ними в школе, костлявые и неприкаянные. И музыка: у себя в комнате они любят петь и танцевать. И повеселиться они тоже любят, и повыдумывать новые способы повеселиться. И резать на куски всякие вещи и безумной мозаикой раскидывать по комнате. И болтаться по деревне.
– Твои сисечки выглядят больше, чем вчера, гораздо больше моих.
Ярость думает, что это правда (у Скорости еще совсем бутончики, которым только предстоит по-настоящему распуститься), но особо не задерживается на этом факте. Разговор ни о чем, многие разговоры со Скоростью ни о чем, но она ее лучшая подруга, и поэтому ей приходится терпеть до конца. Она хочет чего-нибудь поувлекательнее и наверняка вынашивает какие-то планы. Увлекательные планы, прямо сейчас (она вертит в руках ножницы, перекладывает из левой в правую, а потом обратно из правой в левую). Селение – мельчающее, полусмытое, захиревшее – мало что может им предложить, поэтому нужно потерпеть, чтобы увидеть, куда все это зайдет. До чего все это дойдет, покуда не рухнет? Если они обе останутся в селении, закончат местную среднюю школу, а уже потом рванут в столицу или куда-нибудь еще, за границу, где потеплее (это наилучший вариант, ведь всяко лучше жить в таком месте, которое не уходит под воду), то смогут выжать максимум из происходящего вокруг. Нужно потерпеть, чтобы увидеть, до чего все это дойдет. В подобных местах время тянется медленно. Когда домашнее задание выполнено, а для двух сообразительных девчонок это дело недолгое (ладно, сообразительная только одна, Ярость, а другая, Скорость, хоть и не безмозглая, но и без особых способностей), им становится скучно, не сидится спокойно, тянет на поиски чего-нибудь забавного. До чего это дойдет, покуда не лопнет? Иногда они возятся со своими девайсами или проецируют что-нибудь на настенный экран, но им бы гораздо больше понравилось, если бы что-нибудь произошло с ними физически, в реальном мире (чья-то ладонь нежно проводит по их нежной коже, чей-то палец приложен к их губам: «Тише, тише, все хорошо, хорошо»). Они могут просто позвать Дайсукэ и поэкспериментировать с ним еще. Проверить его выдержку, чтобы посмотреть, до чего он дойдет. Ярость думает, что ей понравится член во рту, он ведь был не очень большой. Выглядел довольно хилым и беспомощным. Бог его знает, как эти штуковины могут причинять столько вреда. Но все-таки какой у него вкус? Такой же, как и у любой другой части тела, когда берешь ее в рот – скажем, у пальца руки или ноги, – или у него вкус как у кожи? Или особый привкус, сверху, где мокро? Они правильно думают, что сверху у него мокро? Скорость с сомнением скривила рот, когда они обсуждали этот вопрос, сказала, что она к этому еще не готова, и ее рот гораздо лучше воспринимает шоколад, нугу или мягкие ириски.
– У нас есть что пожевать?
– Конечно, есть, – говорит Ярость и извлекает из-под кровати коробочку сладостей, Коробочку Гадостей, как они ее называют – большущую коробку, до краев набитую всякими конфетами, сахарными булочками и шоколадными плитками. Сладкое для них – как топливо. В последнее время лакомств производят мало, и цены на них постоянно растут, поэтому сладости (в основном краденые) стали изысканной редкостью, роскошью. Проглотишь какую-нибудь такую «гадость» – и она за секунду заморит любого червячка, развеет любую скуку, проберет до дрожи, так что весь день заладится. Нет ничего хуже, чем скучать в спальне.
Скорость набрасывается на сладости, ее сжатый ротик вдруг широко разевается, вбирая в себя все, что может захватить, ее острые зубки, как у юркого хищного динозаврика, кусают, кромсают, терзают.
Сегодня, играя в розовой спальне у Ярости, где с настенного экрана на них смотрели чистолицые, похожие на девочек мальчики из ОРКиОК, они называли себя Ярость и Скорость. Эти два слова Ярость (Сиори Такеяма) встретила в учебнике по английскому, и ей понравилось их значение и звучание. Скорости (Маки Миками) тоже нравятся эти имена, но она уже позабыла их значение и так и не выписала их в свой английский словарик. Но это не имеет значения, поскольку довольно скоро они поименуют себя иначе.