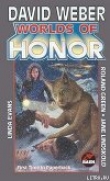Текст книги "Черная сакура"
Автор книги: Колин О'Салливан
сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 15 страниц)
18
(Я ничего не сделал. Если прозвучало предложение – а ведь так и было? – я никак не отреагировал. Не знаю, почему. Сейчас не знаю. Возможно, ответ еще придет. А теперь – прочь отсюда, в вечерний сумрак. Прочь.)
По вечерам я брожу. По вечерам я скитаюсь. Один, совсем один. Прочесываю улицы. Одним ты можешь обладать. А другим не можешь. Одно ты можешь забрать себе. А другое забирают у тебя.
Шаг за шагом, раз-два, раз-два, левой-правой, левой-правой, всегда вперед.
Вперед.
Нелюбовь и одиночество.
Одиночество от нелюбви, нелюбовь от одиночества? Над этой загадкой я бьюсь, чеканя шаг за шагом, устремляясь вперед.
Я не знаю правил этого мира. Я знаю только правила игры в футбол. Я знаю, что происходит на поле. В короткий отрезок времени. Это все, на что я годен. Полтора часа… чуть не сказал «концентрации». А потом – сплошной хаос.
Сплошная путаница, поэтому я шагаю медленно, раз-два, и пытаюсь смотреть сквозь, всегда вперед, всегда вперед.
Я бормочу про себя, пока иду: Adhaesit pavimento animea mea[14]14
Слова покаянной молитвы (118 псалма): «Душа моя повержена в прах» (лат.), цитируются в поэме Данте «Божественная комедия» («Чистилище – Песнь XIX»).
[Закрыть]; я забыл, что это значит и где я это вычитал; скорее всего, у Данте, а Данте заимствовал это где-то еще, это явно не по-итальянски; ох уж эти творцы, вечно что-то крадут. Мой отец мог бы гордиться: моя голова забита обрывками чужих слов, совсем как у него, как будто в них источник вдохновения. Раньше я читал и вобрал в себя все эти слова – я ведь уже говорил об этом? Иногда я думаю, что во всем этом нет смысла, а иногда…
Мать целовала меня в лоб. Она была гораздо ласковее, чем обычно позволяют себе в нашей стране. Целовала прямо в середину лба. Теперь меня никто не целует.
Мой уссурийский енот часто здесь рыщет. Пытается залезть в мусорный бак. Он исполнен усердия. Он получит все, что сумеет отыскать. Мой! Вы это слышали? Мой уссурийский енот. Мой собственный! Сегодня его не видно. Его? Почему «его»? Может, это самка уссурийского енота, она ищет пропитания для своих скулящих детенышей. Они разевают пасти, умоляюще взвизгивают. Это смотрелось бы более… героически, что ли? Но нет, у него на лбу написано, что это он. Такой же тоскующий, блуждающий взгляд, как у меня. Тоска, томление, тревога.
Я иду вперед.
Из захудалого бара (одного из последних оставшихся) внезапно вылетает человек. Двое дюжих вышибал швыряют этого низенького, щуплого офисного служащего на холодный потрескавшийся асфальт. Он с глухим ударом приземляется. И меня это нисколько не удивляет. Я видел, как с тем же самым парнем уже несколько раз происходило то же самое, даже в том же самом баре, с участием тех же самых охранников, если я не ошибаюсь – удивительно, почему его по-прежнему туда пускают. Возможно, он вполне сносен, пока его кошелек не выжат досуха – едва ли не единственное, что еще можно выжать досуха, все остальное вымокло насквозь, набухло влагой. Кто знает, в чем проступок господина Щуплого Служащего? Он никогда не сопротивляется, ему будто даже приятно, когда его швыряют – неужели он тоже всего лишился? А может, он привык, всегда готов к жесткому приземлению, как в старину борец или каскадер. Ко всему можно привыкнуть.
Человек сидит на земле, пьяный в стельку, бормочет что-то себе под нос, и при всем своем убожестве выглядит вполне довольным, а потом, как и ожидалось, из-за угла появляется высокая, худощавая женщина; с ней мальчишка лет десяти-одиннадцати, толкающий тяжелую строительную тачку, по-видимому, одну из тех, которые используют при возведении уродливых приморских стен.
Этим двоим каким-то образом удается погрузить пьяницу в тачку, и он сидит в ней, будто в колыбели, улыбаясь; это его персональное такси, его личный экипаж. (Моей матери это напомнило бы «голубой период» Пикассо: все мрачно, но есть что-то чрезвычайно человеческое в этой невеселой комедии. Я всегда прислушивался к ней, ко всему, что она говорила; может быть, именно она научила меня смотреть и видеть.)
Женщина берется за толстые ручки тачки и принимается ее толкать. При всей истощенности она выглядит исполненной сил, кажется, ничто не способно ей воспрепятствовать – думаю, своей быстротой она превзошла бы волны или даже велела бы им остановиться, и они бы повиновались ей, словно греческой богине, умевшей отдавать сверхъестественные приказания. Мерещится…
Мальчик идет рядом, поддерживая обмякшую руку отца, когда она перевешивается через край тачки, и стараясь, чтобы костяшки не задевали о землю. Он не выказывает отчаяния, этот мальчик, он знает, куда катится и эта тачка, и его отец, и этот мир; он состарился до срока, это заметно по глубоким теням у него под глазами, он уже слишком много повидал. Здесь и сейчас, здесь и сейчас перед нами предстает то, с чем мы сталкиваемся повсеместно: всеобщий упадок. Но сама эта сцена довольно забавна, в ней столько безысходности, что становится откровенно смешно. Эта троица вызывает у меня улыбку, но одновременно и приступ зависти – ведь они вместе.
Представьте себе: вас вышвыривают из какого-нибудь заведения и оставляют лежать (и умирать) на голом асфальте; уже неплохо, если близкие увезут вас на строительной тачке. Если бы я оказался в ней, в этой серой вогнутой колыбели, кто бы ее толкал?
На своем пути сталкиваешься со многими вещами. Чем дальше, тем больше. Все больше и больше. Заглядывать слишком далеко не приходится. За каждым углом разыгрывается новая сценка. Наше селение никогда не отличалось величиной, но в нем всегда происходило достаточно событий – главное, быть к ним готовым. Еще есть один-два человека, которые это понимают и находят происходящее занятным. Все дело в мелочах: нужно попристальнее присматриваться к тому, что попадается навстречу – скажем, рыба на крыше, выброшенная волной из родной стихии; она отчаянно глотает воздух, глядит неподвижными глазами, потом скользит вниз и приземляется на лысую макушку прохожего, а какой-нибудь крупный журавль замечает эту рыбу и устремляется вниз, словно обезумевший птеродактиль – будто для унижения лысого горемыки обычной птицы недостаточно! Не исключено, что ради этого я и гуляю по вечерам: даже в этом почти пустом пространстве развлечений хватает с лихвой.
Отец и мать с ранних лет поощряли мои творческие наклонности. Книги, цветные мелки, ручки, карандаши – в дело шло все, что могло послужить этой задаче. Всем этим я овладел. Всеми оттенками и полутонами. Всеми красками. Овладел полностью. А дальше были занятия спортом, которым уделялось столько внимания в начальной школе: радость физических ощущений, столкновение тела с телом, стремительность бейсбольного мяча, летящего на тебя. Это влекло гораздо сильнее, чем отцовские цитаты и изречения, неприложимые к действительности, чем материны краски, палитры и гипсовые слепки, и я свел близкое знакомство со спортивными площадками, футбольными полями, гимнастическими залами, от страховочного мата до баскетбольной корзины; мое тело проявляло себя лучше некуда. Об умственном развитии я особо не думал, как ни парадоксально это звучит. Наверное, в какой-то мере я предал своих родителей, и чувство вины по-прежнему терзает меня, но они никогда не возражали, если мне чего-то хотелось. Пожалуй, они были счастливы, что я сумел найти себя – неважно, в какой области; и думаю, им есть чем гордиться, как и всем родителям, которые позволили своему ребенку стать самим собой, действовали лаской, а не суровостью. Интересно, моим гипотетическим брату или сестре тоже позволили бы свободно расцветать? Скорее всего.
Я сворачиваю в темный закоулок и вижу парня, расписывающего стену краской из баллончика. На нем балаклава и защитная форма, которая никогда не выйдет из моды. Он делает свое дело с жутким упорством. Не знаю, зачем он так таится – каждое его движение исполнено скрытности, будто в шпионском романе, – ведь вряд ли это кого-то волнует, а граффити только оживляют это место.
Я стою и наблюдаю за ним – со мной такое часто случается (я знаю, моя мать, зачарованная творческим порывом, поступила бы так же). Он резко оборачивается, готовый к поспешному отступлению, но обнаружив, что это всего лишь я, расслабляется, небрежно кивает и продолжает ловко расписывать стену. Мы знакомы, он может мне доверять; я некоторое время наблюдаю за ним и его движениями; меня привлекает этот художник и его дерзновение – да, матушка, да, я еще вспоминаю о тебе. Я едва ли не впервые осознал, что моя мать – художник, когда мы шли в детский сад и у меня полилась носом кровь. Такое случалось часто, без всякой причины. Для этого не требовалось внезапно прилетевшего футбольного мяча или резкого толчка локтем на спортивной площадке. Порой бывало достаточно слабейшего прикосновения к переносице, чтобы хлынула густая алая струя, особенно яркая в тот холодный, зябкий осенний день, когда серое небо являло разительный контраст с алыми брызгами – кто бы мог подумать, что даже у скучнейших из нас внутри такая экспрессионистская палитра? Но тогда, кажется, я думал только о своей беде, а кровь текла сначала по капельке, потом струйкой, пока довольно скоро на земле не образовалось красное пятно, которое Фрэнсис Бэкон[15]15
Английский художник-экспрессионист.
[Закрыть] с удовольствием позаимствовал бы для какого-нибудь из своих пробирающих до нутра полотен. Еще как-то раз мы с матерью наткнулись на дохлую ворону, валявшуюся у самых ворот детского сада: ее внутренности были уже не внутри, а гротескно вываливались наружу, и черви кишели в них (опять-таки по-бэкониански). В носу у меня, как и следовало ожидать, засвербело, раздалось знакомое «кап-кап», и моя кровь смешалась с черными перьями и сизыми кишками дохлой птицы – черви наверняка обрадовались свежей подливке; кажется, они заизвивались еще сильнее, в восторге от такой щедрости. Мои капилляры – или вены? – в конце концов стали менее чувствительны, но и по прошествии многих лет, даже в подростковые годы – да, пожалуй, и теперь, – носовые кровотечения у меня всегда ассоциировались с воронами и воронами, и не требовалось любимого моим отцом Эдгара По, чтобы вызвать у меня ужас, который возникает при чтении готической прозы. Когда их черные стаи разлетались на ночлег по меркнущим небесам, кровь штопором взвивалась внутри меня, словно в ожидании мрачного предзнаменования. Конечно, мальчиком я был впечатлительным, да и в зрелые годы остался мечтателем, но вороны, вороны… Они всегда вокруг нас, им известны наши пути, они достаточно мудры, возможно, ближе к нам, нежели нам хотелось бы думать. Помню, в одной передаче показывали их уловки: они приносили нераскрытые орехи – скажем, каштаны – на автотрассу и подкладывали под колеса проезжавших машин, чтобы расколоть скорлупу, а потом, когда движение затихало, спускались за ними. Смышленые птицы: пользуются плодами человеческих трудов. В той передаче был эпизод, как они мастерили из веток приспособления, чтобы вытаскивать еду из мусорных контейнеров – подобную сообразительность выказывают только человекообразные обезьяны. Может, мы слишком долго не обращали внимания на ворон, и они сильно эволюционировали – быстрее, чем кто-либо еще. Говорю все это, потому что вижу ворону, устроившуюся на проводах. Еще одна, большущая и черная, сидела на ветке кривобокого дерева за окном в тот самый вечер, когда две девчонки в школе донимали меня насчет своего будущего – какого будущего? Эти черные зловестницы летают слишком высоко и быстро, чтобы оказаться добычей волков, да к тому же слишком умны.
– Работы еще много?
Молодой человек оборачивается, кивает, а потом продолжает торопливо орудовать баллончиком.
Я оставляю его за этим занятием; мне нравится его почин, хотелось бы, чтобы он раскрасил побольше стен в этом селении, разбавил унылую серость розовыми и зелеными, свежими, яркими и веселыми оттенками, создал иллюзию, будто среди руин еще осталась какая-то надежда; я иду дальше.
Шагая по дорожке, вспоминаю старика-соседа, что раньше жил напротив дома, где прошло мое детство. Приятный такой старик, господин Фудзибаяси; какое-то время, по его собственным словам, провел в Америке, много где бывал, много чего видал. Он вышел в отставку, когда мне было лет десять, а ему, наверное, около семидесяти. Время от времени он брал на себя обязанности парикмахера: делал стрижки – в основном детям, в знак расположения к их матерям, – и у него хорошо получалось, потому что он аккуратно управлялся с ножницами и мог поддержать разговор на любую тему – верный признак хорошего мастера; даже если ребенок в кресле без умолку болтал про 3D-игры или супергероев, господин Фудзиябаси умел подстроиться. В какой войне он участвовал, никто из нас, детей, толком не знал, известно только, что в том конфликте были задействованы пушки, танки и солдаты; ну и достаточно – кто-то говорил, что все происходило в Афганистане (где это вообще?), но… разве он мог там сражаться за нашу страну? Разве мы тогда не сохраняли нейтралитет? Девятая статья Конституции[16]16
Статья из Конституции Японии 1947 г., декларирующая отказ государства от ведения войн и создания вооруженных сил.
[Закрыть]? Или то были миротворческие силы? Или его призвали американцы? Он наполовину американец? Состарившись, господин Фудзиябаси все реже и реже выходил из дому – ноги ослабели – и большую часть времени проводил перед постоянно орущим экраном. Проходя мимо, можно было услышать обрывки новостей или надрывные вопли героев дневного сериала, доносившиеся из открытого окна. Маленький садик старика пребывал в диком запустении, так что время от времени кого-нибудь из нас приглашали навести в нем порядок, и мы орудовали имевшимися у нас нехитрыми инструментами, покуда наши худые загорелые ручонки не начинали болеть, а нежные ладошки не покрывались волдырями. Нам нравилось, как господин Фудзиябаси подстригал нам волосы, нравилось, как он попутно рассказывал про войну, сообщая бесчисленные названия самолетов и боевых операций. Может, он все это выдумывал, но нам все равно хотелось ему верить; для ребенка эти рассказы вполне годились. Я до сих пор представляю его внутри этого угрюмого дома – я заходил туда несколько раз, приносил ему бэнто[17]17
Однопорционная упакованная еда в Японии.
[Закрыть] от моей матери; старый плоский экран мерцал на аскетически голой стене – вижу, как он там сидит, а мир вращается перед ним и выкладывает подробности своего существования: войны, политические интриги, терроризм, похищения, мошенничество, голод, уличные беспорядки, страх. О чем он думал, глядя на все это, когда ноги почти отказали ему? Уйти он не мог. Впадал ли он в отчаяние? Просто выключал телевизор, когда становилось невмоготу? Вздыхал ли он, как я теперь, из-за всего происходящего? Бывал ли пресыщен? Волновало ли его, этого ветерана, который знал все про супергероев, потому что сам являлся одним из них, и даже, по его собственным словам, имел медали, подтверждавшие сей факт (нам очень хотелось ему верить, и, хотя мы никогда их не видели, они сверкали в наших мечтах), все это? Или он вздыхал от осознания, что ничего больше не может сделать, ничего больше не может изменить? Он остался в прошлом. Его слава – в прошлом. Его рассказы – о прошлом. Я думаю о нем, когда сижу один и бурчу про себя, сознавая, что, скорее всего, закончу, как он, в одиночестве – смеркается, а я ничего не делаю, ничего, только безнадежно разыскиваю…
Столько воспоминаний за прогулку. Может, потому я и брожу по вечерам: заглядываю в прошлое, смотрю в беззвездное небо и вызываю из забвения пережитое, перечувствованное, ведь именно воспоминания останутся неизменными и пребудут со мной, пока рассудок не оставит меня окончательно.
Все бездомные твари выползают по ночам, чего-то ищут. Ищут и ищут. Все бездомные твари.
Марина на своем обычном месте. На щеке у нее ссадина.
– Что случилось? – спрашиваю я и оторопело озираюсь, мне внезапно становится страшно.
Она пожимает плечами. Потом достает из сумки сигарету и закуривает. С сигаретами в нашей стране долгая история; мы всегда питали к ним слабость. Когда во многих других странах на них наложили запрет, у нас по-прежнему очаровательно желтели пальцы и чернели легкие. Теперь курильщиков совсем немного, хотя еще остались любители попыхивать, несмотря на высокие налоги, которыми их в конце концов обложили.
– Пришли заплатить мне за секс?
Как обычно, я ничего не отвечаю.
– Вот что я думаю. Вы просто любите ходить и вынюхивать. Разговорчики заводить. Которые ничего не значат. Вы и сами ничего не значите, господин Бродяжка.
Она попала в самую точку.
– Извините, если потревожил вас.
– Нет. Вы меня не потревожили. Собственно, это и раздражает. Лучше бы потревожили. Денег заплатили. Обошлись бы со мной грубо, как все мужчины. Думаете, вы не такой, как все?
– Ничего я не думаю.
Хотя это неправда. Думаю. Много думаю. В эту самую минуту я думаю, какая она отважная женщина – выходит каждый вечер, принимает всех входящих (простите этот каламбур) и тем не менее остается в живых. Даже в стране, которой она не нужна. Ходит, живет, что-то делает. Я не могу смотреть на нее свысока, я ею восхищаюсь и, пожалуй, немного влюблен. Еще в колледже (как раз перед тем, как я встретил Асами) была у меня одна знакомая девочка, она тоже училась на преподавателя физкультуры, и ее красота сводила меня с ума. Когда она впервые спустилась по ступеням лекционного зала, то показалась мне такой недоступной (шла довольно претенциозная лекция по спортивной психологии, и я с удовольствием отвлекся). Меня поразила ее внезапная и сокрушительная красота: идеально ровные белые зубы, лукавая улыбка, которая только подчеркивала их блеск, гладкие длинные волосы, сверкавшие в электрическом свете. Мы несколько раз выпили кофе, подружились, и, наверное, я был отчаянно влюблен в нее, жалкий сосунок рядом с таким прелестным и первозданным существом. Но все это я держал при себе. У меня не хватало смелости, а может, опыта, чтобы сделать первый шаг. Через несколько месяцев она куда-то переехала (я так и не доискался причины), и вскоре мы окончательно потеряли друг друга из виду, хотя я уверен: ее это особо не тяготило. Разумеется, ничего бы у нас не вышло, даже если бы я набрался смелости и открылся ей; а вскоре главное место в моей жизни заняли Асами и Руби. Но в тридцать лет человек всегда будет задаваться вопросом: «Что, если бы все сложилось иначе? Что, если бы то-то, и то-то, и то-то?..»
Не понимаю женщин. Думаю, сейчас все совершенно очевидно. Мне с ними ничего не светит. Я им не нужен, я недостойный мужчина. Я могу привлечь внимание разве только тех двух странных школьниц, которые невесть с чего в меня втрескались или что-то в этом роде… Такова моя доля. А женщины, которые привлекают меня…
И моя жена…
Я думаю. Думаю. Много думаю. Но это вряд ли к чему-нибудь приведет.
– Господин Бродяжка, почему бы вам как-нибудь не заглянуть в мое окно? Возможно, вам понравится. Я оставлю занавески открытыми. Посмотрите, что такое жизнь. Какая она несправедливая.
Мне нет нужды смотреть в ее окно. Я и так знаю все про эту жизнь. Но предпочитаю не возражать.
Она умолкает и глубоко затягивается.
– Вы говорили, что судействуете на детских футбольных матчах. Что ж, загляните в мое окно, полюбуйтесь на меня в действии. Прикиньте, изменит ли хоть что-то красная карточка. Не будет никакого наказания за… Как вы это называете? За нарушение.
Я не знаю, что делать. И не совсем понимаю, о чем она говорит. Или отказываюсь понимать. Может, дотянуться до нее физически, дотронуться рукой, и тогда она примет мое… мое мирное предложение? Чего я пытаюсь добиться? Почему останавливаюсь и разговариваю с ней? Почему я не рядом со своей драгоценной женой, не утешаю ее? Не рыдаю рядом с ней, не заклинаю подняться?
Та девочка в колледже. Ее звали Аи. Ну, разумеется…
Я протягиваю к Марине руку, и секунду-другую мне кажется, что она попытается ткнуть в нее зажженной сигаретой, затушить тлеющий табак о мою кожу, поставить на мне клеймо. Но она вкладывает сигарету между моими пальцами. Я затягиваюсь, неотрывно глядя ей в глаза – при посредничестве этой сигареты мои губы соприкоснулись с ее губами. Конечно, я закашливаюсь. Давлюсь, будто новичок. Она смеется. Сказать ей, какая она милая, когда улыбается? Невероятно невинная. Впредь постараюсь почаще закашливаться, может, набьюсь на сочувствие. Потом я возвращаю ей сигарету, осторожно вставляю между губ. Моя рука дрожит. Нервозность. Одиночество. Нелюбовь. Женщина. Находясь рядом с ней (и с Майей, и с Марисой), я прихожу в восхищение. Прекрасные женщины. Прекрасные женщины заставляют меня восторгаться или рыдать. Я это уже говорил? Моя рука осторожно вставляет сигарету между ее губ. Так близко, будто я…
– Где ваш дом?
– По тому переулку, до железной лестницы, первая квартира налево, синяя дверь.
Мне хочется отпустить шутку насчет красного фонаря, но я не настолько бестактен. Эта девушка знает о мире гораздо больше, чем я узнаю когда-нибудь.
– Ну и?..
– Что?
– Придете как-нибудь вечерком посмотреть на меня в действии? На мою большую игру?
– Думаю, да.
Я иду дальше, а она покачивает мне вслед головой: дескать, не верю. Но эта роскошная шлюха с ее невероятно развитым от долгих упражнений чутьем знает все про жалкого зверька у меня в штанах, которому так хочется нежности: к этому безумному, ведомому лишь инстинктом существу, которое заключено у меня в трусах, уже целые месяцы, целые годы не прикасалась ничья рука (кроме моей собственной). И все это она прочитывает в моих глазах задумчивыми вечерами, когда на селение спускается хранительный сумрак, а волки поднимают вой на холмах.
В прошлый раз, когда мы стояли под ее зонтиком во время очередного ядовитого дождя (все тот же выбрасывающий вредные вещества завод), я заметил в ткани небольшую прореху, через которую проникали капли. Какой смысл в зонтике, если в нем дыра? Какой смысл в человеческой жизни, если в ней огромная дырища, какой?..
Я бреду сквозь сумрак, по-прежнему заглядывая в кусты и за живые изгороди (остатки садов, останки садов, уже изначально весьма скудных), чтобы увидеть… увидеть хоть что-нибудь. Никогда не думал, что в конце концов стану Любопытным Томом[18]18
Любопытный Том (англ. Peeping Tom) – персонаж из легенды о леди Годиве. Согласно преданию, когда леди, чтобы убедить мужа, правителя Мерсии, снизить налоги для простого народа, проехала по улицам города Ковентри обнаженной, взглянуть на нее рискнул только Том, за что поплатился зрением.
[Закрыть]. Нет, забудьте, я не считаю себя Любопытным Томом, но все-таки почему я все время смотрю в чужие окна? Марина права. Хожу и вынюхиваю. Возможно, она неплохо меня знает и потому предлагает заглянуть в ее окно. Насквозь видит меня (и бедного неприкаянного зверька). Но люди оставляют занавески открытыми, яркие лампочки освещают их теплые и уютные комнаты (насколько позволяет мигающий свет), а если это не приглашение, то что? Я не вуайерист, нет, это тоже забудьте, каждый человек…
И вот мы здесь. Никогда не думал, что окажусь здесь, никогда не думал, что зайду в такую дальнюю даль – разумеется, духовно, – никогда не предполагал, что найду себя здесь. Но я здесь.
Дом Марисы. Я стою снаружи и заглядываю внутрь. Моя свояченица. Та, которая оставила меня совсем недавно, покинула мой дом, накормив меня, насытив меня, и… Что она имела в виду, когда сказала: «Ты еще привлекательный мужчина»? Так ведь она и сказала? Так и сказала? Я и предположить не мог, верно? Почему я здесь? Наверное, разыскиваю Руби, своего уссурийского енота, свое ощущение…
Смотрю по сторонам – нужно убедиться, что соседи не шпионят. Пробираюсь к переднему окну и ухитряюсь заглянуть в просвет сбоку от занавески. Мариса сидит на диване и что-то смотрит по настенному экрану. Потягивает красное вино из бокала и время от времени выбрасывает руку вперед, переключая каналы. Свет падает на ее лицо, отражаясь в очках-контроллерах, а она с увлечением управляет предстающими перед ней изображениями – может быть, увеличивает, меняет цвет или текстуру. С тех пор как пропала Руби, я очень мало времени провожу перед настенным экраном, а голографических шоу и прочих телевизионных примочек просто избегаю – мне страшно, а главное – я не могу выносить эти счастливые лица. Хуже всего сериалы, особенно когда какой-нибудь бедный скиталец возвращается домой, а семья встречает его со слезами радости, с распростертыми объятиями, и…
Я занимаю позицию, и словно хищная готическая горгулья, опьяненная предвкушением добычи, таращу изголодавшиеся глаза. Конечно, я не раз бывал в этом доме вместе с Асами, выгружал покупки, оставался на чашку чаю, однажды привесил полку! Ай да я! На все руки мастер! Для этого требовалось всего лишь ввинтить несколько шурупов, такое любому школьнику под силу.
Я кручу головой – хочу убедиться, что никто меня не заметил. Вокруг ни души, ни единого живого существа. Мариса крайне сосредоточенно смотрит на экран. Потом вдруг надавливает сбоку на очки, сдергивает их и, держа перед глазами, вводит код – ее пальцы касаются пустоты. Откидывается на диване, делает короткий глоток из бокала – в нем, наверное, дешевое сладкое пойло, производимое на юге, где, по слухам, еще светит солнце, где, может быть, сейчас находится Руби; навряд ли сюда поставляют заграничные вина; там знают, что мы больше не в состоянии позволить себе такую роскошь. Когда тебя игнорируют, начинаешь привыкать.
Я подбираюсь к самому краю окна, изгибаю шею, чтобы лучше видеть и саму Марису, и то, что ее так заинтересовало, и наконец принимаю положение, при котором экран почти целиком попадает в мое поле зрения. Что она имела в виду, когда сказала: «Может, пойдем в гостиную?»
Вижу я совсем не то, что ожидал (не уверен, что был готов к чему-либо подобному).
Она смотрит порнофильм, и мой интерес к этим вечерним посиделкам резко возрастает, а тот самый спрятанный (незваный) зверек наверняка бы замурлыкал, если бы умел издавать звуки.
Мариса таращится на экран. Две блондинки-иностранки проворно и алчно стягивают одежду с высокого черного мужчины, пока он не предстает перед ними совершенно голым и неимоверно возбужденным. В 2023 году правительство полностью сняло запрет с порнографии и разрешило ее для всеобщего просмотра – ну наконец-то, подумали большинство мужчин в стране (кроме директора Мисавы, который считает это позором и падением нравственных устоев). После многолетнего пользования – злоупотребления? – интернетом все это выглядело довольно затасканно и малость несвоевременно, и правительство ничего тем самым не выиграло, ровным счетом ничего.
Блондинки опускаются на колени. Мариса делает движение, будто она тоже собирается раздеться и принять участие в этой виртуальной сцене: расстегивает пуговицу на джинсах, потом молнию, а потом… Внезапно резко останавливается, на мгновение замирает и… проделывает все в обратном порядке.
Признаться, я в недоумении. Но не могу сдвинуться с места. Не могу оторваться. Я потрясен своей неудачей.
Мариса глубоко вздыхает, лицо у нее грустное; быстрым движением она вырубает всю систему и одним глотком допивает вино. Встает, вытирая губы рукавом, поворачивает выключатель и выходит из комнаты. Я пригибаюсь пониже, чтобы она меня не заметила. Тяжело дышу. Отползаю от дома и через маленький садик выбираюсь на безмолвную улицу. В спальне зажигается свет, но занавески задернуты. Надеюсь, Мариса не видит меня, но в то же время…
Я застываю посреди улицы. Не знаю, что делать. Потом свет в спальне гаснет. Вот и все. Свет погас. А что остается мне, жалкому негодяю, который почти дошел до откровенного домогательства? Неужели я такой? Неужели я стал таким? Почему я не остался смотреть, как тот парень разрисовывает стену? Что за картину он пишет, что должно получиться в конце концов? Каждый вечер он делает маленький кусочек. Картину? Никакая это не картина! Почему я докатился до такого? Потому, что ничьи руки не прикасаются ко мне, потому, что огонь…
Она отправилась спать. Просто отправилась спать. Ничего не сделала. Мариса совсем ничего не сделала. Не стала себя ласкать, не задержала внимания на черном мужчине и его резвых подружках, просто выключила порно, и все. Неужели догадалась, что за ней наблюдают? Неужели люди всегда догадываются, что за ними наблюдают? У нас часто возникает такое ощущение, правда? Глаза, направленные на нас. Теперь мне придется поостеречься. Сегодня вечером я не просто подглядывал, я почти что домогался. Обратного пути нет.
Потому, что…
незажженный…
огонь…
Я смотрю вверх: не летают ли дроны? Не вижу ни одного и не слышу (за последние годы они стали совсем бесшумными), но я знаю, что они там. Если полиция поймает меня, ползающего по чужим владениям, да еще и шпионящего, что со мной сделают?
Пожалуй, я всегда был немного вуайеристом, всегда ошивался где-нибудь, подглядывал. Прекратить это очень трудно. Даже когда мой отец сидел и читал у себя в кабинете, а перед ним громоздились его драгоценные книги, я подсматривал в замочную скважину, завороженный его сосредоточенностью, заинтригованный самим процессом чтения. Меня интересовало, какой в этом занятии смысл. Зачем он тратил на него столько часов? А еще, стоя за спиной у матери, я глазел, как она мазала краской по холсту, поворачивалась, окунала кисть и вновь возвращалась к хаосу, который пыталась упорядочить. Замечала ли она меня? Вероятно. Но виду не подавала – я был всего лишь любопытным ребенком. Я рос и по-прежнему увлеченно пялился, подглядывал, шпионил; вероятно, это часть взросления. Иногда я чувствую, что даже сейчас мне больше нравится наблюдать, например, за сексом, а не участвовать самому – смотреть со стороны и, так сказать, не марать рук. В приписываемой вуайеризму грязи есть некая чистота, и это противоречие только сейчас становится для меня очевидным. Один учитель из соседней префектуры на каком-то скучном совещании признался мне, что установил миниатюрную камеру в женской раздевалке у себя в школе и регулярно мастурбирует на заснятое. И в мужской раздевалке установил такую же, хотя туда может свободно зайти, когда вздумается (в конце концов, при всех своих грехах, он преподаватель физкультуры). Мне аж дурно сделалось. Он спросил, не желаю ли я обзавестись такой же секретной камерой («Почему нет? – пояснил он. – Ведь все за всеми шпионят – посмотрите на правительство!»), а если да, то он собственноручно ее для меня установит («Производство ОРКиОК, в использовании простая, заметить трудно, правда, работает небезупречно»), мы сможем вместе посмотреть видео, и он будет рад со мной потискаться! Наверное, я ничего не ответил, только челюсть отвисла от столь немыслимого предложения да живот скрутило. Тогда он отошел от меня и приложил указательный палец к губам, умоляя хранить молчание – теперь я стал участником сговора. Досаднее всего, что он подумал, будто я такой же, как он. Что в моем поведении натолкнуло его на подобную мысль? Что в моем…
Я его не выдал. Конечно, я не святейший из людей, и донести на него стоило бы, конечно, стоило бы, но зачем-то я сдержался. Возможно, был слишком потрясен. При всех своих вуайеристских наклонностях (а у кого, сказать по правде, их нет?) я знаю, где та грань, которую нельзя переступать. Для него этой грани, очевидно, не существовало. Скверный, испорченный человек.