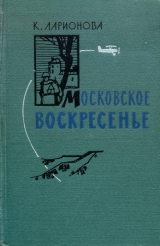
Текст книги "Московское воскресенье"
Автор книги: Клара Ларионова
Жанр:
Военная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 30 страниц)
Нарядный хозяин пил чай, держа блюдце на растопыренной ладони. Напротив его – хозяйка в вышитом сарафане. Вдоль лавки сидели белобрысые дети и, не моргая, смотрели на разведчиков, а над их головами горела лампада перед убранным цветами из воска киотом.
Евгений остановился у двери, но Любанский вышел из-за его спины и прошел к столу, как на авансцену. Там он снял пилотку, поклонился и сказал грудным, хорошо поставленным голосом:
– Добрый вечер, хозяева!
Хозяева настороженно смотрели на него.
– Не найдется ли у вас чего-нибудь перекусить? Мы бы и заплатили…
Молчание было таким продолжительным, что Евгений тоже присел, отодвинув сапожные колодки, над которыми, как видно, трудился хозяин.
Любанский решил, что хозяева в затруднении, что предложить на ужин непрошеным гостям, и поторопился помочь:
– Хорошо бы молочка или яичек.
– Яичек? – строго переспросил хозяин. – Мы тут дали давеча какому-то командиру два десятка да двух куриц. Так что же, все вам и отдать? А немцам-то что?
Евгений знал, что Любанский – превосходный актер, но сейчас актер так растерялся, что пришлось прийти к нему на помощь.
– Какие немцы? Откуда они возьмутся?
– А такие же, какие в Смоленск пришли. Ныне, говорят, на Вязьму идут. Сват из Шаблина пришел, а оно уже под немцами. А от Шаблина до нас верст не мильен, вон оно за рекою, днем каждую крышу видно…
– За рекою? – только и нашелся спросить Любанский.
– То-то и есть! – сухо сказал хозяин. – И уходили бы вы от греха, а то, не дай бог, пути вам обрежет, как под Смоленском было…
– А что о Вялой слыхать? – спросил Евгений.
– Чего не знаю, того не знаю, – неохотно проговорил хозяин. Он, видно, уже жалел, что разговорился с солдатами.
– Пошли! – сухо приказал Евгений.
Хозяин даже не поднялся из-за стола. Выйдя, Евгений услышал, как щелкнула щеколда на двери.
Любанский выругался и предложил:
– Давай заберем этих подлецов. Видно же, что они только и ждут немцев.
– Не дурите, Любанский! – сердито сказал Евгений.
Разумов вышел из-за угла и сказал, что в деревне все тихо.
Решили зайти в соседний дом. Долго стучали в калитку. За воротами во дворе слышалась возня, но им никто не отвечал. Наконец робкий, прерывающийся голос спросил:
– Кто там?
– Свои. Откройте, пожалуйста! – придавая голосу самую задушевную мягкость, сказал Любанский.
Молчание, долгий шепот, скрип половиц, и наконец дверь открылась. Закопченный фонарь осветил их. Они смело вошли в сени. Сквозь боковую дверь был виден освещенный двор, крытый одной с домом крышей, во дворе стояли груженые подводы. Несколько человек прошли мимо них, таща какие-то сундуки и узлы, наваливая все это на воза.
Вслед за разведчиками в избу вошел бородатый старик в ватнике, в военном шлеме со звездой, какие носили буденновцы в девятнадцатом году. Он внимательно оглядел их:
– Кажись, свои. Ну, родные, как дела? Где они сейчас?
Любанский недоуменно спросил:
– Кто они?
– Известно кто, – сердито оборвал мужик, показывая, что ему сейчас не до шуток. – В Шаблино и в Куракино они уже были с разведкой, что ли, а через реку пока не переходили… Днем, глядишь, и сюда нагрянут. Не успеем и ноги унести… Помогите, братишки, сундук вытащить… Тут все колхозные документы уложены…
Разумов и Любанский ухватились за ручки допотопного сейфа с одной стороны, Евгений и хозяин – с другой и выволокли ящик во двор. Как только его водрузили на подводу, хозяин распахнул ворота и погнал лошадей.
Все двери так и остались открытыми, словно хозяева больше не собирались вернуться.
Глава двенадцатая
До своего отъезда в армию Машенька старалась устроить судьбу брата самым лучшим образом. Она начала осаду его неприступной гордыни со всей хитростью, присущей только женщине. В тот вечер, когда Оксана была у них, Машеньке показалось, что брат неравнодушен к ней, и сказала ему о своих догадках.
Роман слушал сестру хмуро, но не перебивал. Машенька была довольна и этим. Она печально оглядывала темные углы подвала и думала, как украсить это сырое убежище, чтобы можно было приглашать гостей, подразумевая при этом Оксану. Художник иронически выслушивал фантастические замыслы сестры, но потом и сам увлекся ее предложениями.
Роман действительно любил Оксану, но не старался пробудить в ней ответное чувство. Допустим, думал он, что Машенька права. Но что я могу предложить Оксане? Жениться? Но разве может она жить в этом подвале? В этой жалкой обстановке? Заработок его был так неустойчив, что он все еще считал себя учеником, сам готовил обед, стирал сорочки. Оксана знает, что он талантлив, что он добьется успеха, но сегодня он настолько беден, что не имеет права говорить о любви.
Но Машеньку трудно было сбить с позиции молчанием. Она обругала брата мещанином, привела несколько примеров со знакомыми: вот художник Раков женился на дочери инженера, получил в приданое квартиру, жена создала ему условия, в которых развивается его талант.
В тот же вечер Машенька потребовала, чтобы Роман немедленно достал денег, а она приведет квартиру в приличный вид, чтобы не стыдно было приглашать гостей, а когда она уедет, он сможет приглашать Оксану. Говорила она это с такой верой в свои слова, что Роман Матвеевич вдруг оживился, начал перебирать свои старые картины, как будто и в самом деле поверил в несбыточное.
В среду вечером Ожогин, собиравшийся закрывать свой магазин, увидел, как к нему вошел молодой человек с очень гордым, независимым выражением лица. Преодолевая некоторое смущение, он назвал себя художником и сказал, что хотел бы предложить на комиссию несколько своих картин. Это был Роман Матвеевич Уваров.
– Картины? – спросил директор. – Но это сейчас не ходкий товар! – Он хотел что-то добавить, но лицо художника заинтересовало его, и он неожиданно сказал: – А ну, покажите…
Уваров развязал веревки и поставил на прилавок три картины.
Ожогин, как старая хитрая лиса, все угадывал нюхом. И действительно, лицо художника не обмануло его. Картины были прекрасны, он, слава богу, кое-что понимает в живописи, знает и новую западную живопись, знает и советских художников, но он и не предполагал, что в этой суматошной Москве может жить такой живописец. Он просто послан богом ему в награду за все хлопоты и страдания в тяжелые дни войны.
Притворившись дурачком, он кивнул на серебристый пейзаж и спросил:
– А сколько вы хотите за эти кустики?
Роман Матвеевич вздрогнул, сжал кулак так, что ногти впились в ладонь, с презрением взглянул на бородатого торговца и назвал сумму в два раза больше той, какую хотел назвать.
Петр Кириллович сделал испуганное лицо:
– Помилуйте, да за эти деньги можно купить не только кустики, а целый лес, среди которого можно построить дачу.
Художник, облокотившись на прилавок, слушал его с усмешкой.
– Позвольте, – возразил он, – еще дешевле срубить дерево, заплатив леснику пятьдесят рублей штрафа, а изловчившись, можно даже украсть бесплатно. Целое живое дерево, а не нарисованные кустики.
Нисколько не смущаясь таким ответом, Петр Кириллович поглаживал бородку тыльной стороной ладони, самодовольно улыбался. Да, перед ним был не простачок, а такой же цепкий, как и он, жук.
– Хорошо, если вы хотите по тысяче за картину, я беру одну, а если вы согласитесь отдать все за две – беру три. И даже попрошу принести еще…
Лицо художника искривилось от внутренней боли, но Ожогин знал, что он согласится, И действительно, узнав, что деньги можно получить немедленно, художник даже обрадовался.
Как только за ним закрылась дверь, Петр Кириллович позвонил знакомому мастеру и заказал багетовые рамы. Потом повез свою покупку на дачу, где хранил все ценные вещи.
Прогуливаясь из комнаты в комнату по своей большой даче, он искренне радовался, что в его коллекции прибавились новые и очень ценные картины.
Машенька скоро убедилась, как ошиблась она, думая, что и во время войны можно легко наладить спокойную жизнь. Хотя Роман и достал изрядную сумму, но оказалось, что во всей Москве нет стекол, а о масляной краске, о мастике для паркета нечего и думать. И Машенька приуныла. Она сама накрахмалила шторы, мечтала повесить их на чистые окна, мечтала, как во время тревоги они втроем будут пить чай: их подвал был не хуже бомбоубежища.
Она горевала только об одном, что скоро оставит брата одного… А зима предстоит холодная, как он ее переживет? Кто будет заботиться о нем?
Брат не разделял ее огорчений. Он по-прежнему утверждал, что все к лучшему в этом лучшем из миров. От этой примиренческой философии Машенька впадала в ярость.
– Что к лучшему? Что стекол в Москве нет?
– И то, что Оксана к нам больше не приходит, – спокойно отвечал Роман.
– Не приходит потому, что ни ты, ни я не приглашаем ее. И все из-за твоей мещанской гордости. Что ж, ты думаешь, что не достоин ее? Подумаешь, дочка профессора. Да тебя вся Москва знает. Твои картины в Третьяковской галерее висят.
– Пусть так, – спокойно отвечал Роман, – но все это аргументы для ума, а не для любви.
– А что же для любви нужно? Квартира в пять комнат? Автомобиль?
– Возможно, – ответил Роман, неторопливо оделся и пошел в сбой гараж.
Машенька знала, что капля за каплей камень точит, и последовала за братом.
Он даже не взглянул на нее, суровым молчанием предупреждая, что ей лучше уйти, но Машенька сначала села у камина, погрела руки, потом подсела к мольберту, взглянула на холст и вскрикнула от изумления.
Строгие складки на лбу Романа разгладились, он перевел прищуренный взгляд с холста на Машеньку, и глаза засветились сдержанной улыбкой. Он внимательно следил за ее лицом, стараясь определить успех своей картины.
– Кто это?
– Портрет одной девушки.
– Но это же Оксана в белом платье?!
– Нет, – сухо ответил он, – просто девушка в белом. Такие не часто встречаются и запоминаются на всю жизнь.
Она долго молчала, потом положила руку на его плечо и тихо сказала:
– Братишка, ты большой талант! – Взволнованно повернулась на каблуках и пошла по гулкому гаражу. – Если ты сейчас же не поедешь в Союз художников и не скажешь, что тебе нужна квартира, то я сама пойду. Слышишь? Я-то знаю, как надо получать квартиру. Уж я устрою им скандал! Пусть попробуют не дать. Я в Комитет по делам искусств пойду. Недопустимо, чтобы талантливый художник оставался на зиму в комнате без стекол.
– Не дури, не дури, – строго перебил Роман, отмывая и перетирая кисти. Он ждал, что она уйдет, так как не мог работать при людях.
Машенька не уходила. Тогда он снова заговорил:
– Во-первых, еще до войны комнату найти было так же трудно, как алмаз. А теперь столько домов разрушено, люди остались без крова. Им тоже нужно жить. Во-вторых, – продолжал он, видя, что его слова совсем не убедили сестру, – если я приду в Союз и скажу, что я не могу жить, не могу писать, потому что у меня нет необходимых условий, мне ответят коротко: «Не пиши!» Подумай, Маша, кому нужны мои картины? Кто заинтересован в том, чтобы я творил, создавал что-то значительное? Это нужно только тебе и мне, да еще любителям живописи, которые уж никак не виноваты в том, что у художника нет квартиры. Беда в том, что там, где ты думаешь искать помощи, сидят равнодушные люди. Хорошо еще, если они сами не художники, хуже, если они и сами пытались создавать искусство, а потом перешли на сочинение бумажек. Так-то вот, дорогая, без иллюзий… А теперь иди, занимайся своим делом и не мешай мне…
Машенька не сдавалась. Положила руку на плечо брата, склонила на нее голову, грустно сказала:
– Представь, Рома, вот я уеду на фронт и не вернусь… Что же ты будешь делать совсем-совсем один?
– Работать буду… Может быть, еще лучше буду писать. Мне будет тоскливо, я буду волноваться, думать, жива ли ты, конечно, буду страдать, но я не настолько эгоист, чтобы сказать: спрячься от войны…
Она отошла от него, потерла лоб, стараясь что-то припомнить, нежно посмотрела на его словно вылитое из бронзы лицо.
– Погоди, кто это сказал, ах да, кажется, госпожа де Сталь: «Слава честным людям!» – нагнулась к его лицу, выбирая, куда бы поцеловать, где поменьше колючек, поцеловала в лоб и убежала.
После «ожесточенной борьбы» с профессором капитан Миронов вышел победителем. И только отдавая последнюю дань уважения медицине, он согласился, чтобы из госпиталя до дому его сопровождала сестра. Но и здесь он победил, добившись, чтобы Строгову освободили от дежурства и назначили сопровождать его. Правда, дальше последовали неудачи, сестра усадила его, чтобы не трясло, рядом с шофером, а сама села в кузов, и всю дорогу они не могли разговаривать.
Лаврентий знал и улицу и дом, в котором она жила, и подвез ее прямо к подъезду. Она долго отказывалась идти домой, утверждая, что ее обязанность – доставить его на место. Но капитан не согласился, спросил номер ее квартиры, распрощался и уехал.
Поднимаясь на лифте в квартиру брата, он вспомнил, что сейчас его встретит мать, и они будут в одиночестве пить чай, потом он ляжет на кровать и уже не сможет позвонить, чтобы вызвать сестру. Как это глупо, что он не пригласил Оксану позавтракать.
Услыхав звонок, Екатерина Антоновна побежала к двери, шлепая туфлями, согнутая, дрожащая, приготовившись встретить санитаров, ведущих Лаврушу. Открыла дверь – и попятилась, испуганно прошептав:
– Ла-авренти-ий…
Распахнув дверь, он вошел, высокий, широкоплечий. И в прихожей стало тесно. Екатерина Антоновна прижалась к стенке, сложив руки под фартуком. Потом подбежала к нему, помогла снять кожаное на меху пальто, встав на цыпочки, едва дотянулась до его плеча. Ей показалось, что за время болезни Лаврентий стал еще выше ростом.
А он, с улыбкой наблюдая за ней, подумал, что за время войны мать как-то усохла, стала совсем маленькой, сморщенной.
– Твои любимые оладьи с яблоками уже готовы. Садись, сейчас подам. Или подождешь Люсю, она целое утро звонила, прибежит сию минуту.
– Ну подождем, – вздохнул он. Положил руки на стол, забарабанил пальцами, потом, словно отстучав какую-то мысль, спросил: – А как Иван?
Мгновение Екатерина Антоновна колебалась, что ответить, потом решила не расстраивать больного:
– Ничего, воюет.
Он испытующе взглянул на мать:
– Пишет?
Она не могла солгать, покачала головой и торопливо ушла на кухню.
Ждали полчаса. Екатерина Антоновна два раза подогревала кофе. Люси не было. Наконец позвонил телефон:
– Приехал Ларчик?
– Приехал, – ответила Екатерина Антоновна.
– Скажите ему, что я через секунду буду, только на минутку забегу в парикмахерскую.
Положив трубку, Екатерина Антоновна принесла тарелку горячих оладьев:
– Ешь, а то остынут. Она не скоро прилетит.
Лаврентий ел любимые оладьи и думал: почему они такие невкусные? В госпитале он мечтал о них, мечтал о тихой беседе с матерью за столом, а сейчас сидел, скучая, слушал о том, что жизнь с каждым днем становится труднее и труднее.
– Вчера целый день стояла за хлебом и не получила. Только подойдет моя очередь – тревога. Все разбежимся, потом снова встаю в очередь, опять тревога. Плюнешь, не побежишь, чтобы очередь не терять, так придет милиционер и силой прогонит в убежище. Придешь, опять становись в хвост.
Слушая мать, Лаврентий думал, чем ему сейчас заняться. Лежать он не мог, так как чувствовал себя почти здоровым. Читать? Книг не было. Он решил выйти на улицу, побродить, посмотреть Москву.
Его поразило обилие военных. Это встревожило: значит, фронт совсем близко. Уже заколочены витрины магазинов, длинные заборы закрывают разрушенные бомбами дома. Он прочел афишу: в театре Дома Красной Армии состоится премьера «Голубые орлы». Подумал – это, наверно, про нас. Взглянул на часы, было уже двенадцать, опоздал к началу, но решил поехать.
Для военных вход был свободный. Радуясь такому удобству, он вошел в зал и увидел, что в нем сидели одни только военные. Пьеса действительно была о летчиках, которые любили девушек, улетали выполнять боевые задания, возвращались, а некоторые даже и не возвращались на свой аэродром, погибали, но девушки оставались верны им. Все было верно, и пьеса очень понравилась Лаврентию. Понравилась она и другим зрителям, они смеялись, когда было смешно, и хранили суровое молчание, когда видели беду.
Лаврентий вышел из театра, закурил, огляделся, не торопясь, раздумывая, куда еще пойти, и вдруг увидел огромный плакат: «Выставка московских художников». Улыбнулся и решил продолжить знакомство с творческой жизнью Москвы.
В залах Дома Красной Армии, где разместилась выставка, было так тесно, что Лаврентий с трудом пробивался через толпу, в которой преобладали женщины и девушки.
На стенах висели портреты героев Отечественной войны, летчиков, снайперов, генералов… Но были и полотна батальных картин: «Парашютный десант», «Контратака». Пожары, сражения…
Медленный поток нес его из зала в зал. Вдруг впереди произошла какая-то задержка, толпа сгрудилась около одной картины.
Лаврентий протиснулся вперед и увидел портрет девушки в белом. Он с трудом удержал крик изумления, попятился к стене, стараясь скрыть охватившее его волнение. «Черт побери, говорят, что чудес не бывает! А что же это? Ее лицо неотступно следует за мной. Ведь не может быть это портретом сестры Строговой? Ее и в Москве-то не было. Когда художник мог нарисовать ее? Нет, это не она. У нее две морщинки на лбу, впрочем, это бывает заметно, когда она о чем-то сосредоточенно думает, а когда она спокойна, у нее вот такое же кроткое, улыбчивое лицо…» Если эта девушка не Оксана, то она вся, до капельки, та, которая живет у него в душе.
Лаврентий заметил, как бритый красноармеец о изумлением попятился от портрета, натолкнулся на другого, и тот сказал:
– Чего испугался, не твоя ли Дуся?
Боец сердито взглянул на него, потом лицо его просияло, и он ответил:
– Моя такая же.
На улице Лаврентий остановился в голом, хрустящем парке, не зная, куда идти, потом пошел домой, медленно, неохотно, будто в пустой номер гостиницы.
Когда Люся забежала на минуту в парикмахерскую поправить перекисью почерневший пробор, ее попросили подождать, так как все парикмахерши, маникюрши и косметички вышли на улицу насыпать песок в мешки, которыми надо было закрыть витрину.
Увидев, что другие ждут, Люся тоже решила подождать. Она села в холле за столик, где сидели все красивые женщины (красивые женщины знают, где им сидеть), и, держа в руках журнал, смотрела на военных. Военные, дожидаясь своей очереди, тоже смотрели на красивых женщин.
Через два часа она вышла из парикмахерской, прибежала сияющая к Екатерине Антоновне, но узнала, что Лаврентий еще с утра ушел из дому.
«Ага, он даже не подождал меня, – злобно подумала она, – вот доказательство, что он не любит меня. Но куда он ушел? К кому он ушел?» Разгневанная, она легла на диван и, чтобы не видно было ее лица, закрылась газетой. Ждала час. Муж не вернулся. В пять ей надо было отправляться на съемки. Считая себя самой несчастной женщиной, она поехала на кинофабрику.
И только за ней захлопнулась дверь, вошел Лаврентий.
Тихо пообедали, после обеда он по привычке заснул, а вечером, снова толкаемый каким-то смутным беспокойством, вышел на улицу. Темнота была такая, что даже ему трудно было ориентироваться на улице. Но он скоро привык к ней, стал различать встречных, если даже у них не было на груди светящихся фосфорических кружочков. Да, теперь Москва была непригодна для прогулок, все торопились скрыться в своих комнатах. А где же тот уютный дом, куда он идет? Мгновение – и он вспомнил и дом, и подъезд и заспешил, чуть не сбивая встречных.
В городе Оксана прежде всего решила повидать Митю. Елена сказала ей, что Митя почти не приходит домой и увидеть его можно только на заводе, и то в обеденный перерыв, в другое время к нему не пропускают.
Но на заводе она его не застала. Долго бродила из парткома в профком, в комсомольский комитет, пока кто-то не сказал, что Дмитрий Строгов вместе с другими комсомольцами уехал в райвоенкомат. Она терпеливо дождалась его, но поговорить им не пришлось, так как перерыв кончился и он торопился в цех. Оксана с трудом отошла от него: ей было жаль его, он похудел, глаза опухли от долгих бессонных ночей. Лицо загрязнено старой копотью, которая уже не отмывалась, покрыто морщинами. С горечью рассматривая его, она спросила, зачем он ездил в военкомат. Митя уклончиво сказал, что было дело, и немедленно перевел разговор на отца, спросил о госпитале.
– Если ты останешься в городе, я приду, – торопливо сказал он, – приготовь мне пожевать чего-нибудь побольше.
Оксана помогала Анюте приготовить немудреный обед, ровно в шесть прибежал Митя, все съел, ничего не рассказал о себе и опять уехал на завод.
Оксана загрустила, пропуская мимо ушей жалобы Елены на тяжелую жизнь, когда для того, чтобы получить сто граммов печенья, надо вставать в очередь с пяти часов утра. Она кое-как отвязалась от Елены и подошла к шкафу, раздумывая, что бы такое почитать. Хотелось отыскать что-нибудь тихое, вроде «Павла и Виргинии», но этой книги, к сожалению, не было. Тогда она взяла «Мартина Идена» Лондона, но с первых страниц вспомнила Романа Уварова, выронила книгу, прислонилась к спинке дивана. Закрыла глаза и увидела непоколебимое лицо молодого Бенвенутто Челлини. Подумала: как это странно, среди всей суеты где-то в подвале живет человек и создает то, что переживет войну, людей, тревоги и бедствия, как пережили все это картины Рафаэля. Когда произносят это имя, в нем видят эпоху, видят вечно живущую любовь и поклонение женщине. Кто сейчас помнит, какой герцог правил Урбино, когда там жил Рафаэль, но все знают дочь булочника Форнарину, чье грубое лицо художник превратил в мечту, в символ красоты и кротости. Да, великая вещь талант, может быть, поэтому так трудно жить такому художнику, как Уваров. Его любовь к уединению и покою принимают за отчуждение, его считают гордым. Он ненавидит заискивания перед влиятельными людьми, не любит происков, не ищет наград и поощрений, не терпит людей тщеславных, которые вечно стремятся выскочить вперед не по заслугам, а по знакомству, а он до беспечности равнодушен к славе. Он трудолюбив и верит в себя, знает, что может создать, и потому ходит с гордо поднятой головой, пусть она и не увенчана лаврами. Он может питаться сухарями, но быть счастливым от сознания неповторимости своего труда.
Господи, как было бы хорошо сейчас видеть его перед собой вот в этой теплой комнате, вот в этом уютном кресле. Он бы отдыхал от трудного дня, а я читала бы ему стихи.
Оксана вспомнила, какие у него обветренные руки, как он протягивал их к камину, который едва нагревался от слабого накала. Вдруг она услышала его гулкие шаги по пустому гаражу и, словно от физической боли, зажмурила глаза.
Шаги приближались. Оксана вскочила, обула туфли, побежала к двери. В коридоре стояла женщина в платке, с сумкой через плечо и громко разговаривала с Еленой.
– Все уже дежурили, – повышенным тоном говорила женщина. – Слава богу, вон уже сколько дней идет бомбежка, а вы ни разу не дежурили.
– Я больна и освобождена от дежурств, – холодно отвечала Елена. – Я подала в домоуправление справку от врача. У меня порок сердца.
– Справку! – вскрикнула женщина. – Знаем мы эти справки. Порок сердца! Да у тебя, голубушка, все пороки, кроме сердца. Лодыри вы, паразиты, всю войну хотите у рабочих за пазухой просидеть. Мы на фабрике по двенадцать часов работаем, а ночью на твоей крыше стоим, пожары тушим, чтобы тебе спокойнее спалось.
– Не кричите, пожалуйста, – тоже повысила голос Елена. – Я не позволю никому командовать в моем доме!
Оксана вздрогнула, прижавшись к стене. Женщина хлопнула дверью так, что задребезжала посуда на кухне.
– Вот хамка, – сказала Елена, приоткрыв дверь на кухню. – Анюта, идите вытрите здесь грязь, эта натоптала сапожищами.
Оксана еле дошла до дивана, уткнулась в подушки, закусив губу. Можно плакать при виде горя, но сейчас ей хотелось ругаться… «Дьявольщина, вот дьявольщина! Что же делать? Неужели война, кровь тысяч лучших, страдания миллионов ничего не изменят в этом мире, неужели не произойдет отбора достойных от презренных, неужели никогда не будут уничтожены подлецы и паразиты… Тысяча чертей, я бы послала Елену рыть окопы, я бы таких, как Елена, метлой вымела из Москвы…»
Она лежала, терзаясь от своего бессильного гнева, не слышала, как Анюта открыла дверь, сказала: «К вам пришли!» – не слышала шагов и, только когда Лаврентий нагнулся к ней, вздрогнула, почувствовав присутствие постороннего. Подняла лицо, смятое страданием, и некоторое время смотрела на Лаврентия, не узнавая его. Потом обхватила ладонями лоб, принужденно улыбнулась, кивнула на стул.
Лаврентий сел, чувствуя себя мальчиком, перед которым зажглась елка, молча смотрел на нее, улыбаясь большими добрыми губами.
Успокоившись, она спросила:
– Что-нибудь случилось? Вы себя плохо почувствовали или…
– Нет, нет, – перебил он. – Просто я завтра уезжаю на фронт, вот и зашел проститься…
Она кивнула – понимаю – и задумалась: что сказать ему на прощание?
Он заговорил о том, как соскучился без дела, как хочется поскорее в работу, как яростно он будет громить врага – единственное, что у него осталось в жизни.
Умолкнув, он потянулся к папиросной коробке, которую она вертела в руках, вдруг дотронулся до ее руки, неуверенно потянул к себе, потом схватил другую и уронил лицо в ее ладони. Оксана нагнулась, прижалась щекой к его волосам, прошептала:
– Дай бог, дай бог вам вернуться.
Глаза его помутились, он почти не видел ее, шептал исступленно:
– Что будет, что будет, когда я вернусь?
Она грустно улыбнулась:
– Не знаю.
– Увижу ли я вас?
– Конечно… Куда я денусь? Что со мною станет… Вы себя берегите. – И, все еще держа его руку, повела к двери.
Он замедлил шаг, старался задержаться. Прежде чем за ним захлопнется дверь, он должен сделать что-то решительное. Может быть, обнять ее крепко, на всю жизнь.
Но Оксана уже подала пилотку, шарф и, пока он медленно застегивал шинель, завязала шарф узлом, а когда машинально нагнулся, чтобы ей было удобнее завязать, она, чуть потянувшись, поцеловала его.







