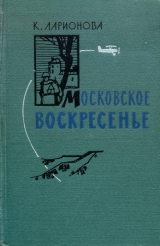
Текст книги "Московское воскресенье"
Автор книги: Клара Ларионова
Жанр:
Военная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 30 страниц)
– Как же это так, Ванюша, говорят, вы Смоленск отдали?
– И Ярцево, мама, и Дорогобуж… Лучше не спрашивай. – Он провел рукой по волосам, пальцами стиснул виски.
– Как же это так? – голос ее дрогнул, глаза заблестели. – Не годится это никуда. Ведь кругом смеются, говорят, наши бежали.
– Кто говорит? Кто смеется? – сурово спросил он.
– Известно кто, враги. Не годится, – повторила она плача. – Стыдно ведь…
Он сидел, опустив руки меж колен, сдвинув морщины над переносицей, потом обнял мать за плечи, вздохнув, стал уговаривать:
– Не долго им смеяться, не долго. Скоро заплачут.
– Объясни мне, Ванюша, как же это случилось? Ведь русские всегда были храбрые, почему же теперь бегут?
– Не бегут, мать, не бегут, – ответил он, болезненно морщась. – Это враги говорят, что бегут. Армия отступает… Я тебе потом подробно объясню, а сейчас давай что-нибудь закусим и отправимся к Лаврентию.
Он подошел к шкафу и загремел тарелками. Она следила за каждым его шагом и думала, что он только притворяется спокойным. Она задела его больное место, и он делает усилия, чтобы не думать о боли, видать, душа его так же оледенела, как и голова. И она поняла, что он оборвал разговор на той черте, за которую нельзя переступать ни с какими вопросами.
Он поминутно впадал в задумчивость. Расставляя тарелки, вдруг опирался на стол растопыренными ладонями и застывал.
– Ах да, забыл спросить, как там Фаина поживает?
– Фаина живет хорошо, работает в школе, по аттестату за тебя получает, хватает. А вот жена Лаврентия совсем свихнулась.
Иван покачал головой.
– Так, так, понимаю… Значит, не ужилась с ней.
Глубоко вздохнув, она задушевно сказала:
– Знаешь, Ванюша, сколько я видела горя? Уж я-то научилась всех понимать, всех прощать. Но я не могу видеть, я ненавижу паразитов. Я осталась вдовой тридцати лет, на мыльной пене вырастила вас, а ты хочешь, чтоб я ужилась с разряженной Дунькой московской? Нет, не вышло. Говорю прямо: не ужилась.
Он слушал, барабаня пальцами по скатерти.
– Не подумай, Ваня, что я из-за нее сюда приехала. Нет, я плюнула бы на все бабьи склоки, сейчас не до них, я не могла там отсиживаться, когда здесь воюют.
Сурово глядя на нее, он сказал:
– Знаешь, мать, здесь все-таки опасно. Здесь и убить могут.
– Э-э, полно, – отмахнулась она, как бы заканчивая разговор и подвигая к себе тарелку с селедкой, – смерти боится тот, кто ее не видал, а мы-то под ней с детства ходим. Из нищих вышли в люди. – И она начала спокойно и медленно закусывать. – А если вам будет трудно там, так я и на фронт пойду. Для нас война – дело знакомое. С кем только не дрались севастопольские моряки. Так-то вот, Ванюша.
– Ладно, – сказал он, поднявшись, сразу прекращая беседу, – пусть будет так, как ты хочешь. – Подошел к шкафу, лукаво оглядываясь на мать. – Тут у меня припрятана для особого случая.
Поставил на стол бутылку водки. Екатерина Антоновна неодобрительно посмотрела на него:
– В нашем положении уж лучше не пить, а то скажут – пропили войну.
– Довольно, мать! – перебил он, сурово взглянув на нее. – Понимаешь, хватит. Нынче каждая молочница стала о политике толковать. Всех слушать – оглохнешь.
Екатерина Антоновна и сама поняла, что довела сына до точки кипения, и поторопилась переменить разговор. Принесла из коридора свой дорожный мешок, положила его на колени и стала осторожно развязывать.
– Вот, смотри, десять тысяч с собой привезла.
Он удивленно отодвинулся от нее:
– Да ты не ограбила ли банк?
– Какое, просто продала барахлишко. Убьют – не понадобится, уцелею – наживу. Вот шубу только жалко, на лисьем меху, Лавруша еще купил, А продала ее за две тысячи.
– За две тысячи, – с изумлением повторил он, – мать, да ведь это же мародерство, ей цена пятьсот рублей.
Она усмехнулась:
– Что ты, Ванюша, совсем цен не знаешь. – Достав из мешка какой-то сверток, выложила его на стол: – Вот этот кусок масла для Лавруши купила за тысячу. Понял?
– За тысячу! – Он всплеснул руками. – Да мне месяц служить надо за эти деньги. Не покупала бы, разве можно так деньгами швыряться.
– Тоже сказал, – обиделась она, – бумажки-то Лавруша жевать не будет, а от маслица скорее полетит. Сохранить бы вас, а добро наживем, когда домой в Севастополь вернемся.
Оба замолчали, мгновенно в мыслях окинув и прошлое и будущее. Он первым оборвал это тягостное молчание:
– Ну, все переговорили, теперь давай выпьем.
Екатерина Антоновна поправила волосы, обтерла ладони об колени, грустно вздохнула:
– Не стоило бы, Ванюша, не такое теперь время. Да вот с горя разве и выпью немножко.
Глава пятая
Больной капитан Миронов приводил в замешательство профессора Строгова. Он обладал какой-то непонятной силой угадывать чужие мысли. Прошло дней десять после операции, и он сказал профессору:
– Видите, как все хорошо вышло, а вы и не надеялись, что я поднимусь.
Сергей Сергеевич почувствовал странную неловкость. Действительно, только чудо помогло уцелеть этому человеку.
– Я чувствую себя совершенно здоровым, – устало сказал капитан, – меня только раздражает шум госпиталя. Зачем это с утра до вечера гремит радио? Здесь я никогда не поправлюсь, мне надо домой.
– В Москве сейчас тоже очень шумно, – сказал профессор.
Задумчиво глядя в окно, больной ответил:
– Мой дом за Можайском, в лесу. Там сейчас шумят деревья, и чего только от них не услышишь. Одну бы только ночку под ними посидеть – и станешь, как мальчишка… Там по дремучим тропинкам ходит Емеля-охотник, там баба-яга стережет домик из пряников и леденцов, там медведь подходит к окошку, стучит и говорит: «Отдай мою лапу». Там сказки, сказки… – Больной потер лоб.
– Ох, доктор, что же вы мне не скажете, я надоедаю вам своим бредом. Пожалуйста, пошлите ко мне няню.
Через несколько минут с букетом красных кленовых веток вошла сестра.
Больной вздрогнул и прижался к стене, будто увидел привидение. Он ждал, что сейчас, шлепая туфлями, войдет санитарка и, вытирая руки о подол халата, спросит: «Вам утку?» Но вошло какое-то белое облачко, он не слышал даже ее шагов. Удивленный, он поднял плечи, старался отдалиться от этого видения. Руки его ослабли, он чувствовал, как раскрываются отвердевшие губы, дыхание замирает. И его охватывает странное, много раз испытанное ощущение чего-то нереального. Вот-вот, это он испытывал в детстве, когда хоронили отца. Вокруг гроба толпились изнуренные женщины вдовьей слободы, все одетые в черное. Вместе с его матерью они так плакали в церкви, что у него сердце замерло. Он отошел в сторону и тут, на стене, между двумя окнами, увидел девушку с нежным, розовым лицом, волосы с прямого пробора падали на плечи. Она посмотрела на него и ласково сказала: «Потерпи, мальчик, потом все будет хорошо».
Во время финской кампании, когда он, подбитый зениткой, выбросился с горящего самолета и замерзал в снегу, та девушка в белом снова пришла к нему и унесла его в госпиталь. Он тогда рассказал о ней Михаилу Шумилину, а тот смеялся, утверждая, что это была санитарка. Он начал разыскивать ее, но, кого ни спрашивал, все отвечали, что никакой девушки в этой части не было.
После болезни, еще на костылях, он был в гостях у своего лечащего врача и, гуляя с ним по лесу, вдруг опять увидел вдалеке девушку в белом. Он тогда схватил профессора за руку и почти лишился сознания. Потом он пытался объяснить профессору, что привело его в такое состояние, но профессор не понял его, сказал, что такие галлюцинации часто бывают от нервного переутомления. Но несколько дней назад в блиндаже за час до объявления тревоги, когда они играли в шахматы, Михаил Шумилин полез в карман за папиросами, достал бумажник и показал ему портрет своей невесты. Он только глянул, и у него потемнело в глазах – это была та самая девушка в белом, которая не покидала его всю жизнь. И вот она снова появилась. Теплая волна радости колыхнулась в нем, но в то же время странное оцепенение сковало его, стало так тревожно, что он не мог больше глядеть и закрыл глаза, зная, что сейчас же, как только он их откроет, видение исчезнет.
Он лежал с закрытыми глазами и чувствовал, как над ним проносился легкий ветерок, словно дуновение крыльев, потом слабая рука дотронулась до его груди, оставив след холодного прикосновения. Он открыл глаза. Девушка сидела перед ним на табуретке, улыбалась, добрые темные глаза грустно смотрели на него. Он собрал всю волю, как это делал в момент величайшего напряжения, и со всей решительностью заставил себя понять, что с ним происходит. Он видел букет красных кленов в стеклянном кувшине, в котором обычно подают воду, но он воду никогда не пил. Чтобы кувшин не стоял пустым, в него поставили букет. Реально и понятно… Но эта девушка в белом. Эти волнистые волосы на прямой пробор, белая косынка почти сползла на затылок… И это белое… От напряжения он сощурил глаза и ясно увидел белый халат медицинской сестры. Она сидела перед ним, держа в руках красную палочку. Он видел ее знакомую, подбодряющую улыбку, она словно повторяла: «Потерпи, мальчик, потом все будет хорошо». И по этой знакомой улыбке он понял: это прежняя галлюцинация. Вдруг он со всей реальностью почувствовал, что она наклонилась над ним и вынула термометр. Посмотрела, тряхнула им в воздухе, засунула в красный футляр, ни слова не сказав, вышла.
Лаврентий лежал и смотрел на пустую табуретку, на букет красных кленов и думал: «Если бы она сказала одно слово, я бы поверил, что это дежурная сестра, но сейчас я думаю, что это та самая девушка».
От волнения он ослаб, сердце так размякло, что он вытянулся пластом, закрыв глаза… Он услышал, как дверь распахнулась, со страхом открыл глаза и опять увидел ее. Когда их взгляды встретились, она сказала, наклонившись к нему:
– К вам сейчас придут, – и исчезла.
Его охватило прежнее оцепенение. Он решил усилием воли заставить себя уснуть, чтобы успокоить расходившиеся нервы. Плотно зажмурил глаза и, когда ему послышалось, что дверь снова раскрылась, еще тверже приказал себе уснуть. Кто-то прошептал над ним: «Лавруша!» Он открыл глаза и увидел мать.
Она была все такая же маленькая, худенькая, совсем как девочка, только лицо источено морщинами да вместо глаз две слезы. Сжав руки на груди, она смотрела на него. Он улыбнулся, с усилием произнес:
– Здравствуй, мама! – Сам с удивлением прислушался к своему голосу.
– Где болит-то, Лавруша? – дрожащим голосом спросила мать, подвигая табурет к его изголовью.
– Голова болит, но не очень. Терпимо. – Он поднял глаза на человека, вошедшего с матерью, увидел незнакомую седую голову, подумал, что это дежурный врач, взгляд его скользнул по военной форме, потом снова по незнакомому лицу, которое теперь улыбалось ему:
– Не узнаешь меня?
Лаврентий вздрогнул и закрыл глаза, тяжело передохнул, качая головой:
– Ох, Иван, Иван, что это с тобой произошло?
– Воюем, брат, воюем, – ответил Иван, опустившись на стул и положив на колени обветренные руки.
Екатерина Антоновна поторопилась оборвать тягостное молчание:
– Навещает ли тебя жена, Лавруша?
Лаврентий взглянул на нее пристальным взглядом, не отрываясь от своих мыслей, бессознательно спросил:
– Какая жена?
– Ну жена у тебя есть?
– Да, да, есть, – ответил он равнодушным тоном. – Нет, не навещает, я не хочу ее тревожить, вот поправлюсь и позову. Я совсем недавно пришел в себя, а то все лежал как чурка, без сознания.
В его голосе мать услышала большое затаенное страдание и заплакала.
– Ну, это ты напрасно, – угрюмо сказал Лаврентий, заблестевшими, сузившимися глазами глядя на мать. – Береги слезы. Горе только-только начинается.
Иван засмеялся, закашлял:
– Не расстраивай мать. Ни черта с нами не случится. Я уже в таких переделках был, что весь ржавчиной покрылся. Четвертый месяц под смертью хожу.
Лаврентий не видел брата с начала войны, но сейчас он мог представить весь путь, по которому прошел Иван, мог угадать все, что он пережил, что сделало его седым. Понимал, что расспрашивать его о боях нельзя, но дольше молчать было неудобно, и он между прочим спросил:
– Кто тебе сказал обо мне?
– Командир вашего полка.
– Как ты попал в Москву?
– Моя часть переформировывается. Переводят в резервную армию.
Больше Лаврентий не задавал вопросов, опасаясь, как бы Иван не начал рассказывать то, о чем он догадывался.
Повернувшись к матери, он стал расспрашивать ее об эвакуации из Севастополя, о жизни в Горьком.
– Напрасно из Горького приехала, напрасно. Жила бы себе спокойно, а тут одни тревоги. Черт знает что может произойти. Поезжай-ка обратно на Волгу.
– И не говори об этом, – твердо возразила мать. – Чтоб я вас сиротами здесь оставила? Нет уж, будем доживать вместе. Вот я уехала, а ты чуть не умер. Теперь не отступлю от вас ни на шаг. Разве вам легко без меня? Разве можно такую беду переносить без женщин? Вы у меня такие одинокие остались.
Лаврентий переглянулся с братом, оба вздохнули и подчинились воле матери.
После их ухода Лаврентий почувствовал себя здоровым и решил завтра же попросить, чтобы его выписали. Лес лучше всех лекарств поможет ему. Сейчас он уже не ощущал той слабости, которая утром доводила его до галлюцинаций. Теперь он видел и понимал все.
Он с улыбкой думал о непокорном характере матери и старался отогнать мысли о брате. Во время этих размышлений и вошла девушка в белом. Приблизившись все так же бесшумно, улыбаясь все той же доброй улыбкой, она протянула ему стакан.
Тут он решил не поддаваться больше галлюцинации. Поднявшись на локтях, глядя прямо в ее глаза, решительно сказал:
– Не буду пить это лекарство. Вы вчера его давали, оно очень горькое.
Она укоризненно покачала головой, словно уличая его в обмане:
– Вчера я не дежурила, я дежурила позавчера, когда вам было еще очень-очень плохо.
Лаврентий почти вырвал стакан у нее из руки и залпом выпил лекарство. Она одобрительно кивнула и молча стала удаляться.
– Маруся, принесите мне газеты! – крикнул он вдогонку.
Остановившись у двери, она сказала:
– Меня зовут Оксана… Газеты читать вам профессор еще не разрешил.
Лаврентий оттолкнулся от подушек, сел и вдруг улыбнулся изумленно и радостно.
Глава шестая
Евгений открыл квартиру собственным ключом и, когда увидел, что никого в доме нет, сбросил на кресло пальто, подошел к роялю и заиграл что-то тревожное, что переполняло его душу и вырывалось наружу. Он играл долго и не заметил, как вернулись домашние.
В ожидании обеда Сергей Сергеевич принялся просматривать газеты, но потом отложил их, морщась, слушал музыку Скрябина. Он не любил Скрябина, он не любил теперь ничего, что казалось ему незавершенным, и его огорчало, что именно в такой момент, когда решается судьба Евгения, он играет Скрябина, это значит, что в душе у него не все спокойно, многого главного, а может быть, и основного им еще не постигнуто. И это заставляло его беспокоиться о сыне. Если бы Евгений играл Шестую симфонию Чайковского, обнаружив свою зрелость, свое завершение, он был бы спокоен. А сейчас он чувствовал, что в голове у Евгения туман, как будто он не отдает отчета в том, что оставляет позади и к чему идет. Как будто его ведет вперед не разум, а вот такой же вихрь чувств, смятение души.
Оксана в своей комнате тоже слушала музыку Скрябина, сидела, вытянувшись в кресле, закусив губу, глядела на потолок, в котором расплывалась лучистая тень люстры. Сидела бездумно, отдавшись полету «Поэмы экстаза». Блуждающий взгляд ее скользнул по стене и остановился на портрете Михаила. Она взглянула на него и задохнулась с прикушенной губой: «Боже мой, не могу привыкнуть, не могу поверить, что его больше нет. Нету совсем, совсем».
Она уронила голову на руки и снова стала впитывать тревожную музыку. Вдруг она услышала стук в дверь. Вошла подруга Машенька Уварова. За нею, смеясь, вошел Евгений, и Оксана сразу поняла, зачем и для кого Машенька пришла. Машенька и не скрывала этого. С лету поцеловав Оксану, она отвернулась к Евгению и сказала, что брат прислал ее попросить разрешение сделать его портрет.
Евгений засмеялся, переглянулся с Оксаной.
– Польщен предложением вашего брата, очень высоко ценю его талант и с удовольствием стал бы позировать ему, но не могу, завтра уезжаю на фронт.
Машенька искренне огорчилась. Чтобы успокоить ее, Оксана положила руку на плечо брата, сказала:
– Идем, поиграй нам на прощание.
Но Евгений уже отыграл, что ему нужно было, и теперь мог только побренчать для развлечения девушек. Он сел за рояль и, весело подмигивая Машеньке, стал играть «Картинки с выставки». Увидев, как просияло ее лицо, он и сам засиял. Подпрыгивал на стуле, светлые кольца его волос взлетали облаком, он взмахивал руками, словно готовился улететь вслед за звуками.
Машенька влюбленными глазами следила за ним и думала, что он не похож на других, он словно из другой, из пушкинской эпохи, весь в мечтах, в звуках, в романтическом ореоле.
Через полчаса, спрятавшись в комнате Оксаны, Машенька взволнованно говорила:
– Я восхищаюсь твоим братом. Мне казалось, что все артисты чужды благородных порывов, что это черствые, эгоистичные люди, и я рада, что Евгений не похож на тех, которых мне пришлось наблюдать. Сколько их приходило к Роману, они заказывали свои портреты, говорили с ним пренебрежительным тоном, пока он был неизвестен, а потом заискивали перед ним и переносили молча то презрение, которым Роман расплачивался с ними. Они все выносили, притворяясь идиотиками… Вот почему я никогда не уважала артистов. А Евгений доказывает, что только большие люди, с большим сердцем и душой, способны на хорошие дела… – И бросилась обнимать Оксану, расточая не ей предназначенную ласку. Оксана, желая охладить ее пыл, строго сказала:
– Смотри, у него жена ревнивая.
– Но я не хочу отбивать его у жены, – обидчиво ответила Машенька. – Мне кажется, что большие артисты принадлежат народу, а не жене, все могут восхищаться ими.
Оксана решила переменить тему и спросила Машеньку, как поживает ее брат.
– Превосходно, – сухо ответила она, – он только удивляется, почему ты забыла о нем.
– А ты что ему сказала? Машенька передернула плечами:
– А что я могла ему сказать? Я сама не знаю.
Лицо Оксаны стало угрюмым, она сурово взглянула на подругу, с обидой сказала:
– Но ты же знаешь, что я с утра до вечера занята в госпитале. Ты же знаешь, что я редко приезжаю в город… Ты могла бы сказать ему, что я вовсе не забыла его.
Машенька не ответила.
Вечером и Петр Кириллович пришел проститься с Евгением. Сердито войдя в кабинет, он обрушил свой гнев на Сергея Сергеевича:
– Неужели вы тоже потеряли рассудок? Как же это вы отпускаете парня? Ну, у него может быть закружилась голова от военной романтики, но вы-то знаете, что такое война, там убивают насмерть.
Несколько минут назад в душе Сергея Сергеевича темной волной колыхнулось сомнение насчет сына, принесет ли он пользу на фронте, но от первых же слов Петра Кирилловича все в нем запротестовало.
– То есть как это романтика? – сурово спросил он. – Человек идет выполнять свой долг, а вы говорите – романтика. И я бы на его месте так же поступил, и все честные люди.
– Не горячись, – перебил Петр Кириллович, – расскажи толком, до чего же мы дошли, если на фронте понадобились музыканты? А где же кадровая армия? Вы скажете, она разбита, но тогда что же могут сделать эти скрипачи? Скажите мне, до чего мы довоевались, когда немцы уже к Вязьме подходят? Может быть, и нам с вами идти в народное ополчение, кипятить смолу в котлах да поливать врага?
– Понадобится – и пойдем, – коротко ответил Сергей Сергеевич, уже окончательно освобождаясь ото всех сомнений и страхов за сына.
Вошла Елена, и отец обратился к ней:
– Ты чего глядела? Как допустила, чтобы Евгений сошел с ума?
Елена Петровна неуверенно, заученными словами ответила:
– Когда Отечество в опасности, дело чести каждого гражданина идти защищать его.
Петр Кириллович метнул на нее уничтожающий взгляд:
– А если убьют? Хорошо, что у тебя детей нету, а если бы были? Что бы ты стала делать? Дурачье, как есть дурачье… Благодарение богу, человека не мобилизовали, правительство бережет таланты, так по доброй воле полез в пекло.
Сергей Сергеевич решил прекратить этот тягостный монолог, встать и молча уйти в столовую, но потом все-таки сказал назидательно:
– Советую вам обдумать то, чего вы еще не поняли, и ни в коем случае не осуждать, чтоб потом не краснеть за свои ошибки и не раскаиваться за неверные суждения. – И вышел.
Оксана с подругой уже сидели за столом, Сергей Сергеевич решил было присоединиться к ним, но вспомнил о госте в кабинете, вернулся, примиряюще сказал:
– Идемте пить кофе.
Петр Кириллович молча сел к столу, изредка бросая неодобрительные взгляды на Евгения. Сейчас голубые прозрачные глаза зятя как-то особенно светились, казалось, стоило только заглянуть в них, и можно было проглядеть Евгения насквозь.
– Я не могу со всей душой играть для любителей, – говорил Евгений, – я знаю, что они восторгаются, сидят зачарованные, как соловьи, закрыв глаза, но в вестибюле облагораживающее влияние музыки мгновенно улетучивается, они снова как деревянные и стремятся ценой сломанных ребер пробраться к вешалке. Когда же я играю для бойцов, я знаю – музыка застывает у них в крови, остается в душе. Для них я берегу вдохновение.
Петр Кириллович заметил, с каким восторгом все слушают Евгения. Он тоже понимал, что Евгений талантлив, может быть, даже гениален, но что будет делать на фронте этот голубоглазый, кудрявый архангел? Приходится только разводить руками, но говорить ни с кем нельзя. Не поймут.
К девяти часам бурей ворвался Дмитрий, схватил в объятия брата и чуть не задушил.
– Женька, Женька, как я тебе завидую! Понимаешь, три раза ходил в военкомат, не берут. Инженеры, говорят, нужны здесь, на заводе. А разве можно оставаться на заводе, когда враг обнаглел и прет по нашей земле. Сейчас нужно пойти всем, надо загородить ему дорогу. Ей-богу, будь моя воля, я бы закрыл все заводы и приказал: «Взять винтовки – и на фронт!»
– А чем бы стали драться? – улыбнулся Сергей Сергеевич.
– Чем драться? – Дмитрий на минуту задумался. – Нашли бы чем! Как ты думаешь, папа, ты бы пошел?
– Я и так пошел, а вот тебе советую обождать, – ответил Сергей Сергеевич.
Дмитрий грустно вздохнул:
– Ну вот, и в военкомате говорят: обождите. До каких же пор ждать?
– Митя, Митя, – укоризненно сказал Сергей Сергеевич. – Давайте прекратим разговор о войне. – Он обернулся к Машеньке с дружеской улыбкой: – Вот Мария Матвеевна расскажет, какие подвиги она совершила на трудовом фронте.
Машенька охотно повторила свой рассказ о том, как работали студенты геологического института на укреплении рубежей. Вспоминая эту работу, она хотела теперь показать ее тоже в каком-то героическом свете, чтобы приблизить свои чувства к чувствам Евгения и в то же время возбудить зависть в Мите, который слушал ее раскрыв рот.
И она рассказывала, как они строили доты, рыли противотанковые рвы, вырезали эскарпы на склонах рек и высот, рассказывала, все время не спуская глаз с Евгения как с соучастника, словно бросала вызов другим – вот что мы сделали для Родины, а что сделали вы?
Митя с виноватым видом, опустив глаза, мешал ложечкой кофе и напряженно жевал печенье. Оксана наблюдала за Евгением, который сидел с молчаливой улыбкой в небрежной позе, как могут сидеть только очень уверенные в себе и в своей значимости люди. Высокая шея поднималась из отложного воротника сорочки, спокойный, тихий, он все время прислушивался к чему-то, что было незаметно и неслышно другим в этой комнате. Оксана смотрела на него и думала: «Лучше бы я пошла на фронт, из меня скорее бы вышел боец». Она смотрела на него с грустью и сожалением, мысленно прощаясь с ним и боясь подумать об этом.
На другой день Оксана с трудом вырвалась из госпиталя. Дома узнала, что все уже уехали на вокзал провожать Евгения, и, боясь опоздать, побежала на улицу.
Посреди улицы шли колонны. Хотя люди были одеты в штатское, шли они строем, видно было, что это бойцы направляются на вокзал. И Оксана внимательно разглядывала их, стараясь отыскать брата.
У вокзала патруль задержал Оксану, хотя она и объяснила, что провожает брата. Ее все же попросили отойти в сторонку. Вдруг кто-то взял ее под руку и провел вперед.
– Это моя сестра, пропустите!
Оксана обернулась и увидела военного.
– Сестра из госпиталя, – сказал он, – я вас сразу узнал. Вы лечите моего брата. – Обернулся к идущей рядом старушке и спросил: – А ты, мама?
– Как же, как же, я тоже узнала. Лавруша все время про вас говорит… Если бы не вы, говорит, ему бы и не выжить…
– Ну, очень рада, – улыбнулась Оксана, – правда, это совсем не так… У капитана Миронова твердый характер, он выжил одним усилием воли, и я здесь ни при чем…
На перроне плотная шумная толпа окружила их. Оксана испуганно смотрела по сторонам, с отчаянием думая, где же она найдет здесь брата? Решила снова обратиться за помощью к Миронову.
– Понимаете, – озабоченно оглядываясь, сказала она, – я пришла провожать брата и не знаю, где теперь найти его. Он ополченец.
– И в этом могу помочь, – сказал Иван Алексеевич, энергично пробиваясь через толпу.
Оксана увидела у вагона девушек, женщин, да и мужчины были одеты совсем не так, как полагается отъезжающим на фронт. И еще издали услышала голос Елены Петровны. Елена стояла у окна вагона, держа в руках огромный кожаный чемодан, спутник отца по заграничным поездкам, и умоляла Евгения взять его, а Евгений отмахивался, указывая рукой в глубь вагона:
– Загляни, загляни, где же я его поставлю? И куда я его дену, когда пойду в бой?
Елена Петровна удивленно заморгала, казалось, она даже забыла, куда провожает мужа. По старой привычке она уложила в чемодан только самые необходимые вещи, без которых он не мог выезжать даже на однодневную концертную поездку, а теперь, когда он уезжает не известно на сколько времени, он вдруг отказывается брать их. Она обернулась к подошедшей Оксане и жалобно сказала:
– Не берет. Уговори его.
Увидев Оксану, Евгений выпрыгнул из вагона и стал знакомить ее с какими-то людьми, которые плотной стеной стояли вокруг Сергея Сергеевича. Один из них, высокий, с розовым бритым лицом, одетый в английское бобриковое пальто с шотландским шарфом, завязанным франтоватым узлом, особенно учтиво раскланялся с Оксаной и даже поцеловал ей руку.
Она удивленно посмотрела на всех и шепнула Евгению:
– Это что ж, твои поклонники тебя провожают?
– Товарищи по отряду, – важно ответил брат. – Вот этот, в синем пальто, актер Любанский, а тот вон, в стеганом бушлате, рабочий, у него смешная фамилия – Сарафанкин, тот вон, высокий, в очках, писатель Разумов, а рядом с ним, в берете, парикмахер Жорж из Метрополя.
С улыбкой оглядывая всех, Оксана сказала:
– Ей-богу, мне даже грустно, что я не еду с вами.
Она сказала это совершенно искренне, заразившись воодушевлением отъезжающих, словно никто из них в эту минуту не думал, что они едут навстречу смерти.
Лишь одна Елена Петровна стояла со слезами на глазах и, как только ловила взгляд Евгения, настойчиво твердила:
– Возьми хоть одеколон, зубную щетку, самое необходимое…
– Я уже взял самое необходимое, – раздельно и с раздражением сказал Евгений, – я взял винтовку… И не приставай больше, ну скучно же терять время на эти ненужные разговоры…
Тут Оксана пришла к нему на помощь, взяла за руку и подвела к Миронову:
– Позвольте представить вам моего брата.
– А мы уже знакомы, – сказал Иван Алексеевич. Но Екатерина Антоновна сейчас же обняла Евгения и строго сказала сыну:
– Смотри, Иван, убереги его… Помни, что они спасли нашего Лаврушу! – Она с горячим порывом снова обняла Евгения, потом стала жать руки Оксане, Сергею Сергеевичу. Словно следуя ее примеру, Елена Петровна бросилась обнимать командира, как бы желая заранее заручиться его любовью к Евгению, боясь просить, чтобы он уберег его, но надеясь, что он и без слов поймет ее просьбу.
Минуты прощания истекали, но ничто не менялось в людях, все так же были оживленны лица провожающих, все так же торжественно уверенны лица отбывающих на фронт, и Оксана поняла, что сейчас и позже, когда поезд отойдет, у всех останется нерушимая вера в скорую встречу. Боясь произнести вслух лежащие у сердца слова, она махала рукой вслед уходящему поезду и шептала горячо, страстно, как шепчут молитву; «Возвращайтесь с победой!»







