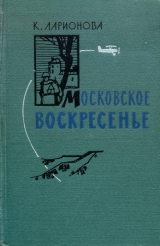
Текст книги "Московское воскресенье"
Автор книги: Клара Ларионова
Жанр:
Военная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 30 страниц)
Глава седьмая
Этот сад давно манил его, и вот он наконец выбрался на знакомые аллеи, брел, опираясь на палку, прислушиваясь к шелесту листьев. Он с восторгом следил за полетом птиц, за вереницей старых лип, которые длинной процессией спускались к озеру. По озеру бежали серые волны, над ними в багряном пламени метались ветлы, алые узкие листья их усыпали зеленую скамейку, на которую он присел.
Лаврентий чувствовал такой покой в душе, что всему радовался, тихо улыбаясь и волнам, и листьям, и ветру. Достал из паутины, прильнувшей к скамейке, красную куколку в деревянном чешуйчатом чехле, потрогал за кончик – шевелится. Весной вылетит бабочка. Боже мой, что здесь будет весной! Как заполыхают эти кусты сирени, эти шпалеры шиповника! И он все это увидит, теперь он уверен, он знает! Правда, увидит не здесь. Он будет далеко отсюда будущей весной. Отсюда уйдет совсем другим человеком, заново начнет свою жизнь, как будто ему восемнадцать лет, так полна и покойна его душа. И Лаврентий научился охранять этот покой. Когда видел что-нибудь такое, что могло омрачить его настроение, поступал очень хитро: закрывал глаза и погружался в свою внутреннюю тишину. Он не ворчал больше, когда хрипело радио или входила, шлепая туфлями, рябая санитарка, мгновенным усилием он как бы выключал все неприятное. Так вот уже два дня он не видел стен своей палаты, всеми мыслями жил в этом утихающем саду.
Через час, когда в саду было все уже осмотрено, он тревожно зашагал по аллее, вдруг подумав о том, что все его товарищи забыли о нем, ни разу не навестили его в госпитале. Мысли его вырвались из шелестящего сада и улетели туда, на подмосковный аэродром. Он явственно услышал гул самолетов, вылетающих на задание. И горячая дрожь охватила его.
Теперь он сердился на друзей, которые покинули его здесь одного, словно совсем исключили из строя. Он вспомнил все ссоры с товарищами, когда отворачивался от их надоедливого шума и замыкался в себе. Но все же он терпеливо сносил все колкости, направленные в его адрес. Они называли его «джентльменом», зубоскалили, острили насчет его аристократического отчуждения, а он старался не замечать их чудачеств, не слушать вздора, который они несли, не замечать крайностей, которые они позволяли. Конечно, он с некоторым высокомерием относился к тому, что они давали ему прозвища и смеялись над ним за его спиной. Он старался быть вежливым и добродушным и теперь никак не мог понять, почему они забыли о нем, неужели они не могли простить ему тех маленьких слабостей, какие у него, может быть, и были, но он же прощал им все.
До войны бывало, что он порицал товарищей за то, что они мало учились, ограничивались только интересами своей профессии, торопились жить лишь внешними впечатлениями, как будто хотели подчеркнуть, что жизнь летчика коротка, зависит от случайностей, и не стоит усложнять ее… Но Лаврентий-то не мог так думать! Он знал, что кроме личной жизни есть еще огромная жизнь мира, ее нужно знать, понимать, а самое главное – защищать. И порой, пытаясь передать товарищам свои мысли, он не сдерживался в выражениях, бранил их за легкодумие, а они огрызались, как веселые щенки.
Он так и не утвердил ни своей воли, ни авторитета, когда началась война.
Лаврентий навсегда запомнил первый бой. Как эти молодые ребята горячились, сколько жертв понесли из-за своей горячности. Но в то же время он видел их гневное бесстрашие, когда вместе с ними вылетал вдвоем или втроем против десятка истребителей врага, шел на превосходящего противника в лоб, сжигал, сбивал, уничтожал, а вернувшись благополучно на аэродром, стоял в почетном карауле у гроба товарища, так и не успевшего выучить английский или французский, не прочитавшего, должно быть, ни Шекспира, ни Сервантеса, томики которых Лаврентий давал ему. Но воевал он хорошо!
Неужели эти парни совсем забыли его? Они так нужны ему именно сейчас, когда он выпестовал наконец самые глубокие свои мысли о смерти и бессмертии и, как ему казалось, понял причины всех неразумных поступков, может, просто, без огорчающих нравоучений, рассказать друзьям о том, как он научился беречь жизнь.
Желтое солнце растаяло за березовой рощей, а он все сидел и думал, думал.
А в кабинете профессора происходила буря. Его осаждали один за другим настойчивые посетители. Он с трудом доказывал летчикам, что больного сейчас беспокоить нельзя, особенно им: они одним своим видом могут взволновать его, а ему нужен покой. Летчики в конце концов согласились с профессором и уехали. Потом приехала маленькая златокудрая женщина, не слушая никаких доводов профессора, сняла шляпку и сказала, что она не уедет, не повидавшись с мужем. Ее проводили в приемную, где она терпеливо ждала, пока больной закончит прогулку.
Женщина сидела за круглым столом, разглядывала себя в зеркало. Поправила локоны, попудрилась, покрасила губы, через секунду решила, что слишком ярко, стерла краску, запудрила губы и нарисовала снова… Соскучившись, она хотела было подойти к стене и прочесть стенгазету, но побоялась дежурного, угрюмо сидевшего у двери.
Наконец стеклянная дверь из сада открылась, и вошел, опираясь на палку, высокий человек в коричневом халате из фланели. Он шел, щурясь от электрического света, глядя вперед на широкую лестницу с красным ковром, но тут внимание его привлек шум стула, он посмотрел налево и увидел женщину, поморгал, будто вспоминая что-то, потом произнес неуверенно:
– Люся?
Она встала, как только хлопнула дверь, но не узнала его, она думала, что он придет на костылях или его приведут под руки, ведь так долго не соглашался этот знаменитый профессор допустить ее к нему, и вдруг она увидела его совершенно здоровым, даже чуть-чуть румяного, с живым взглядом мутно-синих глаз, таких знакомых, таких памятных. Он шел, легко опираясь на палку, как дома после прогулки. Люся увидела, но, шагнув к нему, не решилась окликнуть и, только когда он узнал ее, бросилась к нему на грудь, поднявшись на носки, обвила руками его шею и горячо зашептала что-то.
Он так растерялся, что сначала попятился, делая усилие, чтобы высвободиться из ее рук. И Люся, словно почувствовав это, с недоумением взглянула на него, тогда он перевел взгляд на вахтера, торопливо сказал:
– Ну идем, идем ко мне…
И она, взяв его под руку, стала подниматься с ним по лестнице, беспрерывно шепча: «Лаврик, Лавруша, Ларчик мой!»
Он ввел ее в палату, оставил у двери и, пятясь в глубь комнаты, с изумлением осматривал ее, Люся смутилась, ей показалось, что смешно выглядит в больничном халате, торопливо сбросила его, одернула платье, прощупала пуговички, все как будто было в порядке, но она все же ощущала на себе его странно внимательный взгляд. И она не осмелилась подойти к нему, обнять снова. Присела на табурет и, от смущения хлопая перчатками по ладони, смотрела на него и ждала, что он скажет.
Прислонившись спиной к окну, подперев кулаком подбородок, он смотрел на нее, по привычке щурясь.
– Что ты на меня так странно смотришь? – спросила она, не выдержав молчания. – Не узнал?
– Да, не узнал.
– Я изменилась за это время?
Он покачал головой. Ответил с длинной паузой:
– Ты – нет. Я изменился.
Да, сейчас он впервые увидел, что перед ним была стандартная женщина, каких встречаешь на каждом шагу, вся химическая, вся сделанная, будто сошла с конвейера ателье мод. Даже лицо чужое, где надо – розовое, где надо – белое. Черные глаза с длинными ресницами, как лапы паука, казалось, сними их с лица, положи на стол – и они поползут… Красный рот, круглый, словно она зажала в зубах черешню. И тут же вульгарный, бесформенный, как картофелина, нос, но все это так ловко закрыто черно-бурой лисой, что раньше он, встречая таких девушек в кино, в ресторанах, на улицах, и не замечал, до чего же они, в сущности, вульгарны. А сейчас то ли отвык, то ли глаза как-то особенно просветлели или оттого, что в голове все время присутствует образ какой-то особенной девушки, сейчас он не мог смотреть на эту розовую маску, не мог представить – как же ее целовать?
Люся решила, что за время болезни он просто отвык от нее и теперь надо снова приучать его к себе. Она улыбнулась, обнажив все зубы, шагнула к нему, но он подвинулся вдоль стены и сел на кровать. Она села рядом, взяла его руку и начала гладить, опустив глаза и шевеля черными загнутыми ресницами.
Она рассказывала, как ей повезло – ее пригласили сниматься в военной комедии. Ей совершенно волшебно повезло, так как забелела жена режиссера и роль досталась ей. Но теперь новая беда: вся кинофабрика должна переехать в Алма-Ату, там будут съемки, и это ее огорчает, она не знает, как поступить – уехать или остаться?
– Мне не хочется оставлять тебя после болезни одного, теперь тебе нужен заботливый уход.
Долго молчавший Лаврентий вдруг встрепенулся:
– Конечно, уезжай. Я в Москве один не останусь. Я вообще в Москве не останусь. Я сейчас же из госпиталя в часть, на фронт.
Слушая ее, он чувствовал, как в нем утверждалось возникшее отчуждение. Он понимал, что это совсем чужая женщина, за которой вот уже несколько минут он наблюдает с равнодушным любопытством. Отчетливо и ясно видит, что между ними, как говорят, лежит пропасть, он мысленно назвал эту черту отчуждения противотанковым рвом. И возникшее минуту назад еще не продуманное решение сейчас утвердилось. Да, он не вернется домой. Да, он уедет на фронт.
– Обязательно поезжай, – твердо сказал он, уже решив, что переедет к Ивану и будет жить с матерью.
Она не скрывала радости. Она ждала упреков, подозрений, ревности, и вдруг все так чудесно устроилось: он охотно шел навстречу ее желаниям, не задерживал ее в главный момент ее жизни, с которого начинается карьера.
С восторгом она обняла его и поцеловала в мягкую щеку, удивляясь его тщательно выбритому, нежному лицу, раньше оно было обветренно, грубо, иногда и совсем не бритое. Всего только час назад она со страхом думала, что, может быть, она – несчастная женщина, муж ее – калека, и ей предстоит влачить с ним жалкое существование. Но теперь такое неожиданное счастье! Ее муж такой милый! Когда она с ним, ей даже не хочется глядеть на других мужчин, они просто не существуют для нее, она твердо знает, что лучше ее Лаврика никого нет.
– Я приду тебя навестить в воскресенье? Что тебе принести?
Подняв глаза к потолку, он задумался, потом, вздохнув, сказал:
– Коньяк теперь я не пью, значит, ничего не нужно…
Он заметил, как блеснули ее глаза, она явно обрадовалась, что с нее сняли заботу доставать что-нибудь для него… Он знал, как приятно ей слышать, что от нее ничего не требуют, так как сама она привыкла требовать многого.
– Извини, я заболталась, наверно, утомила тебя.
Он поднялся, чтоб проводить ее, почувствовал, как осторожно, чтоб не смазать краску с губ, она дотронулась до его щеки, кивнул, как бы благодаря за ласку, и, глядя ей вслед, подумал, какое у нее вульгарное лицо.
Глава восьмая
С той поры как Евгений уехал на фронт, Оксана жила в каком-то тягостном волнении. Раньше у нее было тревожно на душе оттого, что другие воюют, а она спокойно живет за их спиной, но теперь она переживала такую гордость, как будто сама принимала участие в борьбе, если и не лично, то все-таки один представитель их семьи стоит в огненном ряду и прикрывает живущих здесь. Со дня на день она ожидала важных сообщений. Если раньше дела на фронте были плохи, то теперь они должны измениться. Подошло подкрепление.
По утрам она с трепетом включала радио в надежде услышать о переломе в войне, о нашем наступлении, но сводки Совинформбюро были все так же тревожны, и ей оставалось утешать себя тем, что подкрепление еще не дошло до фронта. Возможно, завтра мы услышим совсем другое.
Но день за днем сообщения с фронта становились все тревожнее. Слухи обгоняли радио. По слухам, немцы уже заняли Вязьму, перебросили на Западный фронт еще двадцать дивизий и теперь движутся к Можайску.
Писем от Евгения не было. В госпитале появлялось все больше и больше раненых. Они рассказывали о боях, о танковых колоннах противника, которые распарывали нашу оборону. Все чаще и чаще употреблялись слова, рожденные этой механизированной войной: окружение, прорыв, обход. Так же часто и страшно звучало слово «десант». Рассказывали о десантах, выброшенных в ста километрах от фронта, десантах с танками и пушками, которые сыпались с неба и стреляли по тем, кто пытался организовать сопротивление. Оксана видела, что рассказчики, вспоминая или придумывая эти истории, сами пугались того, о чем говорили, и это действовало на нее, как действует приближение бури на птицу. Но вдруг кто-нибудь из раненых сурово прикрикивал на говоруна, тот замолкал, потом начинал оправдываться, что не так уж страшен черт, как его малюют, кто-нибудь вспоминал смешной эпизод, из которого явствовало, что немцы – такие же люди, и даже трусливые. Напряжение разряжалось, снова громко говорили о русской неустрашимости, смекалке и ловкости, становилось легче жить и дышать.
Особенно поддерживало Оксану то, что большинство раненых, которые уже испытали на себе, как страшен враг, все-таки просились обратно в свои части, хотя даже и не знали, существуют ли они еще.
Оксане хотелось поблагодарить всех этих простых людей, которые вселяли в нее твердую уверенность, что, сколько бы враг ни ходил по нашей земле, сколько бы ни хвастал своей нечеловечьей силой, он все равно будет разбит. Это придавало ей бодрость. Правда, она уставала в госпитале почти до обморока и в то же время гордилась своей работой, к которой совсем уже привыкла, будто всю жизнь была сестрой.
Но ощущение приближающейся беды не покидало Оксану. Она видела, как отец, смертельно усталый, возвращался домой, запирался в кабинете и не выходил к обеду. Митя совсем не приезжал из города, он теперь жил на заводе, в цехе, выполнял фронтовые заказы. Изредка, соединившись по телефону с сестрой, он удивлял ее новыми терминами: казарменное положение, фронтовая бригада, боевая вахта. Если Оксана не понимала этих слов, он сердился на нее и начинал объяснять, что у них на заводе то же, что и на фронте, что они куют победу и что они ее обеспечат.
Когда Оксана оставалась одна, тревога и волнения охватывали ее так сильно, что она не находила себе места. Сегодня она решила вырваться в город, чтобы повидать друзей, чтобы поговорить с ними…
Она с трудом разыскала Уваровых. Дом их был разрушен, и их переселили в подвал соседнего дома, где не горело электричество и окна были забиты фанерой.
Комнату слабо освещала догорающая свеча. Роман Матвеевич сидел за столом и что-то рисовал пером, над ним стояла Машенька и тщательно забинтовывала ему голову.
Спотыкаясь о мебель, Оксана подошла к ним.
– Что у вас делается? – Взглянула на бледное лицо Романа Матвеевича: – Вы ранены?
Роман Матвеевич стремительно поднялся навстречу Оксане, бинт с головы слетел и повис в руках Машеньки. Оксана увидела, что голова Романа совершенно цела. Машенька спокойно скатывала бинт, обрадованно глядя на Оксану. Та с недоумением смотрела на обоих, лица их были так оживленны, что, казалось, никакая темнота не угнетает их. Роман Матвеевич, профессионально щуря карие глаза, весело сказал:
– Это Машенька тренируется. Я не видел вас целую вечность. Спасибо, что вспомнили.
Он посмотрел, куда бы посадить гостью, но стулья были завалены картинами, рисунками, бельем. Пучки кистей, тюбики с красками валялись на полу рядом со скатанными полотнами.
– Маша, освободи какой-нибудь стул, – сказал он, осторожно снимая с подоконника гипсовые барельефы.
Не найдя свободного стула, Машенька пододвинула Оксане ящик, на котором только что сидел брат.
Встревоженная всем этим хаосом, Оксана села на ящик и, не зная, с чего начать, сложив руки на коленях, оглядела комнату.
– Давно я у вас не была. Ну как вы живете? – взглянула на полуосвещенное лицо Романа. Из-под нависших густых бровей сверкали внимательные смелые глаза, большая голова с лохматой шевелюрой, лицо грубо скроенное, но все черты говорили о сильном характере и таланте. Лицо напоминало портрет Бенвенутто Челлини.
– А что пишет Евгений? – заговорила Машенька.
Оксана тревожно взглянула на нее:
– Ничего не пишет.
– Понимаю, – кивнула Машенька, глядя на догорающую свечу – Сейчас будет темно.
– Вот последняя. – Роман Матвеевич подал свечу.
В комнате снова разлился мягкий спокойный свет.
Оксана пришла сюда поделиться горем, но при виде сырого подвала, без света ей стало стыдно говорить о своих бедах. Вот живут люди, молча переносят настоящие бедствия. Она отогнала все свои мрачные мысли, взяла со стола рисунки, с интересом взглянула на них.
– Роман Матвеевич, вы мне так и не ответили, как ваши успехи, что вы поделываете? – беспечным тоном спросила она, сразу оборвав гнетущую тишину.
– О! – воскликнула Машенька. – Теперь-то он и добился успеха!
Роман Матвеевич, иронически улыбаясь, дополнил слова сестры:
– Да, это можно назвать успехом. К счастью для меня, ушли в область предания все эти идиотские дискуссии об эстетике… Сейчас, когда стали отчетливо понимать, где искусство, а где ремесло, вспомнили и обо мне.
– Картину его купили! – вставила Машенька, укладывая бинты в санитарную сумку.
– Действительно, – продолжал Роман Матвеевич, – на последней выставке была одна моя картина, правда, я давал на выставку пять полотен, а приняли только одно, вот такая крошечная картина в стиле Мейссонье. И можете себе представить чудо, на всей выставке только одну эту картину и купили. И не какая-нибудь закупочная комиссия, а сам Немирович-Данченко.
Опережая восторг Оксаны, Машенька, подняв руку, щелкнула пальцами:
– Вот это да! Знаешь, Ксана, когда я вернулась с окопов и узнала об этом, я хотела побежать и расцеловать Немировича-Данченко. Есть еще гениальные люди, которые понимают друг друга.
Радостно улыбаясь, Оксана протянула руку Роману:
– Поздравляю вас, искренне рада вашему успеху. Я всегда думала, что вы заслужили его, и мне было досадно, что ваш талант так долго не признавали…
– Все к лучшему в этом лучшем из миров, – ответил он, сверкая глазами из-под нависших пепельных бровей. – Я так долго жил в нужде, что стал гордым, и меня теперь не купишь ни за какие деньги. А на днях меня вызвали в Союз художников, сообщили, что мне дается большой заказ – написать портрет одной заслуженной артистки. Ну, думаю, хорошо, старикам денег пошлю, Маше башмаки куплю, шубу ей справлю, дров на зиму заготовлю. Прихожу я, смотрю: сидит эта самая артистка в лисах, в кружевах, в бусах. Гляжу я – а лица-то и нет, писать нечего. Так и ушел. На меня зашипели, говорят – это заслуженная артистка, а я отвечаю: хоть королева, но, раз лица нет, чего же писать? Я не работник рекламного отдела, чтобы рисовать горжетки. Так вот мы с Машей опять и живем бедно. Заказов не дают.
– Пусть не дают! – печально улыбнулась Машенька. – Я скоро в армию пойду, мне шинель и сапоги – все дадут.
С первого августа Машенька совмещала занятия в геологическом институте с учебой на курсах медицинских сестер. Работая на строительстве укреплений, она многое поняла и решила быть готовой, если институт закроют и всем студентам придется заняться одним общим делом, – отражать врага.
В институте на товарищах, а дома на брате она проходила практику по оказанию первой помощи раненым.
Сейчас, скатав бинты и уложив их в санитарную сумку, она уловила что-то в светящихся глазах брата и, хотя на занятия идти было еще рано, вдруг заторопилась. Она знала, что в той красной папке, которая лежит на тахте, сотни набросков лица все одной и той же девушки. Однажды она спросила брата, что это за портреты, и он, не моргнув глазом, ответил, что это наброски с репродукций Сикстинской Мадонны. Этими словами он мог бы обмануть студентку геологического института, но сестру ему не удалось обмануть.
Будто она не видит, как стало светло в комнате от сияния его счастливых глаз.
– Простите, друзья, мне надо бежать, бежать, опаздываю на занятия медицинских курсов. – Она торопливо перебросила через плечо сумку с красным крестом.
Оксана удивленно подняла брови:
– Маша, ты серьезно? На медицинских курсах? Ты что ж, меняешь профессию, как и я?
– Меняю. Скоро вы останетесь одни, а я – на фронт! – И, обняв подругу, Машенька убежала.
Свеча догорала. Наступило молчание…
– Хотите, пройдем в мою мастерскую? – сказал Роман Матвеевич. Когда она поднялась, чтобы следовать за ним, добавил: – Только там очень холодно, наденьте пальто.
Они прошли через двор, вошли в гараж. На цементном полу еще были видны следы стоявших тут машин.
Роман Матвеевич зажег свет. Большие лампы осветили стол, заваленный картонами и холстами. На мольберте в углу стояла какая-то картина, завешанная холстом, около нее раскладной стульчик, какой носят с собой любители-рыболовы и художники-пейзажисты. Тут же стоял электрический камин.
Оксана уселась на стульчик, протянув руки к камину. Роман ходил по мастерской, стуча тяжелыми башмаками, подбитыми стальными пластинками.
– Помните первые дни войны, когда художники собирались в Союзе, словно они не знали, за что им теперь приняться, где они нужны? Помните, я тогда сказал, что надо писать портреты русских воинов? Помните?
Она кивнула, все это она отлично помнила.
– Тогда, – продолжал Роман, – я перешел от слов к делу. Для меня все было ясно. Я познакомился с летчиком-истребителем, который делал в день по восемь – десять вылетов и за первые дни войны сбил девять немецких самолетов. Сейчас я покажу вам портрет этого летчика.
Она почувствовала тревогу при упоминании о летчике и со страхом приготовилась взглянуть на портрет. Самой ей такой портрет не удался. Не удался настолько, что она боится даже подумать теперь о том, что когда-то считала себя художницей.
Он осторожно снял холст. Перед Оксаной был портрет девушки с гордо откинутой головой. Ветер чуть раздувал кудрявые волосы. Широкий лоб, крупный нос, крупные губы – все черты лица выдавали твердый, смелый характер. Светлый бесстрашный взгляд, не знающее страха сердце. В простой синей гимнастерке с голубыми петлицами на воротнике, она была как живая, всем улыбалась дружески, с открытым сердцем. И словно говорила своим приветливым взглядом: поверьте мне, жизнь прекрасна, в ней больше добра, чем нам кажется, больше дружбы, чем мы привыкли замечать…
Откинувшись на стульчике, расширив глаза, словно онемев, Оксана смотрела на портрет.
Художник молча наблюдал за ней и не ждал никаких слов одобрения, видел по ее глазам, что она чувствовала.
– Я не закончил этот портрет, – сказал он глухо, – этого летчика-истребителя больше нет.
Оксана медленно повернула голову, взглянула в его глаза, он отвернулся и зашагал по асфальту, стуча тяжелыми каблуками.
«Какое странное совпадение», – подумала она и хотела рассказать о Михаиле Шумилине, о его незаконченном портрете, но сейчас же устыдилась своей неудачной попытки. Как она, бездарная дилетантка, осмеливалась писать портрет живого человека! Для этого нужен талант, чтобы человек остался жить на века и мог говорить с холста, мог поведать миру о своих стремлениях и помыслах… Нет, хорошо, что она стала медсестрой. Теперь она приносит пользу и счастлива. Как она могла считать себя художницей, раскрашивая олеографии в своей светлой мастерской, построенной на деньги отца, когда вот так живет рядом с ней настоящий художник и создает настоящее искусство.
– Когда я узнал, что Катенька погибла, – продолжал Роман глухим прерывистым голосом, – я понял, что у меня в руках бессмертие. Я оставил ее жить в искусстве. Посмотрите на ее улыбку, это не загадочная улыбка Джиоконды – это улыбка бойца грозного сорок первого года…
Странный вихрь чувств охватил Оксану, но все сильнее пробивались в нем мысли о собственном бессилии и ничтожестве. Подавленная, вышла она из мастерской художника, думая о том, что надо освободиться от всех мелочных забот… Нельзя стоять в стороне, нельзя присутствовать при событиях, надо участвовать в них. Ей стало стыдно за все тревоги о брате, о себе, об отце… Что произойдет с миром, если они погибнут в этой страшной борьбе? Ей показалось, что только теперь она воистину поняла, что погибшие за Родину – бессмертны!..







