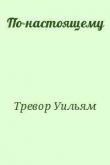Текст книги "Журнал «Если», 2003 № 07"
Автор книги: Кир Булычев
Соавторы: Дэвид Брин,Владимир Гаков,Виталий Каплан,Александр Тюрин,Дмитрий Байкалов,Виталий Пищенко,Сергей Питиримов,Эдвард Лернер,Юрий Самусь,Владимир Борисов
Жанр:
Научная фантастика
сообщить о нарушении
Текущая страница: 21 (всего у книги 24 страниц)
Андрей порадовался было, что его страна достигла полного социализма, но дед его несколько разочаровал: «Нет, друг, у нас пока только социалистическое государство». И пока нужно принуждение, нужен контроль, потому что некие старики, еще помнящие почему-то капиталистические порядки, «ушли в подполье и занимаются контрреволюционной деятельностью». «И чего им только надо? – говорит Старик. – Видно, старая закваска бродит, старая идеология…»
«Чего же с ними церемониться? – удивлен Андрей. – Переловить да к стенке!»
Дед по части стенки совершенно согласен. Но…
«Так и нужно бы поступить! Сорную траву с поля вон! Да в том-то и беда, что хорошо прячется сорная трава. Тайное у них общество…»
Более разглядывать мир будущего Андрею не придется. Начинается очередной этап борьбы с контрреволюцией. Андрей попадает в плен к вредителям, побеждает их, передает властям, а сам улетает дальше.
В его путешествии встретится еще одна Земля. Такой она станет через 500 тысяч лет. Это будет Земля «сосиалей», то есть социалистов. Проблемы, которые стоят перед человечеством, в основном связаны с космическими перестройками, о чем сам автор имеет весьма приблизительное представление. Единственная жизненная деталь отдаленного будущего заключается в том, что тогда не будет разницы между полами. Всех будут выращивать в пробирках. Хотя случаются еще атавизмы, и некоторые бесполые «сосиали» остаются в душе женщинами. Одно из таких существ влюбляется в Андрея и пытается затащить его в большую колбу, чтобы слиться там с ним в виде розового плазменного шара. Но Андрей с негодованием отказывается от такой любви.
* * *
Любая попытка социалистической утопии даже в начале двадцатых годов, когда вроде бы сохранялись всеобщие надежды на достижение счастья, оказывалась не только робкой, недоговоренной, совершенно неконкретной, но и удивительно тоскливой. В 1923 году утопией решил побаловаться Яков Окунев, небольшого масштаба литератор и политработник, преданный делу победившего пролетариата. Из-под его пера вышел роман «Грядущий мир» с выразительными иллюстрациями Николая Акимова. В том романе некий профессор Моран изобретает газ, могущий погрузить человека в анабиоз и пробудить из оного через нужное число лет. Профессор отыскивает добровольца Викентьева, человека, разочарованного в жизни, а также укладывает в специальную ванну свою дочь Евгению, безнадежно больную туберкулезом.
После этого, спасаясь от преследований слишком любопытной прессы, Моран грузит ванны со спящими пациентами на пароход и отправляется в Канаду – только бы спастись от рекламной шумихи, назойливых газетчиков и завистливых коллег.
По дороге корабль налетает на айсберг и идет ко дну вместе с профессором Мораном, чему посвящена наиболее драматическая глава романа. «Гробницы» оказываются на морском дне.
Тем временем в Америке, а потом и во всем мире побеждает революция, наступает счастливый коммунизм и люди будущего отыскивают гробницы – так что Викентьев и Евгения Моран приходят в себя уже в Мировом городе будущего.
Там, в коммунистическом завтра, все будут пользоваться идеографами – аппаратами для чтения мыслей, чтобы ни одна мысль не была утаена от лысого коллектива (волосы при коммунизме расти не будут). Перед тем как оживить людей прошлого, к ним подключают идеографы, и все желающие подключаются к их мыслям. Наслушавшись, люди коммунистического общества расходятся по домам, а Викентьев и Евгения в сопровождении их гида Стерна отправляются на экскурсию по городу. Попутно выясняется, что люди здесь не едят и не спят: все время уходит на разнообразные занятия. Но тут обнаруживается, что гости из прошлого все еще постыдно хотят есть и спать.
«– Сейчас вы будете сыты и бодры, – говорит Стерн. – Разденьтесь и садитесь в эту ванну.
– Как? – испугалась Евгения.
– При вас? При нем? Мне стыдно.
Стерн не понимает, отчего ей стыдно. Разве это дурно – раздеться и сесть в ванну с питательной жидкостью?
– Я женщина, я не могу при мужчинах!
Почему женщине стыдно? Ведь у нее нет никакой дурной болезни. Половой стыд – предрассудок старины».
Бодрые и сытые пребыванием в ванне герои идут гулять по городу, где на небе светятся строки электрогазеты, затем они встречают «гражданку», которая, взобравшись на выступ террасы, произносит короткую речь:
«– Мы, граждане Мировой коммуны, не знаем ни государств, ни границ, ни наций. У нас один закон – свобода. У нас нет правительства… Вместо органов насилия и принуждения мы создали органы учета и распределения…»
Вся Земля застроена одним Мировым городом, над которым герои летают на воздушном корабле. В этом корабле стоит пианино. Стерн время от времени садится за него и нажимает клавиши. Подчиняясь нажатию клавиш, корабль поворачивает и меняет высоту.
Мировой город – великое достижение коммунизма. Все теперь цивилизованно, покрыто асфальтом, детей отделяют от родителей и воспитывают в специальных домах.
Все замечательно…
«– Вы свободно сходитесь и расходитесь. Ну, а ревность? – интересуется Евгения.
Стерн не понимает.
– Ревность? Что такое ревность?
– …Человек полюбил другую и уходит… я не могу уступить его, я страдаю. Я ненавижу ту, которая отняла его у меня…»
Эта горячая тирада поражает Стерна…
«– Ведь это дико! – восклицает он вслух. – Он мой, она моя… Разве человек может быть моим, твоим? Это же унижает человека!.. Нет, мы не знаем этого дикого чувства».
И тут сердце коммуниста Окунева не выдерживает. И логика повествования рушится на глазах.
Послушайте:
«Но вопрос о ревности тронул какую-то больную струну в душе Стерна. Он задумался, и его мысли долетают до Викентьева и Евгении:
– Нэля… Я любил ее… потом ушел с Майей… Нэля все еще любила меня… Мой друг Лэсли свез ее в лечебницу эмоций, и Нэлю вылечили.
– Вылечили! – восклицают Викентьев и Евгения. – У вас лечат от любви?
– В лечебнице эмоций лечат гипнотическим внушением. Нэле внушили равнодушие ко мне, и она забыла меня».
Когда я прочел эти строчки, то встревожился за дальнейшую судьбу утопии. Не знаю, читал ли Окунев роман Замятина «Мы» – типичную антиутопию, где автора страшит возможность воздействовать на мозг человека внушением, волнами, скальпелем… в конце концов, не все ли равно чем! Было бы желание! Страшный конец романа «Мы» и говорит о том, как герой становится «нормальным» человеком, которому «внушили равнодушие к ней».
А коммунист Окунев радуется!
Сколько раз в XX веке фантастика будет возвращаться к мирам, где можно воздействовать на мозг человека, чтобы держать народ в подчинении тирании! Помните башни в романе Стругацких «Обитаемый остров»?
А в финале окуневского романа от любви лечат Викентьева. И как это радостно происходит: вот он сидит, опутанный проводами, и юркий резкий врач суетится рядом.
«– Евгения Моран, – произносит врач с чужим акцентом. – Она далекая! Чужая! Слышите? Нет тоски по ней. Слышите?»
Скоро он забудет о ней и… «Прошлое умерло. Викентьев и Евгения Моран, ожившие через двести лет в новом мире, приобщились полностью к человеческой семье Великой Мировой Коммуны».
Завершается роман послесловием автора, который спешит расставить точки над i: «Здесь изображается будущий коммунистический строй, совершенно свободное общество, в котором нет не только насилия класса над классом и государства над личностью, но и нет никакой принудительной силы, так что человеческая личность совершенно свободна, но в то же время желания и воля каждого человека согласуются с интересами всего человеческого коллектива». Ах, какая знакомая партдемагогия!
Политработник Окунев ничего достойного для будущего придумать не сумел. Получилось что-то страшненькое, особенно на любовном фронте. Возникает даже подозрение, не переживал ли товарищ Окунев в этот период какого-то жгучего и непреодолимого кризиса в личной жизни? Не покинула ли политработника дама? Уж очень очевиден перекос в романе о коммунизме в сторону борьбы с неудачной любовью и ревностью!
Помимо любви, ревности, чужих подслушанных мыслей и детей, отнятых у родителей, коммунизм ничего любопытного предложить не смог. Так что Окунев не пошел дальше Гончарова. А в следующих изданиях романа, изменяя его название, вообще убрал коммунистическое будущее, обратив внимание на капиталистов и борьбу пролетариата за свое освобождение.
Возможно, это случилось и потому, что в неких инстанциях утопия была внимательно прочитана и осуждена. Вряд ли пролетариат можно было привлечь к борьбе за такие идеалы.
* * *
Я не думаю, что образы коммунистического будущего вызвали радость у идеологических чиновников, которым они попали на стол. Но Гончаров не представлял ни для кого опасности. Пройдет несколько лет, прежде чем другие писатели посягнут на создание коммунистической утопии. К ней советская фантастика вернется в тридцатые годы, когда все иные темы будут надежно прикрыты.
При всей немногочисленности подобных попыток авторы чаще всего ограничивались технологическими предсказываниями. Не вышел за пределы технологии и В. Никольский в романе «Через тысячу лет». Иные попытки утопии в двадцатые годы были настолько неубедительны, что о них не стоит и говорить.
На рубеже 30-х годов была предпринята любопытная литературная попытка создать, как писал критик А. Ф. Бритиков, «контрантиутопию». Это повесть Яна Ларри «Страна счастливых». Автор ее, по мнению Бритикова, пытается нарисовать картину идеального общества, наполненного творческим трудом, и намекает, что своей утопией писатель борется с тенью Евгения Замятина, с его романом «Мы», который читателю «Страны счастливых», разумеется, не мог попасть в руки.
Я не уверен, что Ларри в своих нападках имел в виду именно роман Замятина. Предлагаю читателю самому решать, к чему относится следующий монолог Павла, главного положительного героя книги Ларри: «Ты напоминаешь старого мещанина, который боялся социалистического общества, потому что его бесцветная личность могла раствориться в коллективе. Он представлял наш коллектив как стадо… Но разве наш коллектив таков? Точно в бесконечной гамме каждый из нас звучит особенно и… все мы вместе соединяемся… в прекрасную человеческую симфонию».
В повести два героя – Павел и его оппонент Молибден. Молибден хочет осваивать Землю и не хочет смотреть на звезды. Объясняет он свою приземленность тем, что на
Земле уже развелось столько народа, что отвлекать средства на космические программы глупо. Павел же полагает, что именно в космосе лежит спасение Земли. Туда, освоив другие планеты, мы и вывезем излишек ртов.
Молибден поставил целью сорвать полет Павла. Что же делает этот человек коммунистического будущего с пережитками прошлого? Он подсылает к Павлу свою красавицу-дочь. Она должна соблазнить Павла и отвлечь его от творческого труда. Затем он внушает Совету ста, что Павел больше не нужен на Земле.
Павел отступает, он подчиняется большинству, но не отказывается от своей мечты…
А. Бритиков, разбирая повесть Яна Ларри, обращает внимание на одну деталь: имя главного оппонента – Молибден. Он полагает: возможная аналогия со Сталиным и привела к тому, что повесть никогда не переиздавалась. Мне кажется, критик несколько преувеличил связь между именем персонажа и вождем страны. Иначе Ларри вряд ли прожил бы на воле еще целых семь лет и выпустил бы широко известную детскую фантастическую повесть «Приключения Карика и Вали». Кстати, в значительной степени это произведение – пересказ изданной в 1919 году повести старого революционера М. Новорусского «Приключения мальчика меньше пальчика». Однако, когда Я. Ларри был арестован и отправлен на много лет в концлагерь, не исключено, что при допросах «Страна счастливых» использовалась как один из пунктов обвинения [9]9
Причиной ареста писателя и основным пунктом в обвинении стала другая его фантастическая повесть – «Небесный гость», резко критиковавшая недостатки советского строя. Повесть писатель создавал анонимно и по главам пересылал «дорогому товарищу Сталину». (Прим. ред.)
[Закрыть]… Но тогда на дворе уже стоял 1937 год.
Утопия двадцатых годов так толком и не родилась. Советским писателям оказалось не под силу воспеть собственное грядущее счастье.
Зато в эти же годы родилась альтернатива коммунистической утопии – антиутопия XX века.
Диагноз на ранней стадии
Она могла возникнуть только тогда, когда к фантастике обратились не мыслители, а художники, для которых самым важным было изучить человека в движении времени. В движении эволюции, которая вырастает из утопии, и интересно следить, как раскалывается яйцо и вылупляется птенец.
Каждое великое изобретение происходило не единожды.
На этом, кстати, строилась в свое время наша кампания за приоритеты, когда в конце сороковых годов громили космополитов.
Именно тогда в считанные месяцы пришлось переделывать экспозиции многих музеев и переписывать историю техники и науки.
Самое интересное, что «изобретатели» изобретателей не лгали. Их новые герои в самом деле совершили открытия, которые им приписывались. И действительно раньше, чем те, кого было принято считать первопроходцами.
Были Уатт, Фултон, Эдисон, братья Райт и другие гении. Мы сменили их на Ползунова, братьев Черепановых, Яблочкова, Можайского. Лукавство этого процесса заключается в том, что перед тем, как великое изобретение становится реальностью, его делают не один раз. Но если общество не готово к восприятию изобретения, то оно не становится составной частью мировой культуры. Необходимо совпадение открытия и ситуации. Самолет Можайского был выброшен на свалку, самолет братьев Райт родил лавину последователей. Считать приоритеты по календарю – дело неблагодарное. Борец за национальную идею в любой крупной европейской стране может отыскать альтернативу изобретателю паровой машины Ползунову.
Можно отыскать антиутопию в истории многих литератур. Но как жанр она не могла родиться, пока не были созданы социальные условия.
Первые капли дождя, даже очень тяжелые, это еще не дождь.
Хотя порой невозможно определить мгновение, когда капли превращаются в ливень.
Для рождения антиутопии нужны были условия. Нужно было осознание неразрывной связи индивидуума и общества в эволюционном процессе. Осознание того, что общество, базирующееся на идеологической догме, не статично, а регрессирует, что статичной догмы не может существовать. Понимание этого Замятин сформулировал так: «Когда пламеннокипящая сфера (в науке, религии, социальной жизни, искусстве) остывает, огненная магма покрывается коркой догмы – твердой, окостенелой, неподвижной корой. Догматизация в науке, религии, социальной жизни, искусстве – это энтропия мысли… Истина – машинное, ошибка – живое».
Утопия не предупреждала. Она искала статичную альтернативу идеалу.
Антиутопия разоблачала догму, показывая ее реальную, а не идеализированную цель.
Когда же родилась антиутопия?
* * *
На рубеже XX века наиболее прозорливым художникам становится понятно, что мир находится в движении и вектор движения указывает к пропасти. Рост промышленности, развитие науки, транспорта, научные открытия используются не на благо народов, а во вред людям. Элементы антиутопии характерны для некоторых поздних романов Жюля Верна. Правда, его антиутопия не затрагивает французского общества, а ограничивается областью тевтонского духа, как в «Экспедиции Барсака».
Романы, которые появляются в эти годы, не замахиваются на догму в целом, а лишь на ее отдельные аспекты. Чаще всего они проецируют в будущее некоторые острые проблемы – классовую несправедливость, опасность мировой войны. Наивысшей точкой в этом направлении фантастики стали романы Герберта Уэллса.
Спустя четверть века после опубликования первых из них, к исследованию творчества английского писателя обращается его младший современник Евгений Замятин. Он прослеживает элементы антиутопии в ряде работ Уэллса, начиная с первой и наиболее типичной – «Машины времени». Полагая Уэллса сказочником каменного и железного города, он напишет, что «сказочные племена морлоков и элоев – это, конечно, экстраполированные, доведенные в своих типических чертах до уродливости два враждующих класса нынешнего города… Он видит будущее через непрозрачную завесу нынешнего дня. Здесь не мистика, а логика, но только логика более дерзкая, более дальнобойная, чем обычно».
Разглядывая и дальше анти-утопические тенденции в работах Уэллса, Замятин, не объясняя особенностей антиутопий вообще, замечает главное: Уэллс смотрел на мир будущего из мира викторианского, мира, в котором «все прочее осело и твердеет, твердеет, твердеет, никогда не будет больше никаких войн и катастроф». То есть антиутопия Уэллса – это движение, разламывающее статичность догмы.
И все же романы Уэллса – еще не антиутопия в сегодняшнем понимании этого слова. Потому что движение Уэллса – внешнее, событийное по отношению к окружающему миру.
Если так будет продолжаться, предупреждает Уэллс, разрыв между эксплуататорами и эксплуатируемыми достигнет таких масштабов, что может произойти физиологическое разделение человечества. Трепещите, изнеженные угнетатели, – вы сами куете себе гибель! Все великие изобретения наших дней будут использованы для грядущей страшной войны. В небо поднимутся цеппелины, ядовитые газы уничтожат миллионы людей, взрывчатка невиданной силы сотрет с земли ваши города!
И тогда наступит запустение… цивилизация погибнет.
Уэллс и его последователи проецировали в будущее очевидность. Они гиперболизировали существующие тенденции, но не создавали социальной системы.
Их предчувствиям и предсказаниям суждено было сбыться, причем в куда более фантастической и антигуманной форме, нежели они предполагали в самых смелых своих допущениях. Мир должен был в самом деле пройти через фантастическую бойню и последующую разруху, он должен был увидеть великие революции и невероятные перевороты, и лишь после того, как, по выражению Замятина, фантастические романы Уэллса «стали читаться как бытовые», фантастическая литература смогла сделать новый шаг и поразиться этому «быту».
Следом за Уэллсом пришли многочисленные «катастрофисты», но собственно антиутопия сформировалась позже. Одновременно с попытками Богданова построить счастье человечества на марсианских просторах.
* * *
Сегодня принято считать, что создателем современной антиутопии был великий Евгений Замятин, роман которого «Мы» американская писательница Урсула Ле Гуин назвала величайшим фантастическим романом всех времен.
Однако каждому великому изобретению способствуют удачные, но канувшие в Лету попытки создать паровоз. Разумеется, братья Черепановы построили свой паровоз раньше Стефенсона, а Можайский взлетел раньше братьев Райт, но настоящий изобретатель один. И он не только строит свой паровоз, но и оказывается основателем беспрерывной линии паровозов, протянувшейся в наши дни. После него о паровозе уже не забывают, потому что в его машине есть всеобщая нужда.
Замятин был тем большим талантом, который смог породить целое направление в литературе. И когда читаешь «1984», то видишь его корни.
Но это не означает, что подобных попыток раньше не было.
Всемирно известен и почтительно признан философ Николай Федоров. Он был по натуре своей фантастом, утопистом, но не художником, а религиозным мыслителем, философом, основателем супраморализма.
Он полагал, что правильный путь к Богу лежит в уничтожении смерти.
Федоров не только ненавидел смерть, он верил в возможность ее преодоления, возвращения к жизни ушедших поколений.
Примирение со смертью недопустимо. Жизнь человека можно продлить до бесконечности. И возрожденными людьми надо будет заселить не только пустующие пространства Земли, но и весь космос. Добиться этого следует не молитвой, а развитием науки и совместными действиями всех людей.
Среди последователей Федорова можно найти совершенно неожиданные фигуры – от Маяковского до Вернадского. После революции создавались общества
Федорова, которые даже пользовались некоторое время покровительством властей, не угадавших религиозной подкладки под романтическими воззрениями «био-космистов».
Учение Федорова – не утопия, но путь к утопии.
Но удивительны и прихотливы пути судьбы.
Оказалось, что в истории России было два литератора и утописта под именем Николай Федоров.
Хотя мы отдаем должное Федорову-философу, мне куда интереснее другой, малоизвестный Николай Федоров, которого никто не помнит из-за этого совпадения имен.
Это был, как говорят, петербургский журналист, который издал в 1906 году небольшую книжку под названием «Вечер в 2217 году». О Федорове-фантасте у нас узнали лишь в конце 80-х годов, когда началась публикация сборников российской дореволюционной и довоенной литературной утопии и антиутопии. Затем о нем забыли вновь.
А между тем именно Федоров написал первую советскую антиутопию – за десять лет до Октябрьской революции.
Я представляю себе литературный мир предреволюционных лет и двадцатых годов как относительно небольшое сообщество, где все были знакомы или наслышаны друг о друге. Читали изделия товарищеских рук… Попробуйте разубедить меня в том, что Булгаков в конце 1924 года не прочел дикий роман В. Гончарова «Психомашина», изданный «Молодой гвардией». Что ему не попались на глаза такие, скажем, строки: «Ведь они чуть было тогда не влопались из-за наивности Шарикова». Запомнил ли он фамилию героя романа или она отложилась в подсознании? Но как замечательно она легла в повесть «Собачье сердце», написанную той же зимой!..
Повесть Н. Федорова хорошо написана.
И написана она об утопическом XXIII веке.
Ах, как там чудесно!
Вечер на Невском, разноцветные огни в паутине алюминиевой сети, перекрывшей город… «Многие из стоявших на самодвижке подымали глаза вверх, и тогда листья пальм и магнолий, росших вдоль Невского, казались черными, как куски черного бархата в море умирающего блеска…
Шумя опустился над углом Литейного воздушник, и через две минуты вниз по лестницам и из подземных машин потекла пестрая толпа приезжих, наполняя вплотную самодвижки. Нижние части домов не были видны, и казалось, что под ними плыла густая и темная река и, как шум реки, звучали тысячи голосов, наполняя все пространство улицы, и подымаясь мягкими взмахами под самую крышу, и замирая там в темных извивах алюминиевой сети и тускнеющем блеске последних лучей зари…
Девушка, стоявшая на второй площадке самодвижки… не заметила, как пересекла Литейный, Троицкую, парк на Фонтанке, и не увидела, как кругом нее все повернули головы к свежему бюллетеню, загоревшемуся красными буквами над толпой, и заговорили об извержении в Гренландии, которое все разрасталось, несмотря на напряженную борьбу с ним».
Девушка по имени Аглая уходит от толпы, она уединяется в старом уголке у собора, она решает для себя важную проблему. Ей хочется иметь семью, ей хочется полюбить, она даже находит себе кумира – ученого Карпова, очень талантливого и красивого… Толкает ее к такому решению то, что она была в немилости у тысяцкой Краг, которая говорила, оглядывая стройную фигуру Аглаи: «Вы уклоняетесь от службы обществу». И добавляла: «Если у вас нет пока увлечений, вы должны, по крайней мере, записаться… Если вы берете у общества все, что вам нужно, то и вы должны дать ему все, что можете».
В конце концов Аглая заставила себя записаться к Карпову. Там уже ждали несколько десятков поклонниц его красоты и таланта. Избалованный вниманием девушек, Карпов записал рабочие номера визитерш, и девушки разошлись по домам ждать вызова.
Краг спросила Аглаю:
«– Все еще не записались?
– Записалась, записалась, оставьте меня в покое, умоляю вас».
И не только записалась, но и получила вызов на совокупление, и даже отдалась Карпову, отчего чувствовала себя униженной, лишенной права на настоящую любовь. Она поняла, что не желает быть членом такого организованного общества.
Из следующих глав читатель узнает об этой лжеутопии куда больше.
В разговоре друзей Аглаи мы слышим голос ее подруги Любы:
«– …Тысячелетиями стонало человечество, мучилось, корчилось в крови и слезах. Наконец его муки были разрешены, оно сошло до решения вековых вопросов. Нет больше несчастных, обездоленных, забытых. Все имеют доступ к теплу, свету, все сыты, все могут учиться.
– И все рабы, – тихо бросил вошедший Павел.
– Неправда! – горячо подхватила Люба. – Рабов теперь нет. Мы все равны и свободны… Нет рабов, потому что нет господ.
– Есть один страшный господин.
– Кто?
– Толпа. Это ваше ужасное «большинство».
Оказывается, Аглая и Павел не разделяют бодрой позиции Любы и общества в целом.
В дальнейших спорах выясняется, что Павел выступает против того, чтобы родители фигурировали только как номера, а дети воспитывались обществом. Он против обязательной службы в Армии труда, где занятия распределяются по воле руководства.
Пафос повести – это восстание против большинства, «проклятого бессмысленного большинства, камня, давящего любое свободное движение».
Павел и Аглая отправляются в полет на воздушнике, и на Башне Павел признается в любви к Аглае. Аглая же отвечает, что она недостойна его любви, поскольку уже была «по записи» у Карпова.
Павел поражен… Аглая гонит его прочь.
Вот и вся история о любви и порядке, о долге, ставшем ярмом.
А вот последняя фраза. Сообщение в бюллетене: «На воздушной станции № 3 гражданка № 4372221 бросилась под воздушник и поднята без признаков жизни. Причины не известны».
В мире Федорова счастливые, сытые граждане существуют под номерами.
Правда, пока еще в личном общении имена сохраняются.
Замятин сделает следующий шаг.
* * *
Писатель Евгений Замятин родился в 1884 году в городке Лебедянь Тамбовской губернии. Внешне был обыкновенен – по немногим сохранившимся портретам не догадаешься, что это один из крупнейших писателей двадцатого века. Он спокоен, улыбчив, элегантен.
По возвращении из Великобритании в 1917 году за ним укрепилось прозвище «англичанин»: он не возражал, даже подчеркивал свою энглизированность. В этом был некий элемент игры. Писатель Ремизов восклицал по этому поводу: «Замятин из Лебедяни, тамбовский, чего русее, и стихия его слов отборно русская. А прозвище «англичанин». Как будто он сам поверил – а это тоже очень русское… А разойдется – смотрите, лебедянский молодец с пробором! И читал он свои рассказы под простака».
По специальности Замятин был кораблестроителем. Как показала дальнейшая его судьба – выдающимся. Хотя времени, чтобы стать таковым, у него было в обрез. В студенческие годы он стал большевиком, его арестовывали, выгоняли из университета, несколько месяцев он просидел в тюрьме, дважды отправлялся в ссылку. Так что революция для Замятина не была модным увлечением – к ней он относился серьезно.
Печататься Замятин начал поздно, когда ему уже было под тридцать. И сразу же обратил на себя внимание. Первыми повестями и рассказами заявляет о себе как бытописатель российской провинции, но вскоре пишет повесть «На куличках» о провинциальном гарнизоне. В ней он настолько смел, настолько беспощаден к косной российской военной машине и людям, которые ее олицетворяют, что журнал с повестью конфискуется цензурой, а Замятин вновь попадает под суд – за оскорбление в печати российской армии.
Во время войны Замятин вернулся к своей профессии и был отправлен в Англию. Там он участвовал в проектировании и строительстве ледоколов, в частности, знаменитого впоследствии ледокола «Красин» (в те дни он назывался «Святогор»). Замятин был автором аванпроекта и одним из создателей ледокола «Ленин» (бывший «Александр Невский»). Почти два года он провел в Лондоне, днем упорно работая на верфи, ночью – над книгой «Островитяне». Книга была об англичанах, сам писатель назвал ее сатирической. Книгу высоко оценил Горький.
Октябрьская революция была и его революцией.
Новая жизнь грянула, как говорил Замятин, «в веселую и жуткую зиму 17–18 года». И началась невероятная по объему и многообразию деятельность революционера и созидателя Замятина. Большей частью Замятин работал вместе с Горьким – он участвовал во всех крупных культурных начинаниях того времени – во «Всемирной литературе», Союзе деятелей слова, Союзе писателей, Доме искусств… При том успевал редактировать журнал, писать статьи, ставить пьесы, читать лекции. Кораблестроитель стал общественным деятелем всероссийского масштаба, соратником и другом Максима Горького… Время неслось беспощадно; потом уже, через много лет, вспоминая об этих днях, Замятин не скрывал определенной иронии к многочисленным и часто нереальным прожектам, да и к собственному в них участию.
В статье памяти А. Блока он писал: «Три года затем мы все вместе были заперты в стальном снаряде – во тьме, в темноте, со свистом неслись неизвестно куда…»
В те годы Замятин ищет в фантастике художественное воплощение действительности. И образ снаряда, несущегося вперед, возникает вновь в романе, который Замятин тогда задумал. Об этом он вспоминает в своей статье памяти Горького.
Дело было поздней осенью 1917 года. «Сидя в заставленном книжными шкафами кабинете Горького, я рассказал ему о возникшей у меня в те дни идее фантастического романа. Место действия – стратоплан, совершающий междупланетное путешествие. Недалеко от цели путешествия – катастрофа. Междупланетный корабль начинает стремительно падать. Но падать предстоит полтора года! Сначала мои герои, естественно, в панике, но как они будут вести себя потом?
– А хотите, я вам скажу, как?
– Горький хитро пошевелил усами.
– Через неделю они начнут очень спокойно бриться, сочинять книги и вообще действовать так, как будто им жить по крайней мере еще лет 20. И, ей-богу, так и надо. Надо поверить, что мы не разобьемся, иначе наше дело пропащее».
Роман, удивительно современный по фабуле и настроению, так и не был написан. Но приближение к роману, уже другому, совершалось.
В те дни Замятин пишет короткие рассказы, герои их стараются найти место в мире, который настолько фантастичен, что оставляет позади любое воображение. И даже если формально рассказы эти могут проходить по реалистической епархии, они пронизаны фантастическим восприятием действительности.
Замятин старается понять, какой должна быть революционная литература, и мысли об этом можно встретить в разных его статьях того времени.
Сначала о гражданской позиции писателя: «Служба государственному классу, построенная на том, что эта служба выгодна, революционера отнюдь не должна приводить в телячий восторг… Собачки, которые служат в расчете на кусочек жареного или из боязни хлыста, революции не нужны. Не нужны и дрессировщики таких собачек. Нужны писатели, которые ничего не боятся – так же, как ничего не боится революция; нужны писатели, которые не ищут сегодняшней выгоды – так же, как не ищет этого революция (недаром же она учит нас жертвовать всем, даже жизнью, ради счастья будущих поколений – в этом ее этика); нужны писатели, в которых революция родит настоящее органическое эхо».