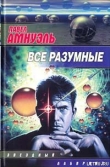Текст книги "Журнал «Если», 2003 № 07"
Автор книги: Кир Булычев
Соавторы: Дэвид Брин,Владимир Гаков,Виталий Каплан,Александр Тюрин,Дмитрий Байкалов,Виталий Пищенко,Сергей Питиримов,Эдвард Лернер,Юрий Самусь,Владимир Борисов
Жанр:
Научная фантастика
сообщить о нарушении
Текущая страница: 17 (всего у книги 24 страниц)
– Нет! – завопила я. – Я еще не готова!
И тем не менее я соединила разъемы. Так или иначе, все равно умирать.
Мать, по крайней мере, пыталась привести за мной шаттл. Но как мог папа предложить мне такое?
Впрочем, разве у него был выбор?
После того как соединение произошло, места для гнева уже не осталось. Как и для страха, надежды и ненависти. Мое существование разделилось на две половинки: тогдаи теперь.
Тогдаушло навсегда, запертое в теле, раздавленном в кашу тоннами воды и грязи.
Теперьпродолжительности не имело, но оно продлится вечно.
Все, что я когда-то знала, думала или представляла, было стерто – словно движением мокрой тряпки, зажатой в руке гиганта; все это разлетелось в пыль, как хрустальная ваза, сброшенная на пол шаловливым псом. Блестящие осколки разлетались во всех направлениях – в э-пространстве нет гравитации, – кружа и вращаясь, унося по кусочкам все, что меня составляло. Каждый осколок нес в себе часть моей жизни, разбухающую, растущую, заполняющую огромный объем солипсического пространства (термин этот сам собой возник в моей голове, оказалось, теперь я знаю кучу вещей). Должно быть, так можно почувствовать себя богом, не имея малейшего представления о том, что есть Бог.
Расширяясь, я думала: как мог отец так долго противиться чудесному превращению? Какие оправдания находил он своим усилиям цепляться за эту примитивную физическую форму? Неужели он делал это ради меня?
Один из осколков привлек мое внимание, и, старательно приглядевшись, я увидела собственную смерть.
Я видела ее, паря над местом событий, видела бурлящую грязь, дергающиеся в ней конечности несчетных «саперов», видела живительную воду, затоплявшую иссушенную землю. Зрение мне дал один из дистанционных мониторов, следивших за происходившим. Понятно: мой богоподобный мозг устремился к интересующему его объекту и немедленно получил нужную информацию.
Я закрыла глаза.
Что это означало? Теперь у меня не было глаз, которые можно было бы закрыть. Однако вода и плотное облако грязной пены сразу исчезли, уступив место трепещущей темноте, и, охваченная ею, я почувствовала, как дергается взад и вперед мое тело, как вращает и кружит его поток, пока наконец каким-то образом не собрала свое «тело» в псевдоплотный комок.
Сжавшись, я беспомощно вращалась во мраке.
А потом я услышала звук. Едва слышный, далекий, сливающийся с отголосками. Фриц! Это лаял Фриц, и сердце мое – а точнее, его аналог – возликовало. Но лай становился тише. Он рассыпался на все более мелкие и мелкие осколки, исчезавшие, как подхваченные ветром пушинки.
– Фриц! Фрицци! – позвала я, не успев подумать, не сумев даже задаться вопросом, как может позвать развоплощенный ум. Голос моего волка смолк. – Нет! Фриц… я здесь!
Он исчез.
И в этот момент я почувствовала такую беспомощность, такое одиночество и даже пожалела, что не погибла в этом потопе.
Когда я наконец открыла глаза, мать и папа были рядом, они высились надо мной, и лица их искажали тревога и страх. На какое-то мгновение показалось, что мне снова четыре года и в голове моей вот-вот обнаружится игривый и добрый волчонок.
Но это было не так. Я оказалась в Сети. Стала взрослой.
А Фриц исчез.
Я как будто лежала на постели, а вокруг деловито и привычно жужжала комната – позванивали мониторы, переговаривались далекие голоса, тихо шелестел подгоняемый вентиляторами воздух.
В этот момент я ощущала себя так, словно в моем черепе покопалась целая куча людей, и, прежде чем прикрыть его крышкой, они расположили все обнаруженное в более логичном порядке. Только при этом даже не подумали проверить, не сломали ли чего-нибудь внутри моей головы и не потеряли ли что-то важное.
Папа шагнул ко мне, протягивая руки для объятий, но я отвернулась. Руки его упали, и я ощутила прилив горькой, смешанной с любовью печали.
Мать стояла, скрестив руки на груди, такая же холодная и деловитая, как всегда… только теперь она не была образом, присутствующим в моем мозгу, она стала абсолютно реальной. А точнее сказать, более реальной, чем сама реальность.
– Так вот как у вас здесь… – выговорила я.
Мать чуть улыбнулась.
– Да. Приветствую тебя в стране взрослых.
– Спасибо. Ну… ну и когда придут… гости на вечеринку? – Мои патетические старания сохранить бодрость духа превращались в припадок истерики. Дыхание спазмами вырывалось из груди, мне было жарко, и, честное слово, у меня опять потекло из носа. Невероятно. А потом меня вдруг бросило в смех – столь же припадочный, как недавние слезы.
– Что происходит? Почему я так себя веду?
Мать присела на краешек моей кровати, которая чуть прогнулась под ее… весом.
– Просто обратная связь, – пояснила она. – Все пройдет после периода привыкания. Система учится узнавать тебя, у нее не было необходимого для этого времени. Обстоятельства сложились… странно.
– Не стану спорить, – выдохнула я, ощущая, как вздымается грудь. По рукам и ногам побежали мурашки, и вдруг я почувствовала, что замерзаю.
– Потерпи немного. И увидишь: все будет в порядке. – Она оглянулась на папу, который стоял за ее спиной, забытый и несчастный, словно побитая собака. Я еще не хотела встречи с ним, несмотря на то, что он совершил истинное чудо, успев на скорую руку подсоединить меня к Сети и переправить созданным им маршрутом. И новичок оказался способен на такое. Невероятно!
И все же он отобрал у меня мою жизнь, настоящую, ту, в которой я собиралась завести четверых ребятишек и уйти в Сеть только тогда, когда мне исполнится тридцать и все дети станут взрослыми. Я мечтала об этом. Я даже выбрала мальчика, за которого пошла бы замуж, хотя, к счастью, ничего еще не сказала ему об этом.
Решив, что уже достаточно овладела собой, я спросила:
– А как Фриц?
Родители переглянулись. Черт, опять занялись своим любимым делом – переговорами за моей спиной. Для них я по-прежнему ребенок!
Я спустила ноги с постели и встала. Поглядев вниз, я заметила, что ноги не касаются пола. Это было тут же отмечено, и пол сам поднялся им навстречу.
– Фриц… – Папа провел ладонью по лицу. – Я не сумел вытянуть Фрица…
Голос его был полон сочувствия. Спецэффект, напомнила я себе, всего лишь спецэффект.
– Его образ так глубоко засел в твоем материальном мозгу, что нам не удалось сохранить его. Каждый аналоговый домашний зверь так привязывается к собственному владельцу, что становится уникальным существом и занимает уйму места. За время, которым я располагал, необходимые файлы по Фрицу просто нельзя было подготовить. Прости меня. – Отец как будто бы и впрямь сожалел о случившемся.
Я попыталась позвать Фрица, зажмурив глаза и представив себе, что уши мои выросли до размера тарелки радиотелескопа, способного обнаружить булавку на другой стороне галактики.
Но мои сетевые уши слышали только негромкий шум, подобный тому, что иногда доносится из морской раковины, и я поняла: Фрица больше нет. Та доля моего мозга, куда вмещался мой друг, сделалась частью слоя органического удобрения, раскинувшегося на месте прежнего лагеря. Он умер, а я нет.
Тут малая часть моего разума уловила идею и со всей открывшейся теперь для меня скоростью приступила к ее воплощению. Я оставила белую комнату вместе с папой и матерью. Я не хотела видеть их – ни того, ни другого.
Время шло. Никого, по всей видимости, не смущало, что я не занята никаким полезным делом. Никчемная и унылая компьютерная программа: чистый восторг.
Впрочем, я училась. Училась разному: тому, что причин рождать детей более не существует, что незачем держаться за физическую жизнь. В конце концов, смерти нет. Если забыть о таких искусственных созданиях, как Фриц. Но гены упорны и настойчивы. Плодись! Размножайся! Изменяйся! Каким бы путем мы ни шли, повеление это властвует над нашими душами.
Утрата моего тела со всей его уникальной генетической информацией несколько укоротила время существования нашей передвижной сетевой цивилизации и лишила ее доли богатства.
Но мне все равно. Я тосковала по теплому прикосновению мохнатого теплого бока Фрица и по тем его словам, которые мог бы сказать мне только папа, если бы он был способен на это.
Наконец я вошла в состав бригады, изучавшей мир, на котором погибло мое тело, и решила вернуться туда через пятьдесят лет, чтобы проследить за новым потопом. Или через сотню лет, или через сто пятьдесят.
Теперь я работаю вместе с матерью. Как это ни удивительно, мы отлично ладим. Выходит, что ее образ мышления сходен с моим. А папа? Ну, нельзя же вечно обожать его, правда? Только боль утраты все равно саднит.
Когда настало для этого время, я обратилась к той крохотной части моего мозга, которая занималась сбором воспоминаний, выискивая их, как следы лап на песке, как волоски из нелиняющей шкуры, и собрала все мелочи, которые помнила о Фрице.
А потом я собрала их воедино и загрузила в волчонка. Нет, имя его не. Фриц. Но он похож на него, когда скачет вокруг меня. Люди привыкли видеть нас вместе. Только он, так сказать, пошел сам в себя – смышленый, ехидный, любящий и мокроносый.
Фриц гордился бы им.
Перевел с английского Юрий СОКОЛОВ
«ПРОШУ РАССМОТРЕТЬ…»
В большинстве писем, которые приходят в редакцию от начинающих фантастов, мы встречаем одни и те же вопросы: как молодому автору пробиться к издателям, с чего начинается общение автора и издателя? На открытом «круглом столе», проведенном в рамках конвента фантастики «Роскон», некоторые ответы были даны. В апрельском номере журнала мы пообещали читателям, что опубликуем фрагменты этой встречи, и сегодня выполняем свое обещание.
Дмитрий Байкалов («Если», ведущий):Насколько эффективно наши издатели работают с молодыми авторами, как это происходит?
Василий Мельник («ЭКСМО»):Мы с большим удовольствием работаем с молодежью. Тем более, что сейчас запускаем несколько новых серий, а их надо чем-то наполнять. Из самотека мы довольно часто выбираем хорошие вещи. Но издавать предпочитаем работы, так сказать, форматные, располагающиеся в традиционных рамках жанра – «чистая» НФ, «чистая» фэнтези и т. д. Современный читатель побаивается экспериментов.
Обычно мы печатаем рукописи объемом от пятнадцати авторских листов до двадцати восьми. Напомню, что авторский лист – это сорок тысяч знаков с пробелами.
Николай Науменко («АСТ»):Работаем обычным порядком: читаем самотек, которого все больше и больше, из самотека что-то отбирается и переходит в постоянный режим, тогда начинается более плотная работа с автором. А успех… Писать нужно больше. Работать. Здесь рецептов новых не изобрели. Часто приходится слышать что-нибудь вроде: «Вы ведь Лукьяненко раскручивали, вот и меня бы так». И никто не вспоминает о том, что Сергей в течение трех-четырех лет в поте лица по две-три книги в год писал, как станок. Он раскручивал себя сам. У многих молодых авторов вполне понятное желание, написав одну книжку, сразу прыгнуть в высшую лигу и остаться там, почивать на лаврах… Но чудес не бывает. Работать, работать и работать.
Д. Байкалов:Донецкое издательство «Сталкер» в 2002 году совместно с «АСТ» достаточно активно продвигало дебютантов на рынок.
Гл еб Гусаков («Сталкер»):Действительно, наша покет-серия «Библиотека фантастики «Сталкер» ориентирована как раз на молодых, нераскрученных фантастов или на тех авторов, кого мы считаем незаслуженно забытыми. Мы прочитываем абсолютно весь самотек и считаем необходимым издавать именно молодых фантастов, которые пишут достаточно грамотно и нестандартно мыслят.
К сожалению, оформление наших книг почти не отличается от АСТовских, это сбивает с толку покупателей… Но сейчас ведется разработка оригинального дизайна серии.
Д. Байкалов:Издательство «Вече» приступило к изданию фантастики лишь год-полтора назад. Но уже в прошлом году они выпустили более 50 книг наших авторов, среди которых и «герои прошлых десятилетий», и дебютанты.
Виталий Пищенко («Вече»):На сегодняшний день «Вече» выпускает пять фантастических серий, еще две планируем запустить в течение года. Таким образом, наш спектр практически закрывает все, что может быть сегодня в российской фантастике, включая подростковую. Пренебрегаем пока чистыми боевиками, опасаемся и «философской» НФ, слишком заумной. Но все, что вполне прилично, стараемся издавать. Правда, за прошедший год из самотека мы не приняли ничего. Дебютанты были, но их приводили люди, вкусам которых мы доверяем. Иначе говоря, эти авторы до нас уже прошли «первичный отбор».
Все рукописи мы рецензируем, но в течение трех-четырех месяцев – быстрее не получается. Существуют всего две причины, по которым мы отклоняем ту или иную рукопись. Первая – это когда автор не владеет языком. Часто возникает ощущение, что человек впервые пытается писать, а сел сразу за роман! И получается у него жалкая, беспомощная тягомотина. А вот вторая причина – это беда вообще всей нашей фантастики, просто у «молодежи» она наиболее явно проявляется. Я имею в виду отсутствие свежих идей. Авторы умеют создать мир, умеют придумать героя, но потом этот герой начинает заниматься чем угодно, кроме того, что должен делать по логике самого произведения.
Коллективные сборники мы не издаем, только авторские книги. Объем от восемнадцати до двадцати пяти авторских листов. Но это совсем не обязательно роман, авторские сборники мы тоже выпускаем.
Николай Ютанов («Terra Fantastica»):«TF» с 1995 года является пекиджинговым издательством, которое готовит книжные проекты, но самостоятельно книг не выпускает. Мы работаем с тремя крупными издательствами – «ЭКСМО», «АСТ» и «Азбука». Но с нашими молодыми авторами работают только последние два. Соответственно, рукописи, которые к нам приходят, мы после предварительного прочтения и отсева перенаправляем с рекомендациями в эти издательства. Однако так же, как и в случае с «Вече», нам мало что удается выудить из самотека, хотя все рукописи добросовестно читаются и рецензируются внутренними рецензентами. В некоторых случаях предполагались доработки, но потом мы вынуждены были отказываться. Тем не менее мы готовим НФ-проект и заинтересованы в сотрудничестве с молодыми авторами, которые согласны творить в рамках единой разработки, посвященной космической фантастике.
Дмитрий Янковский («Олма-Пресс»):Недавно наше издательство рискнуло вновь попытать счастья на рынке фантастики. Фантастику оно издавало и раньше, но эксперимент оказался не слишком удачным. Сейчас мы запускаем две серии для русскоязычных авторов: одна ориентирована на НФ со всеми поджанрами, другая – на фэнтези. Последняя также предполагает широкий жанровый диапазон – это и традиционная героическая фэнтези, и историко-фэнтезийный роман, и так называемая «славянская фэнтези».
Что касается фантастики, то формат этой серии родствен «Абсолютному оружию» издательства «ЭКСМО», но отбор рукописей будет не столь жестким, как в «ЭКСМО», мы готовы пойти на риск и издать роман, отклоняющийся от канонов жанра (формата). И все-таки мы не можем рисковать в самом начале пути, поэтому молодых авторов на стартовую площадку пока не выпустим. У нас имеется готовый пакет фантастов проверенных. Они и станут «первопроходцами», за которыми, надеюсь, потянутся и дебютанты. Тем более, что самотек мы уже начали рассматривать, отделяя зерна от плевел.
Дмитрий Володихин («Аванта+», «Мануфактура»):«Аванта» выпускает «Антологию мировой фантастики», но в данном случае издательство принимает предложения пока только от мастеров, авторов уже состоявшихся.
«Мануфактура» – сравнительно молодое и небольшое издательство, выпускающее один-два сборника в год – это номерной альманах «Сакральная фантастика».
Должен честно предупредить: в отличие от крупных издательств, у нас самые отвратительные гонорарные условия – никакого финансового поощрения, расплачиваемся авторскими экземплярами. Но зато мы можем позволить себе публиковать, что называется, неформатные тексты, то есть произведения, которые не укладываются в четкие жанровые рамки.
Д. Байкалов:Традиционный путь в литературу лежит через рассказ и короткую повесть. У нас же начинающий автор нередко дебютирует романом. Что думают по этому поводу господа издатели?
Н. Науменко:Короткая проза – это очень трудный жанр. Не всякий осилит. Романы писать куда проще. Вот молодежь (как и не молодежь) и пишет эпопеи-сериалы. Рассказчиков же, по большому счету, раз-два и обчелся. Не могу вспомнить яркого рассказчика-дебютанта за последние годы.
Г. Гусаков:Мы уже собрали три сборника рассказов, которые должны скоро появиться.
В. Пищенко:«Вече» не собирается пока выпускать коллективные сборники. С уважением отношусь к энтузиазму и подвижничеству Николая Науменко, взявшегося возродить ежегодник «Фантастика». И, честно говоря, душевно ему сочувствую… Люди разучились работать в коротком жанре. Силенок не хватает, зато с избытком амбиций. Поэтому я пока воздержусь от столь рискованного шага, каковым является составление коллективного сборника. Возможно, время пройдет, и ситуация изменится, но сейчас, мне кажется, она очень тяжелая.
Г. Гусаков:Но ведь необязательно делать коллективные сборники. Да, здесь большой риск. Но авторские сборники мне кажутся вполне перспективным начинанием.
В. Пищенко:Смотря какой автор. Мы выпустили сборник короткой прозы Андрея Саломатова. Но ведь это признанный мастер рассказа. А вот наберется ли достойных рассказов для самостоятельного сборника у молодого фантаста, необкатанного, не успевшего толком отточить свое литературное мастерство?
Д. Янковский:«Олма-Пресс» тоже в ближайшее время не планирует выпускать сборники. Ни авторские, ни коллективные. Как раз по той же причине, что высказал Виталий Пищенко.
Д. Володихин:Издательство «Мануфактура» принимает и рассказы, и повести. Мне кажется, что если рассказы еще есть где публиковать, то вот повесть – это действительно проблема. Мы стараемся по мере сил популяризировать именно среднюю форму.
В. Мельник:«ЭКСМО» выпускает только авторские сборники. Как правило – уже известных писателей. В нашей практике не принято дебютировать сборником – эту честь надо заслужить. Правда, сейчас мы готовим несколько тематических сборников, но их содержание составят опять же рассказы «проверенных» фантастов.
Что же касается начинающих авторов, пробующих себя в жанре рассказа, то для них хорошим трамплином могут стать журналы, у нас ведь их уже четыре. Как верно сказал Николай Науменко, главное – работать.
Материал подготовила Светлана ПРОКОПЧИК
Вл. Гаков
СКОЛЬКО БУДЕТ ДВАЖДЫ ДВА?
Благодаря этому писателю 1984 год еще до своего наступления стал легендой. Его прихода даже интеллигентные люди, не верившие в дурной глаз и пророчества, ожидали с трепетом. Так страшно стало, что сбудется… В 2003 году человеку, «напугавшему мир», исполнилось бы 100 лет.
Кажется, только в СССР никакой паники не наблюдалось. Тихо катился к закату «застой», и даже самые отчаянные оптимисты не верили, что следующий после оруэлловского год также войдет в историю. И что не за горами публикация на русском языке самого романа, долгое время открывавшего все проскрипционные списки.
Но что творилось на Западе, где книга английского писателя бесповоротно причислена к классике XX века! Симпозиумы и конференции, «круглые столы» и спецномера научных, литературных, публицистических и Бог знает каких еще журналов, новая экранизация романа и участившиеся ссылки на роковую дату в речах политических деятелей…
Что ж, на фоне многих страшных сказок о будущем, сочиненных на заре XX века, эта, рожденная в его полдень, просто вне конкуренции. Так всех перепугать!
Только один пример. «Вот мы живем в этом самом Лондоне 1984 года, и где же все описанное Оруэллом? Ни трупов на улицах, ни дрожащих от холода и страха толп в одинаковых синих комбинезонах, толп, постоянно окрикиваемых, одергиваемых и подстегиваемых вездесущим оком и стальным голосом телескринов… Нас что – ежедневно собирают на общие пятиминутки ненависти, бросают в застенки минилюба? Наши девушки носят пояса Антисексуальной Лиги, а любовь между мужем и женой запретна, как государственное преступление? Да, мы не изжили еще ненависть, ложь, лицемерие; но кто помнит времена, когда всего этого не было? При чем же здесь будущее, и почему этого автора считают пророком? А романом его зачитываются даже те, кто вообще редко заглядывает в книги».
Эту взволнованную тираду произнес авторитетный историк Уоррен Уэйгар в журнале «The Futurist».
Неудивительно, что среди разливанного моря книг об Оруэлле – практически ни одной чисто литературоведческой: разбор произведений обязательно связан с обстоятельствами жизни писателя. Да и как пройти мимо такой жизни – она сама читается как хорошо сделанный роман!
Эрик Артур Блэйр родился в 1903 году далеко от Англии, в Бенгалии. Родители принадлежали к высшему классу лишь генеалогически; будущий писатель с горечью вспоминал, как отец пытался оставаться джентльменом на 400 долларов в год…
Лейтмотивом через всю его жизнь проходит борьба. Поединок с социальной несправедливостью и с собственными убеждениями (он обладал редким мужеством «поступаться принципами», когда приходило понимание их ложности или негодности, но ни разу – ради выгоды), с обстоятельствами и мнением окружающих.
После окончания самого престижного из английских колледжей, Итонского, тогда еще Эрик Блэйр совершает свой первый шокирующий поступок: на пять лет отправляется в Бирму служить полицейским! Почти демонстративная выходка, бунт – по меркам страны Океании, которую еще предстоит выдумать писателю Оруэллу. Однако здесь нечто большее, чем мальчишество: юноше захотелось «попробовать на своих плечах гражданскую ответственность», и не в какой-нибудь не слишком утомительной форме, а исключительно «в самой неприятной и презираемой обществом».
Впрочем, личное знакомство с тюрьмой, как мы сейчас понимаем, оказало благотворное воздействие на будущего автора «1984»: «Я всегда входил в тюрьму с сознанием, что мое место не вне, а внутри нее. Я только один раз видел смертную казнь, и судья, приговаривающий к смерти по закону, показался мне нравственно хуже нарушающего закон преступника…»
С детства он тяжело болел – недуг не отпустил до самой смерти, наступившей так рано. Изначальная обреченность обязательно должна была сказаться на творчестве; сам он как-то горько обронил, что здоровым никогда бы не написал своих лучших – отчаянномрачных – книг. Достаточно представить себе: человек с двадцати лет привыкает к тому, что может не пережить очередную весну, – тогда совсем другими глазами читаешь его романы. Не потому ли все они без исключения начинаются ранней весной?
Однако характера Оруэллу было не занимать. Никогда он не искал для себя какого-то щадящего режима: работал на износ в Лондоне и Париже, голодал и нуждался большую часть жизни, умудрившись при этом сохранить поистине аристократическую брезгливость.
В довершение ко всему ему была присуща чисто интеллигентская – безо всякой позы – жертвенность. Стоило представиться случаю, и журналист Джордж Оруэлл отправился воевать в Испанию (псевдоним и родился в 1933 году, а в конце жизни Оруэлл сам, кажется, забыл о некоем Эрике Блэйре). В нем давно вызревала зависть к писателям прошлого, которым «случалось нарушать законы, бросать бомбы, участвовать в уличной перестрелке, сидеть в тюрьме или лагере, переходить границу с чужим паспортом».
В этом высказывании весь Ору-элл. Убежденный пацифист, он сражался в Испании. Был там тяжело ранен в горло и выжил почти чудом… Та война его серьезно надломила: как он писал, «остановилась жизнь». Это верно лишь отчасти. Закончилась жизнь журналиста и социалиста, наблюдавшего не только зверства франкистов, но и не менее кровавые «подвиги» сталинских бойцов невидимого фронта и следовавшего в кильватере руководства Испанской компартии. Новая жизнь – писателя и пророка – началась также в Испании.
Ненавидя всей душою политику («политика была для него бешеной собакой, с которой нельзя спускать глаз, иначе она вцепится вам в горло», – пишет один из его биографов) и особенно пропаганду, он во время второй мировой войны работал политическим комментатором Би-Би-Си. Хотя, не будь этого уникального личного опыта, мы бы, возможно, никогда не прочли его блестящей публицистики и «1984».
Наконец, будучи социалистом, он умудрился перессориться со всеми английскими «левыми». Для Оруэлла социализм был своего рода озарением, спасительной верой в братство людей, объединенных коллективной собственностью и общими интересами. Удивительный выбор для страстного защитника индивидуальности, вступившего в свое время в левоанархическую фракцию Независимой лейбористской партии.
Впрочем, ничего странного, стоит только внимательнее присмотреться к тому, что именно Оруэлл называл «социализмом»: «Я знаю на собственном опыте, что такое нищета, что значит быть изгоем. Это только усилило мою природную ненависть к господству, а Бирма раскрыла мне глаза на природу империализма. Но всего этого было еще недостаточно для того, чтобы выбрать для себя политические ориентиры. Испанская война и другие события 1936–1937 годов перевернули меня, и отныне я знал, на чем стою. Каждая строчка мною написанного, начиная с 1936 года, прямо или косвенно направлена против тоталитаризма и в защиту демократического социализма, как я его понимал».
Как он его понимал… Стадное чувство, казарменное «делай, как я» были противны его натуре. А потому и социализмом его символ веры можно назвать лишь с оговорками. В публицистической книге «Во чреве кита» Оруэлл признавался, как его изрядно испугала «лейбористская проповедь социализма, в которой не сказано прямо и четко, что главная его цель – справедливость и свобода». В другой раз с его губ сорвалось: «Отрицать социализм из-за недостойного поведения социалистов столь же абсурдно, как отказывать себе в поездках по железной дороге из-за дурных кондукторов».
Словом, это был его собственный, глубоко выстраданный, не замутненный политической демагогией «первичный социализм»…
Вся биография его зафиксирована до последних деталей в десятках книг. Но их бы не было столько, не успей он буквально вырвать у смерти, наступавшей на пятки, свой главный труд – роман «1984». История его создания также расписана в подробностях.
До конца 1930-х годов Оруэлл, хотя и с оговорками, но верил в материальный прогресс как в цель общественного развития; он и становление фашистской диктатуры поначалу объяснял лишь нищетой и разорением побежденной Германии. Однако в преддверии мировой войны, и особенно после того, как она началась, все здание веры Оруэлла дало трещину. А тут еще Испания, разочарование во вчерашних соратниках… Как писал его биограф, он «не сменил идеалов, но потерял веру в их осуществимость».
Его взгляды в эти годы сложны и путаны, под стать питающей их действительности. Что-то зреет в нем, какие-то глобальные обобщения; в этой идейной сумятице зачат плод, который даст в результате «1984».
Ну а все-таки с чего началось – может быть, с книги Дж. Бернхэма «Революция управляющих»? В ней устанавливалось тождество капитализма и социализма и предсказывалось появление единой мировой системы государственного капитализма, при которой индивид окажется растворен в массе государственной машины, а абстрактные свободы успешно заменит планирование. Прочитав Бернхэма, Оруэлл был потрясен. Он уже думал об этом – но как-то расплывчато, в смутных образах являлись ему картины будущего рационального «рая». А тут – словно математическая формула, чеканная ясность! После прочтения и осмысления книги Бернхэма оставалось лишь написать свою собственную.
Но Оруэлл собирался писать ее не для специалистов, не для интеллектуальной элиты, а для масс! Как-то перед самой войной он проговорился, что умер бы от счастья, если бы судьба даровала ему создать что-нибудь вроде «Хижины дяди Тома». «Критерий литературы, – делал он свой еретический в глазах коллег-интеллектуалов вывод, – выживаемость во времени, а последняя – лишь показатель мнения большинства». Никто не рискнет назвать его «1984» массовой литературой, не обвинит в потакании низменным вкусам публики, однако это одна из самых читаемых книг столетия.
А все потому, писал один из биографов, что, «в отличие от дипломированных специалистов и академических снобов, он умел видеть очевидное; в отличие от лукавых политиканов и тенденциозных интеллектуалов, он не боялся говорить то, что видел; и в отличие от большинства политологов и социологов, он мог высказать это на ясном английском языке».
Как это ни парадоксально, «1984» написан писателем-реалистом. Талантливым журналистом, хорошо знавшим быт лондонцев военных лет. Скудный рацион, малые «переселения народов» из городов в сельские районы и обратно, отсутствие бытовых удобств, к которым привыкли в мирной жизни, запущенные дома, плакаты на стенах «Гитлер слышит тебя»… Чуть-чуть отретушировать – и перед нами мир 1984-го. Кстати, постановщик последней киноверсии, английский режиссер Майкл Редфорд мало того что снял картину точно в «тот же» год, но и местом съемок выбрал аккуратно указанные в романе районы Лондона.
Мало кто из литераторов XX века смог так пронзительно выразить живительный, изначальный импульс человека к свободе.
Среди множества открытий Джорджа Оруэлла самое, вероятно, ценное – это особая философия тоталитарного строя: двоемыслие. А также ее лингвистическое оформление – новояз. Без них царство диктатуры неминуемо рухнуло бы; подкрепленное ими, оно завораживает жутью несокрушимости.
Науку двоемыслия будущий писатель познал уже в школе. В специфической английской приготовительной школе, где и по сей день розга представляет последний аргумент учителя.
Двоемыслие – это, конечно, самая страшная из его находок.
Оно срабатывает лучше лагерей и застенков, ибо в них несогласные быстро или медленно уничтожаются, а «двоемыслящие» искренне верят в Большого Брата, в любую реальность, какая на данный момент удовлетворяет идеологов.
Одна из наиболее памятных сцен романа – допрос, во время которого садист и властолюбец О’Брайен отечески обучает жертву тонкостям двоемыслия: от той требуется не подтвердить под пыткой, а понять, прочувствовать всей душою, что дважды два – столько, сколько нужно.
Однако именно порочный круг двоемыслия позволил герою прийти к главному выводу этой книги. Что такое свобода в мире-застенке, где сама реальность давно и безнадежно фальсифицирована, а «нетипичный» бунт одиночки подавляется легко и даже с каким-то особым сладострастием? Отвечая предшественникам – Дикарю Хаксли, Д-503 Замятина – автор устами героя четко формулирует: «Свобода – это возможность сказать, что дважды два – четыре. Если дозволено это, все остальное отсюда следует».