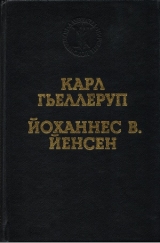
Текст книги "Мельница"
Автор книги: Карл Гьеллеруп
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 21 (всего у книги 22 страниц)
От этого-то зрелища Якоб и не мог оторвать взгляд. Он не смотрел на верх мельницы со дня убийства, и теперь вдруг перед ним был шатер, угольно-черный на фоне красного дыма или на мерцающем золотом фоне искр. Здесь сидели жертвы. Если бы они и сейчас находились там, можно было бы разглядеть их головы и плечи – иногда ему казалось, что он в самом деле их видит, да и почему бы им и не быть здесь, с таким же успехом, как прежде, они были на размольном этаже? – А вот орудие убийства, грубая, неуклюжая тормозная балка, вот она, темная и угрожающая…
Потом взгляд мельника обратился в другую точку, совсем близко от этой, – небольшой сдвиг оптической оси и при этом такое долгое путешествие: от ужаса к идиллии, от преступления к невинности.
Там, слева от зубчатого колеса, он стоял мальчиком вместе с маленькой Кристиной и смотрел, как поворачивают шатер. Они были еще совсем дети, и если бы их подобия стояли наверху сейчас, нельзя было бы разглядеть их головы, так как они не возвышались над балками, но он мог бы указать место, где они находились. И малышка Кристина испугалась и закричала: «А вдруг тормозная балка прижмет нас!»
А потом пришло другое воспоминание. Однажды ночью, когда его жена лежала в лихорадочном бреду, она вдруг села в постели и закричала: «Их раздавит… их пришибет тормозной балкой!» Тогда он услышал в этом лишь воспоминание о случае из их детства; теперь ему вдруг стало ясно, что это, наоборот, было предвидение. Удивительно, что это никогда не приходило ему в голову! А ведь в этом не было никакого сомнения: его жена благодаря загадочной способности, развившейся у нее во время болезни, провидела убийство.
Тот миг, когда эта мысль пришла ему в голову, был, возможно, самым ошеломляющим из всех ужасных минут, которые ему пришлось пережить. Как будто завеса скользнула в сторону и он мельком бросил взгляд в таинственные глубины, которые Господь скрыл от человеческого глаза.
Кристина видела убийство. Значит, оно каким-то таинственным образом существовало, предстояло и ждало. И разве на самом деле уже тогда, сидя у постели больной, он не запутался в узах греха и не сделал первых шагов по дороге, которая мало-помалу привела его к преступлению? И даже если бы дело не дошло до этого – например, если бы Лиза заболела и умерла еще раньше – что тогда? Ему нечего было бы скрывать от людей, совести не в чем особенно было бы упрекнуть его, счастливый и довольный собой, он мог бы жениться на Ханне – но был ли бы он сам от этого хоть немного лучше? Был ли бы он тогда не таким, как сейчас, – преступником и убийцей? В глазах человеческих – да, однако для Господа он был бы таким же, как сейчас.
И он сложил руки и стал молиться Господу, чтобы тот освободил его от него самого, совлек бы с него ветхого Адама и даровал бы ему милость возродиться по образу и подобию Спасителя. Он не смотрел больше на горящую мельницу, он смотрел вверх, где освещенные огнем облака разделились и между ними сверкала ясная звезда.
Он стоял так недолго, но для него время исчезло, как исчезло и все окружающее – он испытывал лишь чувство бесконечной ясности и неиссякаемого душевного покоя. Как счастлив был бы он умереть сейчас! Однако он знал, что это невозможно. Жизнь еще предъявляла на него свои права; ему еще предстояло пожать горькие плоды своего деяния.
Его пробудило к действительности смутное ощущение, что за ним наблюдают. Неохотно повернув голову в сторону, он встретил любящий взгляд Ханны и кивнул ей, улыбаясь, но улыбка получилась вымученная.
Заметив, что он молится, Ханна остановилась в нескольких шагах от него; она хотела помолиться вместе с ним, но не смогла; в ней смешались небесная и земная любовь, ибо никогда еще она не видела на лице любимого человека такого глубокого, не от мира сего, благоговения. Жаль, что брата не было здесь, он ведь часто говорил, что Якоб чересчур предан земному и не нашел еще дороги к Господу и что ее призвание – пробудить его. Однако теперь видно было, что он полностью пробудился и дальше ушел вперед, чем она сама. Он нашел дорогу к Господу, хоть и не много прочитал религиозных книг и не ходил на молитвенные собрания.
Теперь она подошла к нему, искренно растроганная, и взяла его за руку.
– Мы и в самом деле должны возблагодарить Господа за то, что он сделал для нас сегодня. Он спас тебя.
– Да, Ханна, именно так. Он спас меня.
Вообще-то он всего-навсего подтвердил ее слова, которые, по ее наивному мнению, никому и в голову бы не пришло отрицать. Но он так особенно подчеркнул это, и в голосе его и в выражении лица была такая торжественность, что Ханна взглянула на него вопросительно: уж не придает ли он своим словам еще какой-то иной смысл.
Однако мельник не заметил вопроса или, во всяком случае, не ответил на него.
– Милая Ханна, – сказал он. – Приведи, пожалуйста, брата. Я хочу обсудить с вами обоими одну вещь – причем немедленно.
Ханна предпочла бы остаться с ним наедине; она немного удивилась просьбе, но тут же пошла ее выполнять.
Найти брата было нелегко, потому что сейчас стечение народа в усадьбе было больше всего, к тому же люди разбились на отдельные группы – многие стояли в саду или на дороге; ослепляющий беспокойный свет мешал разглядеть и узнать человека. Именно сейчас в усадьбу привезли брандспойт и установили его между колодцем и конюшней, а до этого надо было быстро убрать скарб из людской и довольно много мешков, чтобы освободить ему место. От колодца к углу дома, прямо за мельницей, где вновь и вновь обливали водой паруса, защищавшие крышу, все еще передавались из рук в руки ведра. Ханна не успела сделать и нескольких шагов, как передняя часть галереи частично обрушилась вместе с горящей соломой, которая скопилась на ней, – отдельные доски выпали уже раньше, а другие еще висели на наклонных балках, поддерживавших галерею. На земле теперь горел костер и перегораживал проезд под мельницей, наполняя его густым дымом. Хотя в этом не было ничего опасного, сразу же раздались громкие крики и все пришли в большое волнение. Кое-кто считал, что работники по-прежнему находятся в подклети, спасая мешки с мукой, – эти кричали, что огонь надо немедленно погасить. Женщины уже оплакивали погибших. Несколько человек прибежали с вилами и граблями, чтобы разбросать костер и тушить горящие доски и снопы соломы порознь.
Ханна стояла посреди всего этого шума и гама, высматривая брата, и тут кто-то потянул ее за платье. Это был Ханс, который поднял на нее испуганные глаза, полные слез и вместе с тем счастливые – ведь он нашел тетю Ханну, которую он уже приучался называть «мама».
– Мама, мама! Где батюшка?
Растроганная этим сладостным для нее обращением, Ханна наклонилась и поцеловала его в губы и в лоб.
– Отец отдыхает, милый мой Ханс, он очень устал, когда взбирался на мельничные крылья, и теперь ему нужно полежать. Ты не видел дядю Вильхельма? Я его ищу.
Мальчик покачал головой.
Ханна растерянно огляделась. Что ей делать с бедным ребенком? Она не решалась взять его с собой на поиски брата в этой толчее, нельзя было также оставить его одного и кому она могла его доверить? В конце концов она отвела его к конюшне, где, как она надеялась, с ним уж во всяком случае ничего не случится. К тому же он был не один, потому что, как выяснилось, Дружок тоже нашел прибежище в этом тихом местечке. Щенок, скуля, прижался к мальчику, явно счастливый, что обрел доброго товарища в этих необычных и отнюдь не веселых играх, когда усадьба была на себя не похожа. Ханс должен был только пообещать, что будет хорошим мальчиком и никуда не уйдет от конюшни, чтобы маме не надо было из-за него беспокоиться.
К тому же и совсем поблизости было достаточно такого, что могло привлечь к себе его внимание, и в качестве зрителя он едва ли мог найти себе более удачный наблюдательный пункт. Всего лишь в двадцати шагах – в его собственных двадцати шажках – немного левее колодца, равномерно двигая поршнем, работал брандспойт, из его рукава с хриплым шипением вытекали струи воды, сами сверкавшие как огонь; они врезались в пламя, которое вырывалось из драночной крыши пекарни, в том месте, где она примыкала к мельнице. Здесь было так уютно и так успокаивал хорошо знакомый голос дяди Хенрика: «Качай, качай! Не ленись! Нам, черт меня побери, уже немного осталось!» А чуть подальше не останавливался ни на минуту ворот колодца, ведра поднимались и опускались, и за теми, которые поднимались, Ханс мог проследить до самого верху, до крыши над гостиной, где они опрокидывали свой сверкающий поток на мокрые паруса, похожие на блестящую золотую фольгу.
Но в самой середине, господствуя надо всем, горела мельница. И Ханс не мог отвести расширенных от удивления глазенок от этого огненного чудовища – клубка дыма и пламени, в который вдруг превратилась старая мельница с ее темно-бурым, там и сям позеленевшим от мха соломенным шатром. Смотреть на нее было интересно и, в сущности, очень весело, но в горле у мальчика стоял ком, хотя, с другой стороны, он не знал, есть ли у него причина для слез. Было удивительно и совершенно непонятно, что вот так горела старая мельница, которую он помнил с самого раннего детства, по закоулкам которой сверху донизу много раз ползал, где он знал каждую балку и каждое колесо, где, как он слышал, играли папа и мама, когда были маленькие, и где он сам должен был работать, сначала подручным, потом работником и, наконец, когда-нибудь мастером и хозяином – стоило подумать об этом, и хотелось все глаза выплакать. Но теперь уже все равно это не была та уютная красивая старая мельница, потому что ведь она раздавила бедненьких Йоргена и Лизу, и Ханс вообще не решался подниматься туда. Ну и хорошо, что она сгорела и батюшка построит новую, где не будет капать кровь, как, по рассказам Кристиана, капает в старой.
Теперь мало-помалу загорелись крылья. Прошло много времени, пока огонь добрался до них, но теперь пламя начало жадно обгладывать их, они дымились, и маленькие язычки пламени ползли вдоль их черных махов, распространяясь по свернутым парусам. Один из парусов, веревки которого сверху сгорели, начал развеваться – и одновременно крылья завертелись, поскольку прогорел вал, на котором они были укреплены. Потом четыре паруса расправились, как знамена на древках. Быстрее и быстрее вертелись они, сильнее разгорались – и, сверху донизу одетые пламенными парусами, постоянно набирали скорость, пока не превратились в огненный вихрь, рассыпавший во все стороны искры.
И видно было, как на мельнице, передняя часть которой превратилась в движущуюся пелену дыма, словно паутину, обмотанную и развевающуюся вокруг обугленных балок, за этой пеленой на горящем фоне самой задней части шатра, вертелось гигантское ведущее колесо и все шестерни вертелись вокруг него, как планеты вокруг солнца. Сквозь шипение и клокотание пожара слышно было не только, как со свистом полоскались крылья, но, как жужжа и громыхая, двигался механизм.
Мельница работала – работала в последний раз.
Не только в больших испуганных и в то же время любопытных детских глазах отражалось это зрелище. Все смотрели вверх. Тот, кто управлялся с брандспойтом, позабыл об опасности, угрожавшей пекарне, те, кто работал у насоса, остановились в оцепенении, ведра застревали в колодце, на крыше жилого дома сидел на коньке Кристиан, забыв вылить полное ведро воды; по всей толпе проходил приглушенный гул испуганного восхищения.
Отделившись от других в проходе между конюшней и жилым домом, мельник, Ханна и лесничий не отрывали глаз от работающей огненной мельницы, которая бросала на их лица жаркий пламенный отблеск, высвечивая на них большую взволнованность, чем на всех других повернутых вверх лицах, вместе взятых.
Мельник поведал лесничему и Ханне, что произошло, начиная с той минуты, как он заглянул в комнату и сказал, что ему надо ненадолго сходить на мельницу-все, начиная с удивительного вида и слов Кристиана и кончая призраком, который остановил и спас его. Брат и сестра слушали, затаив дыхание. Ханна сильно, чуть ли не до боли, сжимала руку любимого; если бы не отблеск пожара, ее лицо было бы смертельно бледным, а глаза, пока мельник рассказывал свою историю, широко раскрылись и застыли. Такими, подумал он, были, наверное, и мои глаза, когда я увидел Йоргена и Лизу. Но страшнее всего было то, что слушатели чувствовали: самое ужасное было еще впереди. Рассказ был окончен; он был доведен до того места, где к нему присоединялись их собственные воспоминания как очевидцев, и все же у брата и сестры было ощущение, что Якобу осталось еще что сказать, – может быть, самое важное, и какая-то страшная правда ведет жестокую борьбу за то, чтобы выйти наружу.
Но что бы это могло быть?
Вильхельм и Ханна не сводили глаз с огненных крыльев, ведь стоит им взглянуть на Якоба, и в их глазах появится вопрос; а спрашивать его им было не о чем, не так ли?
Мельник заговорил первым.
– И надо же было так совпасть, Вильхельм, что ты как раз сегодня вечером упомянул о предвестиях – они, дескать, посылаются людям, чтобы те могли приготовиться к смерти.
– Значит, ты думаешь, это было предупреждение?
– Якоб, милый Якоб! – воскликнула Ханна и прижала его руку к своей груди.
Так вот откуда это его странное отсутствующее выражение – то, которое она не могла в отличие от мадам Андерсен объяснить шоком от удара молнии. Вот, значит, что он утаил: страх смерти. Разве не естественно предположить, что появление тех, кого он, сам того не зная, так внезапно отправил на тот свет, было знаком, что и он вскоре за ними последует? Ну, разумеется! Она попыталась разубедить и Якоба и себя самое, преодолеть страх, в который повергла эта мысль ее и, как она предполагала, его тоже. Ихпоявление совсем не обязательно должно было означать именно это. Ведь часто приходится слышать, что людям являлись привидения, особенно призраки людей, которые умерли внезапно и лютой смертью, но после этого никто не умирал. К тому же Кристиан тоже видел их.
– Нечего вбивать себе в голову всякие фантазии, – поддержал ее брат, – надо иметь мужество жить, хотя, с другой стороны, ты прав, что так серьезно отнесся к этому, ведь помнить о смерти мы должны все и всегда.
Брат и сестра порадовались тому, что их слова не прозвучали втуне. Лицо мельника просветлело. Страх явно отпустил его, видно, решили брат с сестрой, взгляд смерти больше не смотрел ему прямо в глаза. Впрочем, лицо мельника сохраняло серьезность; верно, он все равно считал, что привидение о чем-то упреждало его, ради спасения его души – как до этого оно спасло ему жизнь.
На самом же деле лицо мельника просветлело совсем не потому, наоборот, до того у него и в мыслях не было, что привидения хотели упредить его о близкой смерти, и к тому же предвестие смерти было бы для него самым утешительным, какое только можно сыскать. Не угрозу – надежду таило бы в себе оно.
– Да, наверно, их появление можно понять и так, – ответил мельник. – Помнишь, я был у вас осенью и мы с тобой, Ханна, говорили о животных, убитых пулей охотника в лесу, и я сказал, мол, быструю и неожиданную смерть от пули каждый предпочтет; а ты так красиво ответила, что быстрая и неожиданная смерть от пули, конечно, лучше всего для бессловесной твари, но не для крещеного человека, который готовится предстать перед вечным судией и в смертный час еще нуждается в том, чтобы уладить счеты с миром… И если ты, милая, добрая душа, можешь чувствовать это так глубоко, то что же говорить обо мне…
– А почему ты должен чувствовать это глубже, чем я? Разве я не такая же грешница? – возразила Ханна укоризненно, но вместе с тем, чувствуя, что эти слова связаны с чем-то определенным – и чем-то ужасным.
Мельник не ответил, но продолжал следовать ходу собственных мыслей.
– В том-то и дело. Не покажись онимне тогда, со мной получилось бы именно это: меня внезапно убило бы молнией, как животное пулей охотника.
Мельник умолк, и лесничий серьезно кивнул сестре, подумав о Лютере, чей друг был убит молнией, находясь рядом с ним. И снова кивнул с довольной усмешкой:
– Он пробудился. Якоб стал одним из наших.
Пока мельник говорил, та часть галереи, которая выдавалась над крышей пекарни, рухнула на эту крышу, и несколько горящих досок там и остались, а несколько балок распались на куски. Таким образом, опасность для пекарни возросла, и сейчас огонь словно стремился к тому, чтобы победить маленькое строение любой ценой, одно из вертящихся крыльев упало вниз и пробило крышу насквозь. Брандспойт пришлось передвинуть левее; при этом было много излишних криков и команд Дракона, которые закончились возгласом: «Ну, давай теперь залп по всему борту».
Лесничий и его сестра делали вид, что следят за этими событиями, но на самом деле ожидали продолжения речи мельника. Ведь если, как он сказал, ему не страшно было видеть в призраках на мельнице предвестие смерти, значит, на душе у него лежала какая-то другая тяжесть.
Мельница с тремя крыльями и почти без парусов работала теперь значительно медленнее; последние обрывки горящих парусов один за другим уносил ветер.
– Помнишь, – начал мельник, положив руку на плечо друга, – помнишь, Вильхельм, ты не мог забыть, ведь прошла всего неделя, как мы сидели в доме и говорили о том, что пожениться можно с таким же успехом и сейчас… и ты утешал меня и сказал, что все происходит по Божьему произволению – в том числе и то, что случилось на мельнице. И если бы даже я повернул ворот, зная, что эти двое находятся там наверху, как меня в том хотели обвинить, то и тогда, сказал ты, это была бы Божья воля и произошло бы ради моего собственного блага, для того, чтобы моя грешная природа вышла на свет Божий, и меня охватили бы страх и ужас перед самим собой, и я бы обратился.
Он помолчал минуту и глубоко набрал в легкие воздух.
– Дорогие друзья! Это самое я и должен вам сказать: это правда.
Ханна взяла его руку в свои и почувствовала, какая она холодная и влажная.
– Боже милостивый! Якоб! Я тебя не понимаю.
Однако брат кивнул ей головой, успокаивая.
– Да, да, Ханна! Якоб правду говорит. Мы же с тобой тоже заметили, что он – на пути обращения.
– Да, и я это чувствую. Но ты неправильно меня понял… То, что ты предположил, – правда. Дорогие друзья! Не проклинайте меня вы, если сам Господь милостив… Я действительно совершил это… Я знал, что они там… я намеренно убил их.
Лесничий отступил на шаг – не от ужаса или отвращения, хотя мельник понял его именно так, потому что рука друга, лежавшая у него на плече, вяло опустилась. Лесничий лишь хотел четко разглядеть лицо зятя: не бредит ли он? Сестра же просто не сомневалась, что он тронулся умом. От встречи ли с привидениями или от близкого удара молнии он помешался. Разумеется, и угрюмость, которую всегда в нем замечали, и сознание, что власти подозревают его, вели к тому же, а труд и страх сегодняшнего вечера, которые и здоровому были бы не под силу, совсем лишили его рассудка. Она крепко приникла к нему и прошептала:
– Якоб, не говори так! Приди в себя, мой любимейший друг!.. Одумайся.
Но ее брат увидел, что мельник, как болезненно ни было искажено его лицо, находится в полном сознании. Лесничий вспомнил много разрозненных подробностей, которые теперь соединились в новом освещении, и понял, что зять и правда виноват. И после короткого молчания, непроизвольно сложив руки для молитвы, он произнес:
– Я верю тебе, Якоб… Господь милостив, а Спаситель умер также и ради тебя.
Якоб кивнул в ответ, и у Ханны исчезла всякая надежда, что ее любимый мог говорить в бреду, исчезла так же внезапно и без остатка, как появилась, неумолимая правда глядела ей прямо в глаза из глаз мельника, беззвучно повторявшего:
– Моя бедная, бедная Ханна!
Она выпустила его из объятий, обхватила голову обеими руками и издала крик, который привлек бы к ним всеобщее внимание, если бы не потонул в шуме, вопле и гаме, который возник именно в эту минуту.
Дело в том, что на крышу жилого дома швырнуло одно из мельничных крыльев – как огромный факел для поджога, к счастью, наполовину прогоревший. Поскольку такой случай был предусмотрен, место на крыше было очищено и никто не пострадал. Горящее крыло быстро перевалили через угол дома в сад, а остатки разбитых при падении иглиц сгребли вниз граблями. Но прогорели паруса, которые оставались без полива минут десять, и там, где они свисали с крыши и потому не поливались, также стало заниматься пламя. Помимо ведер, которые сразу же опять взялись за работу, пришлось и брандспойту вступить в борьбу с этой новой опасностью. Доселе неслыханные ругательства собственного изобретения посыпались с губ Дракона. Отступив от пекарни, огонь нашел-таки уголок, где он мог собраться с силами.
Самыми безучастными ко всему шуму вокруг них, равнодушными к тому, сгорит ли жилой дом, или пекарня, или вообще все дотла, были мельник, Ханна и лесничий. Они стояли в углу, отделенные от всего и всех ужасной тайной.
Хотя удар для Ханны был страшный, несчастная девушка не упала в обморок – слишком здоровая у нее была натура и, кроме того, на первый план сразу же выступила одна мысль, подавившая все остальные. Эта мысль была: значит, он все – таки любил не ее, а Лизу.
Мельник прочитал укор в застывшем взгляде Ханны. Она стояла, слегка отстранившись, но протянув к нему руки и не сводя с него глаз с выражением, которого он до сих пор у нее не видел.
– О, Ханна, Ханна! – воскликнул он. – Я поступил с тобой дурно, мне нет оправдания… я знаю это сам, прости меня!
Она продолжала смотреть на него тем же взглядом и пробормотала еле слышно:
– Как ты мог?
– Я… Ханна… во мне много зла, я грешен, но этого ты не можешь понять, я ведь говорил тебе, меня ты понять не можешь… Да, я любил ее, Лизу… я вожделел ее, плотская страсть – все равно что болезнь, она не дает человеку покоя… я знал, что Лиза дурная женщина, но тем не менее… она соблазняла меня – нет, это было потому, что я сам дурной человек… и я знал, что ты хорошая… ты могла бы спасти меня… но я был околдован, я был опутан сетями греха… Это было еще до Кристининой смерти…
И, перебивая сам себя, урывками, беспорядочно, мельник рассказал всю историю своей страсти – как сначала она подкралась тайно, вызвала подозрения Кристины, отравила ей жизнь и, может быть, была причиной ее смерти; как его швыряло из стороны в сторону между Ханной и Лизой, добрым и злым ангелом, той, кого он хотел любить, и той, кого любил… как Лиза постоянно снова улавливала его в свои сети, как мучили его ревность и подозрение, что она любит Йоргена. Он вспомнил то воскресенье в ноябре, когда он охотно разрешил маленькому Хансу остаться ночевать у лесничего, а сам бросился домой прямиком через лес, словно дикий зверь, гонимый одной безумной страстью – соблазнить Лизу. А потом пришел другой ноябрьский день – следующая пятница, когда он обещал Лизе жениться на ней и заехал к ним, чтобы проститься с местом, где он был всего счастливее, и с друзьями, которых он любил больше всех, и в тот вечер произошло убийство.
Ханна чувствовала себя как человек, который долго замечал, что живет на ненадежной почве, а в воздухе пахнет чем-то мрачным и угрожающим, и вдруг заглянул в кратер вулкана, бывшего причиной этих явлений. Грех и страсть она до сих пор в сущности знала только по названиям и из абстрактного осуждения на проповедях и в религиозных книгах. Она знала также, что грех и страсть существуют и в ней самой, у нее даже бывали иногда смутные проблески самопознания, в которых она с искренней верой признавала себя грешницей, и за то лишь, что она была такой, как она была, более того, за то лишь, что она была человеком. Она признавала себя достойной проклятия и вечных мук – не спаси ее вера и не искупи жертвенная смерть Иисуса. Но все это витало вдалеке, окутанное дымкой тумана; теперь же это подступило к ней вплотную, она стояла со всем этим лицом к лицу, слышала, как оно говорит самым любимым голосом в мире, и чувствовала его в собственном теле, потому что ведь этот мужчина, которого она любила и который тоже любил ее, и был ее собственным телом. Да, он любил ее! Он сказал ей о своей любви, когда они сидели у пруда, сказал от всей души, и это не были пустые слова. И сейчас, слушая его, она поняла многое в его поведении и нраве, многое, что прежде было загадочным для нее. Она увидела, как он стремился к ней со страхом и надеждой, пытаясь преодолеть собственную натуру и не единожды споткнувшись, и, больно упав, достиг ее только сейчас, когда было уже слишком поздно – слишком поздно для того, чтобы из этого могло произрасти земное счастье.
Но не слишком поздно для того, чтобы она полюбила его навеки и сопровождала его повсюду и служила ему утешением, если ему после этого потребуется земное утешение.
Мельник молчал. Ханна прижалась к его груди, обхватив рукой за шею, лесничий держал его руку в своих. Слезы бежали по щекам мельника. В последний раз он плакал над гробом Кристины, и сейчас в слезах находил облегчение, какого никогда больше уже не надеялся испытать. Истинной благодатью было выговориться и довериться друзьям, не держать больше эту тайну запертой у себя в груди, словно пар, который разорвет котел, если не открыть клапан. Впервые в жизни он был в глазах своих друзей тем, кем он был в действительности. И хотя он, при всем своем страхе перед признанием, был уверен в том, что эти двое не порвут с ним – пусть даже все остальные от него отвернутся, – было что-то удивительное в том, что вот он обвинил сам себя, ничего не скрывая и ничего не приукрашивая, а между тем его по-прежнему окружает любовь – исполненная понимания и прощения дружба и любовь до гроба.
Он почувствовал бы себя почти счастливым даже и в житейском, человеческом смысле, если бы эта любовь, едва войдя в его сердце со своим примирением и покоем, тут же не стала его новой виной – ведь эта милая женщина, приникшая к нему, стала из-за него несчастной! Ее сегодняшний приход на мельницу был словно первый шаг к алтарю; наконец-то она посмела надеяться – и надеялась, что все будет хорошо, и тут же выяснилось, что все давно уже непоправимо загублено. Чем более терпеливо и кротко она переносила это разочарование, тем яснее открывалась мощь ее чувства, потому что только настоящая любовь, обманутая в своих ожиданиях земного счастья, может дать человеку силу перенести это.
Еще обильнее потекли слезы по его искаженному лицу, когда он нежно прижал Ханну к себе и встретился с ее взглядом – взглядом, затуманенным болью мученичества и одновременно просветленным очищающей силой мученичества. Было своеобразное чувство освобождения в том, чтобы плакать о другом человеке – о ней, ведь он так долго был эгоистически замкнут в себе, в собственных страданиях, и, ослепленный страхом, вряд ли мог чувствовать что-либо вне себя самого.
– Бедный, бедный мой друг! Как же, наверное, ты страдал! – прошептала она.
– Я-то страдал за дело. Но как пришлось страдать тебе, и виноват в этом я один!
– Уж не думаешь ли ты, что я согласилась бы лишиться этого и предпочла бы никогда не знать тебя!
– Это было бы наверняка самое лучшее для тебя, – ответил Якоб с глубоким вздохом и покачал головой.
– Что лучше всего для нас, знает только тот, кому мы будем молиться, чтобы он привел нас всех к себе, – сказал лесничий.
Сейчас стало тише, чем несколько минут назад, да и чем во время всего пожара, и намного меньше людей в усадьбе, потому что большинство перебежало на другую сторону пекарни помочь тушить там. После того как мельница сделала последнее усилие, бросив в бой огромные факелы для поджога, и их атака была победоносно отбита, можно было считать, что жилой дом вне опасности. Не было больше пылающего костра совсем близко, от невыносимого жара которого могла заняться соломенная крыша дома. Внизу, в каменном цоколе мельницы, еще горел складской этаж, но сверху стоял лишь черный скелет из балок, окутанный развевающимся красным покровом дыма. От соломы ничего не осталось, все этажи стояли голые. С единственным вытянутым вверх дымящимся крылом и частью помоста, обозначавшим место, где раньше была галерея, пожарище было в точности похоже на чертеж голландской мельницы в разрезе в каком-нибудь руководстве по мельничному делу-Якоб с грустью вспомнил, как в молодости он купил такую книгу на аукционе и подарил ее отцу на его последний день рождения. И он отчетливо увидел перед собой лицо старика с очками, съехавшими на кончик носа, когда отец склонился над книгой, – красивое, с резкими чертами старое лицо с каймой белой бороды под подбородком. Он был гордым человеком, хозяин Вышней мельницы, и уважаемым человеком, который играл роль в политических движениях своего времени и участвовал в Законодательном собрании, – а его сын закончит свои дни в тюрьме! Но это была лишь мимолетная мысль. Неважно, сидишь ли ты в Законодательном собрании или в тюрьме, важно в конце концов прийти к Предвечному отцу.
Справа от мельницы все еще неуемно валил дым из пекарни. Но поскольку теперь все силы были собраны в этом месте, никто не сомневался, что здесь удастся победить пожар. Это было чрезвычайно важно, ибо если пекарня станет жертвой пламени, оно неминуемо перекинется на конюшню и таким обходным путем достигнет жилого дома.
С неутомимым однообразием качала помпа и шипела струя брандспойта, но треск и клокотание пожара казались всего лишь далеким эхом его прежнего шума. Гул голосов тоже превратился в приглушенное бормотание, а отдельные возгласы или приказания казались чуть ли не кроткой просьбой. Люди нашумелись и накричались до усталости и хрипоты, и даже голос Дракона давно умолк. Но вдруг он прозвучал с новой силой, с оттенком оживленного веселья. С той или иной героической целью – а может быть и вовсе без всякой цели-Дракон вскочил на раму насоса. Зычность его голоса, а также его бодрость, возможно, частично объяснялись выпитым пивом, пустая бутылка из-под которого описала дугу и приземлилась позади конюшни, в особенности это показалось бы вероятным тому, кто знал, что бутылка была далеко не первая. Работа, с которой пришлось справляться Дракону, вызывала жажду, а колодезную воду он берег, чтобы заливать огонь.
– Добрый вечер! Вечер добрый, господин помощник фогта! – воскликнул он и поклонился преувеличенно низко, так что чуть не потерял равновесия на своей узкой ораторской трибуне. – Вот это по-нашему, вот это славно! Подходите, подходите-ка поближе! Эй, парень, отойди в сторонку и пропусти господина в фуражке!.. Смотрите, ваша честь, мы не сидим здесь сложа руки! Пусть только страховое общество попробует сказать, что мы не сделали все возможное…








