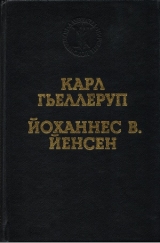
Текст книги "Мельница"
Автор книги: Карл Гьеллеруп
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 19 (всего у книги 22 страниц)
Ханна встала и медленно пошла прочь по тропинке, ведущей меж старых яблонь, за чьими белыми, в красную крапинку цветами просвечивало белесое с красноватым отливом небо. Ей было неприятно, что маленькое таинство ее жизни, которое освящало ее любовь и делало ее чем-то большим, нежели просто земное пламя, профанировалось дурашливыми шутками неотесанного мужлана. К тому же ей хотелось побыть одной со своими мыслями, и потому она не очень обрадовалась, услышав у себя за спиной мелкие торопливые шажки. Но бабушка позвала Ханса обратно и стала расспрашивать о школе и отметках.
Мельник проводил глазами девическую фигуру в розовом платье, все больше сливающуюся с розоватой белизной неба и цветов. Ему страстно захотелось побыть с ней наедине.
Ему пришла в голову удачная мысль: он пробормотал что – то насчет горячего пунша – пробормотал с некоторым смущением, которое оказалось совершенно излишним.
– Я не откажусь, Якоб. Если мне предлагают, я не из тех, кто отказывается, видит Бог, не из тех, – заверил шурин громогласно и горячо, как будто кто-то заподозрил его в том, что он такой ханжа.
Мельник пошел в кухню отдать служанке распоряжение насчет пунша, затем вышел в огород, как бы желая за чем-то приглядеть, и поспешил задами пройти в сад, тщательно стараясь не попадаться на глаза сидящим за столом. Ему удалось таким образом добраться до пруда.
Ханна действительно была там и сидела на камне – том самом, рядом с которым в день похорон она стояла вместе с братом и мельником. В тени склоненных кустов бузины маленький пруд казался таким же темно-зеленым, как тогда; две белые утки, как и тогда, плавали в пруду, по воде расходились блестящие кольца, там и сям на воде покачивалось перо. Ничего не изменилось. И Ханна думала о том, что произошло между этими двумя днями – в сущности, это было все, что ей пришлось пережить за свою небогатую событиями жизнь. Она вспоминала, как постепенно росла ее привязанность к мельнику… тихую радость от его визитов… тоску, когда он долго не появлялся, – даже тоска не казалась ей мучительной, наоборот: вспоминая ее сейчас, Ханна находила прелестными также и те вечера, когда она высчитывала, давно ли он был у них прошлый раз, и утра, когда она сразу же после молитвы выглядывала во двор посмотреть, какова погода, не выманит ли она его с мельницы в дом лесничего, и дни, когда она сидела с шитьем у окна, откуда была видна дорога, и часто посматривала, не идет ли кто. Однажды в сумерки, вспоминала она, когда она звала Енни, ей вдруг пришло в голову: если он слышит ее сейчас на мельнице, может быть, и ему захочется прийти к ней? Она вспоминала, как боязливая, робкая надежда перерастала в уверенность, что мельник тоже любит ее… И Ханс, который все нежнее привязывался к ней и которого она сама любила все сильнее, был как бы слепым и пребывающим в неведении амуром между ними. Они обсуждали его характер и склонности, его воспитание, как лучше найти к нему подход, а вскоре стали обсуждать то, что глубже всего волнует человеческую душу: великие вопросы, вечные истины. Здесь она опережала его – она и думала и читала об этом больше, и он скорее учился у нее, а не был, как должно, ее наставником. Это не вызывало у нее высокомерия, но все же, вот так ведя его по пути к Господу, она испытывала некую горделивую радость. И она вспоминала их прогулки по берегу сверкающего пролива, среди пепельно-серых стволов под крышей листвы, раз от разу все сильнее отливавшей золотом и бронзой, или по вечерам в тихом кротком сиянии луны, пронизывающей осенний лес серебряным светом.
А потом случилось это ужасное событие на мельнице – случилось всего лишь через несколько часов после того, как они разговаривали в ее мирной гостиной. Ей показалось удивительным совпадением, что совсем незадолго до этого Лизин брат застрелил Енни. Словно косуля была духом идиллии, и теперь, когда на их жизнь упала такая мрачная тень, этот дух покинул их. Но и в жизни под тенью на ее долю выпало великое, возвышенное мгновение – когда Ханна на допросе у фогта, перешагнув через девичью стыдливость, поведала об их с мельником любви – той любви, о которой они сами еще никогда не говорили в полный голос, мало того, почти не намекали на нее, – ясно и четко рассказала она все до мельчайшей подробности, которая могла иметь хоть какое-нибудь значение, чтобы правда вышла на свет Божий и любимый человек очистился от обвинения, столь же ужасного, сколь и нелепого. Тогда-то она и узнала, что в сущности означал таинственный стук в окно-до сих пор у нее лишь иногда мелькали смутные догадки, и получила подтверждение тому, что, уже тогда любя друг друга и думая о женитьбе, они были далеки оттого, чтобы оскорбить память Кристины…
Потом настало унылое мертвое время – тягучие темные зимние месяцы. Ничего удивительного, что на душе у мельника лежал гнет, что он не мог, с легким сердцем отвернувшись оттого устрашающего и чудовищного происшествия, в котором послужил орудием, отдаться сладостным предвкушениям любви, – она бы первая не поняла его. Иногда, правда, ей казалось, что он мог бы поменьше сторониться людей – по крайней мере, ее с братом: чаще приходить, откровеннее разговаривать; но он и раньше слыл нелюдимом. Все придет само собой, мало-помалу; то же говорил и брат, которыму она изливала душу.
И вот оно пришло! Вместе со льдом и снегом растаяло и его сердце, надежда и радость жизни распустились вместе с почками и расцвели, как цветы. Только бы ей удалось навсегда оградить его от мрачных мыслей, так, чтобы они никогда больше не одержали над ним верх! Ведь они все еще подстерегают его и угрожают ему, она это видела и понимала: иначе не может быть. Скоро этот дом станет ее домом, она будет коротать здесь свои дни и ночи. Не дай ей Бог сидеть здесь в одиночестве и плакать о том, что ее любовь оказалась бессильной прогнать мрачные тени и дать ему покой!
Погруженная в размышления, она не заметила мельника, пока он не оказался совсем рядом.
– Я знал, что найду тебя здесь, Ханна, – сказал он.
– Да, меня потянуло сюда снова… Как славно, что ты пришел ко мне.
– Я тоже очень люблю этот пруд… после тогодня. Я часто стоял здесь и думал о тебе.
– Правда, Якоб?
Она взяла его за руку, которую он положил ей на колено, и они посмотрели друг на друга с нежностью, пока еще немного робкой и сдержанной.
– Знаешь что, Якоб? Мне кажется, в тот день я уже любила тебя.
– О нет, Ханна! Навряд ли это было возможно.
– Это было нехорошо, и я даже подумать не могла об этом, но мне кажется, что все равно в глубине души я любила тебя.
– Милая, милая Ханна! – воскликнул мельник и запечатлел поцелуй на ее руке.
Она осторожно отняла у него руку, сплела пальцы на коленях и стала глядеть на пруд – на белое перышко, плывущее прямо к ней.
– Когда ты рассказывал, что Кристина подумала обо мне в свой смертный час – ты, мол, знал это, хотя она и не назвала меня по имени, – мне тоже показалось, что я как будто догадалась… мне это и в голову не приходило, но сейчас я уверена, что знала… я помню, что со мной было…
– Ты как будто немного испугалась, – заметил мельник.
Она раздумчиво кивнула.
– А теперь ты тоже боишься, Ханна? – спросил он, сам пугаясь.
Ханна подняла голову и взглянула ему в глаза с отважной улыбкой.
– Нет, нет! Теперь нет. Я ведь теперь знаю, что это мое право…
Но открытый и доверчивый взгляд, звонкость голоса, выражавшего простоту и цельность, безусловную преданность чистой и наивной души – все это смутило и пристыдило мельника. С устрашающей ясностью ему представилась фальшь его собственного поведения и ответственность, которую он брал на себя, привязывая невинное и набожное существо к своей пропащей жизни. Но что пользы теперь угрызаться, ведь все уже решено и уклониться нельзя – может быть, он еще сумел бы сделать это несколько дней назад, но не теперь.
Ханна сразу же заметила внезапную тень, пробежавшую по лицу мельника, и истолковала ее на свой лад. Она нагнулась к нему и слегка погладила по лбу.
– Да, Якоб, я знаю также, что Господь привел меня сюда, возложив на меня задачу, и с его помощью я решу ее.
– О Ханна! Ты всегда была моим добрым ангелом, – воскликнул мельник.
– Нет, Якоб, ты не должен так говорить!
– Нет, Ханна, должен, я ведь всегда так чувствовал. Ты приведешь меня к добру… Ну а если я все-таки не смогу дойти, – я знаю, что если кто-нибудь был в силах привести меня к добру, то только ты, но, возможно, все получится не так, как ты думала… Ты не знаешь, как тяжело у меня на душе – тебе этого не понять…
– Я пойму, мой друг! Я научусь понимать – мало-помалу… Вот увидишь, мы сможем говорить с тобой также и об этом… ведь добрые супруги могут говорить обо всем… мы разделим эту ношу…
– Нет, нет! Разделим? Ты и я? О нет, ты просто не знаешь, что со мной… Это совсем другое… такое… о, такое страшное я никогда не смогу объяснить тебе… никогда! Ведь ты… о, ты подобна ангелу, это я знаю… когда я смотрю на тебя, мне хочется сложить руки и молиться на тебя.
В возбуждении он приподнялся и стоял чуть ли не на коленях перед ней.
Она не отводила испуганного взгляда от его лица, где удивительным образом смешивались душевная тревога и искренняя преданность.
– Якоб! Не говори так, слышишь, не говори больше – это грешно. Такая слабая и грешная женщина, как я… никогда больше не говори так, хорошо?
– Я не могу иначе, Ханна! Я не могу не боготворить…
– Нет, можешь, конечно, можешь! Ты должен больше думать о Боге и молиться ему за меня, тогда ты будешь вспоминать, что я такая же жалкая грешница, как ты сам, и что мы должны идти вместе и стараться помогать друг другу продвигаться вперед. Тогда тебе не придет в голову боготворить меня, но ты будешь привязан ко мне… потому что… хоть немного любить меня ты должен, Якоб.
Она зарделась, произнося последние слова, потому что они показались ей легким женским кокетством, которого она стыдилась, особенно в таком разговоре. Она не понимала, что на самом деле их источник был глубже. Ведь Якоб всегда, пожалуй, чересчур обожествлял ее и слишком мало любил, она же в своей человеческой слабости и земной влюбленности жаждала именно любви, втайне тосковала по ней, не могла не тосковать – ведь она была женщина, невинная девушка.
Но если этого не понимала она сама, то мельник расслышал скрытый нежный упрек в ее словах и признал себя виноватым. Да, так оно и было, в его чувстве к ней было больше глубокого уважения, восхищения и своего рода благоговения, чем именно любви; может, что-то большее, чему он не знал имени – некая странная очарованность, но все-таки не любовь, и уж наверняка не влюбленность. Так было до сегодняшнего дня. Но сегодня Ханна была такая хорошенькая в своем светлом летнем платье и ожидание свадьбы так преображало все ее существо, что Якоб снова и снова украдкой поглядывал на нее и находил новое для себя удовольствие, следя за ней взглядом, ходила ли она по комнатам или спускалась по садовой тропинке. Он предчувствовал, что, назвав ее своей, испытает счастье, которого не ждал и на которое не надеялся; и он был искренне убежден, что говорит правду, когда взял свою невесту за руку и заверил ее – впервые в жизни, – что любит ее больше всего на свете и что она единственная, кого он когда-либо от всего сердца любил; ибо ему казалось теперь осквернением самого слова «любовь» назвать так тупое, лихорадочное опьянение, которое тянуло его к Лизе.
– Перестань, – возразила Ханна. – Это некрасиво по отношению к Кристине.
– О, я был привязан к Кристине, это верно, но то было совсем другое. Мы вместе росли с ранних лет и привыкли друг к другу, и то, что мы поженились, получилось само собой. И мы были привязаны друг к другу, оба, но это было немного по – иному, – так, как тебя, я ее все-таки не любил.
Он на разные лады повторял эту мысль, а Ханна совсем не без удовольствия слушала, но все же недоверчиво качала головой, словно считала, что все это он просто вообразил себе.
– И пойми, – продолжал он, – Кристина сейчас находится в таком месте, где не считают, что в этом есть какой-то грех по отношению к ней, как полагаешь ты. Мне кажется, что она сейчас смотрит на нас с небес; и я точно знаю, что она радуется нашей любви и благословляет ее.
Ханна посмотрела на него со светлой улыбкой: он высказал то, что было и у нее на сердце. Так, этот неприятный вопрос был разрешен ко всеобщему удовлетворению и самым благочестивым образом.
– Да, я думаю, это правда, – сказала Ханна, – и она видит также, как мы оба любим ее. Я благодарна ей за то, что она дала мне тебя, а тебе меня… что она сама, еще при жизни, подумала об этом – когда никому из нас это не приходило в голову… ведь правда же, тебе не приходило это в голову… тогда?
– Нет, не приходило.
– О, я уверена, что не будь это ее собственной волей, я никогда не была бы так счастлива.
Она и впрямь выглядела счастливой. Теперь, когда она позволила себе любить, когда, чувствуя себя в безопасности, освященная правом, стыдливо пробудилась ее природа, молодая кровь сильнее, чем обычно, прилила к щекам, улыбка стала живее, в глазах появился блеск, который никогда прежде не пробивался сквозь их спокойную ясность, каждое движение ее тела наполнилось непривычным очарованием.
На мгновение его словно пробрали мурашки: в его мозгу молниеносно пролетели сравнения между нею и Лизой – во всем противоположные, обе они объединялись тем, что пробуждали желание, манили, околдовывали – сходство, подобное сходству между черной и белой магией…
Ханна тут же заметила тень, затуманившую его глаза, озабоченно наклонилась к нему еще ниже, улыбнулась еще нежнее и погладила его по лбу, боязливо и вместе с материнским видом превосходства, словно желая стереть заботы; тогда и он сам взял себя в руки и раздраженно стряхнул свою слабость.
Нет, он не хочет быть жертвой прошлого. Он не хочет в отчаянии примириться с тем, что призраки будут преследовать его, населять его беспокойный сон кошмарами, пить его кровь как вампиры – он не сдастся на их милость. Вот перед ним молодая, красивая и добрая женщина, данная ему Богом в залог того, что над его головой не висит злобный приговор, что он не навеки потерял счастье в жизни, став в тот ужасный вечер орудием неисповедимой и суровой воли Провидения. Так сказал лесничий, да ведь и чем иным, если не орудием, он был? Конечно, не бессознательным орудием, как предполагал лесничий, подобным тормозному валу, вороту и ветру, который таким роковым образом переменился; но вряд ли менее безвольным, чем они, ослепленный непроглядной тьмой страсти, отрезавшей его от прошлого и будущего. Нет, то, что он совершил, будучи вне себя, не должно быть взыскано с него – и вот оно, прощение; в объятиях этой набожной девушки была свобода от мстительных теней, новая жизнь и блаженство – стоило лишь решительно протянуть руку.
И мельник пылко, от всего сердца заключил Ханну в объятия и стал целовать в губы, глаза и лоб, шепча ласковые слова, уверения в благодарности и любви и удивительные вопросы, которые возникали в его фантазии – по большей части бессмысленные и непонятные, означавшие лишь любовь. Ханна понимала его и отвечала ему столь же бессмысленными словами любви, и оба плакали и смеялись… и вдруг она содрогнулась и вскрикнула.
В черной воде перед ними как бы подмигнул дьявольский глаз, в котором сверкнула молния; потом глухой торжественный раскат грома прокатился над их головами. Кусты бузины, которые раньше, окутанные сумеречным светом, вздымали к вечернему небу темные прозрачные купола, теперь были едва различимы на иссиня-черном фоне огромной тучи, чей верхний клубящийся слой был теплого, коричневого оттенка, а розоватая пылающая верхушка врезалась в нарождающуюся ночную синеву.
Ханна вырвалась и вскочила. Мельник тоже встал. Эта молния грубо растерзала его счастливый, полный надежды настрой, а от рычания грома он побледнел, но было слишком темно, чтобы увидеть это, к тому же Ханна и не смотрела на него. Смущенная, она отвернулась и приглаживала свой воротник.
Большая туча прямо перед ними – на северо-востоке – была не единственной переменой на небе; справа над полями стояла фиолетовая стена тумана с грязно-бордовым краем на самом верху; только там, совсем высоко, небо было светлее. Когда они посмотрели на эту стену, ее вдруг как будто осветило изнутри. Но пока до них донесся приглушенный, протяжный раскат грома, они уже успели не спеша дойти почти до самого дома.
– Вильхельм оказался прав… и желание твоего шурина исполнилось, – сказала Ханна.
В комнате, выходящей окнами в сад, горел свет и двери были открыты.
В тени последних деревьев сада мельник остановился и обнял Ханну за плечи.
– Это было так чудесно, Ханна, – сидеть вместе у пруда. Какая досада, что началась гроза и спугнула нас.
Она не ответила, только покачала головой и прошла вперед.
Потом она вдруг повернулась, взяла его за плечи и посмотрела на него. Неяркая молния бросила свой скользящий свет под деревья: на глазах у Ханны блестели слезы. Она прижалась к нему, пылко поцеловала его и прошептала:
– Ты прав, Якоб! Я никогда не забуду этого часа… Быть может, такого мы больше не переживем никогда.
– Что ты говоришь? Почему бы нам не пережить его снова?! – воскликнул мельник испуганно. Ему показалось, что и сам он успел подумать о том же.
– Не знаю… просто у меня такое чувство… не обращай внимания – все это глупости.
Она быстро вытерла глаза и пошла к дому.
Маленькая компания собралась вокруг стола, на который служанка только что поставила кувшин с горячей водой. Она задержалась, не выпуская ручки кувшина, чтобы почтительным тоном ответить на благосклонные вопросы Драконихи, которая, называя ее «милая Ане», интересовалась, справляется ли она в пекарне и что слышно у них дома. Ибо это была та самая Зайка-Ане, получившая, наконец, желанное место на мельнице. Но Дракон без промедления приподнялся всем своим тяжелым телом из угла дивана, взял кувшин и приготовил себе пунш с таким выражением лица, с каким профессор смешивает химические элементы для очень важного и даже небезопасного опыта.
Лишь закончив священнодействовать с пуншем, Дракон заметил, что мельник вошел в комнату и подошел к столу. И поскольку одновременно голос Ане пищал у него над ухом, у него произошло одно из тех забавных и неожиданных озарений, которыми он так гордился. Он отставил стакан, который уже поднял и собирался пригубить, снова плюхнулся на диван, звучно хлопнул себя по ляжкам и разразился громким, но слегка деланным смехом, который, однако же, вполне разрешил его задачу, а именно привлек к нему всеобщее внимание – в том числе и внимание Ане, только что милостиво отпущенной хозяйской тещей и не знавшей, уйти ли ей или все-таки остаться, так как Дракон с хитрецой подмигивал ей маленькими глазами и явно хотел удержать ее.
– Помнишь, Якоб, – прорвалось наконец сквозь смех, – помнишь вечер, когда у нас были ты и Заячья вдова? Как раз тогда и зашла речь о том, чтобы ты пошла служить на мельницу, девочка моя… Тогда, черт возьми, ты хотел нанять ее – он, черт возьми, хотел нанять тебя… но боялся Лизу, я готов душу прозакладывать, что он боялся ее.
И в невинности своего заплывшего жиром сердца он снова захохотал, обращаясь ко всей компании, не замечая впечатления, которое его слова произвели на остальных, и не подозревая, до какой степени он был прав, утверждая, что Якоб боялся Лизу. Об этом догадывалась только мадам Андерсен, которая в немом отчаянии от светских талантов своего сына так ломала руки под столом, что пальцы хрустели. Но и остальным от упоминания о Лизе стало не по себе. Ханс, сидевший на коленях у своего новоявленного дяди-лесничего, хотя в сущности мальчику это было уже не по возрасту, расплакался; и Дракон напрасно пытался утешить его, предлагая хлебнуть своей особой смеси.
Дракониха, стараясь направить настроение собравшихся в более подходящее русло, шутливо заметила, что она велела принести еще кувшин с горячей водой для пунша и вообще сыграла роль хозяйки – это ведь был последний раз, когда она имела такую возможность. Ханна в ответ выразила надежду, что мадам Андерсен всегда будет чувствовать себя как дома в прежнем жилище Кристины. Теперь сама она ограничит роль хозяйки только приготовлением пунша для Якоба, что она и сделала с величайшей тщательностью и к большому раздражению Дракона. Что? И этакой бурдой она собирается накачать Якоба? Да ведь это все равно что отравить мужа! Он схватил бутылку рома, чтобы долить в смесь, но Ханна с улыбкой отстранила ее. Правда, лесничий, несмотря на принадлежность к «внутренней миссии» часто выказывающий гуманность, сказал, что можно бы и чуточку добавить; но мельник заявил, что вполне доволен и что Ханна в точности потрафила его вкусу. Видя, как она храбро колдует над стаканом, с помощью бутылки и кувшина, ложки и сахара, в приятном пару, поднимающемся к лампе, он снова пришел в доброе расположение духа, забыв о неудачной шутке Дракона. Он обнял Ханну за талию и с величайшим удовольствием выпил пару глотков ее варева – хотя на самом деле оно, похоже, было приготовлено по известному рецепту: высунуть язык из окна в теплую и сырую погоду.
И тут дверь в сад захлопнулась, слегка зазвенев стеклами, из сада донесся звук, как будто там отряхивается большой зверь. Из сеней вошла Ане.
– Прошу прощения, хозяин, – сказала она, – но правильно ли это, что мельница еще работает…?
– Что?
– Да, все паруса натянуты, а ведь дует сильнее и сильнее.
Мельник со стуком отставил стакан.
– Надо было… Что, Кристиан совсем рехнулся?
Необычно яркая молния полыхнула в саду; Ханна и Дракониха непроизвольно вскрикнули. Ане поспешила запереть дверь в сад на ключ. Мельник быстро вышел в сени и раздраженно рванул заднюю дверь.
Мельница совершенно спокойно вращала своими сплошь одетыми в парусину крыльями. Повернутая на юго-запад, где вечернее небо было еще довольно чистым, она, казалось, совершено не замечала огромных мрачных туч, которые громоздились друг на друга и скрывали остальное небо. Хотя как раз сейчас гром загрохотал достаточно громко, никто не вышел на галерею посмотреть, в чем там дело, более того – там не было даже света наверху, который свидетельствовал бы, что мельница в здравом рассудке.
Ее владелец выругался сквозь зубы и открыл дверь в гостиную.
– Извините, я ненадолго отлучусь, – крикнул он, – мне надо сходить на мельницу.








