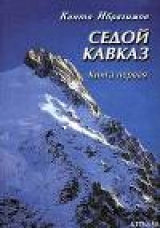
Текст книги "Седой Кавказ"
Автор книги: Канта Ибрагимов
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 72 страниц) [доступный отрывок для чтения: 26 страниц]
Вся эта восторженность природы не соответствовала внутреннему состоянию Докуева. Ему было противно все, озноб прошибал его маленькое тело, и вообще, после вчерашней пьянки внутри все болело. Особенно тревожилась душа в лихорадочном беспокойстве и хаосе. Его мучила жажда в прямом и переносном смысле, он не мог простить Самбиеву вчерашний позор. Тем более не хотел прощать самому себе. Он еще не знал, что будет делать и как действовать, но он твердо знал одно: у него обозначилась четкая траектория жизни, есть ориентиры, и никто, тем более какой-то уголовник, антисоветский элемент, не должен и не может сбить его с намеченного пути. Да, в жизни было всякое. Да, есть моменты, вспоминая которые, он даже ночью краснеет и ложится ничком, пытаясь скрыть под подушкой повинную голову… Но ведь была безысходность, выхода не было и выбора не было, припирала судьба мерзкая к лютой стенке. А за спиной смотрели в рот дети, родственники, старики. На кого бы он их бросил? Все бы сдохли с голоду. Не он один такой… Да и жена, сука продажная, только о животе думает. И что она костлявая такая? Все жрет, жрет, и как в прорву.
Мысли о дрянной жене рассердили и даже взбодрили Докуева. «Ведь в моих руках все рычаги Советской власти в селе. Что я мучаюсь?» – все более вдохновляясь на преодолении очередной жизненной мерзости, подумал Домба.
У самого сельсовета он замедлил шаг, осторожно, буквально на цыпочках, обогнул здание, хоронясь, выглянул из-за угла. Светало. Самбиев лежал на дощатом полу веранды, запрокинув под голову руку. Докуев тихо подошел вплотную. Денсухар сопел открытым беззубым ртом. Лицо страдальчески сморщенное, старое, бледно-земляное, с впалыми иссиня-фиолетовыми глазницами; острый большой нос и редкие, грязные, в жиру волосы. Из-под расстегнутого кителя задралась на впалом животе грубая рубаха, обнажив уже не смуглую, а серую кожу и грязное старое белье. Рядом стояли кирзовые, протертые с внутренней стороны сапоги, один из них, правый, совсем обносился. На них сохли побуревшие портянки. Домба бросил невольный взгляд на разномерные ноги и чуть не поперхнулся: ни на одном пальце не было ногтей, даже крайних пальцев не было, а со ступней вверх до самых щиколоток расползлась ядовито-алая, растертая в кровь колония грибка.
«И эта несчастная тварь мне угрожает?» – пронеслось в мыслях Докуева, ему даже чуточку жалко стало Самбиева. Он быстро сообразил, как будет действовать. Тихо удалился, первым делом побежал домой.
– Жена! Вставай, карга старая, – закричал он с порога, поднимая вновь заснувшую супругу, – быстро сними все белье гостя и прокипяти его.
Сказав это, он побежал со двора. Алпату выскочила за ним и из дверей крикнула:
– Ты что это?… – на полуслове она замолкла, заметив полуоборот его злого вспотевшего лица.
Она уже давно изучила мужа. «Что-то он проворачивает, – подумала она, – явно денежное… Вот черт, за его последние проделки я могла бы его на пальто раскрутить, так нет, что-то неладное заварилось… Ну ничего, я припрячу это до удобного момента»…
– Пошла вон, – сорвала она накопившуюся злость на ласкающуюся у крыльца огромную собаку и с силой хлопнула дверью.
А Домба по единственной улице просыпающегося села бежал на другой конец. Он боялся, что его кто-нибудь увидит.
– Иван Прокопыч, Иван Прокопыч, – стучал он легонько в чуть приоткрытое оконце.
– Докуев – это Вы? – послышался хриплый спросонья бас.
– Да, выйди на минутку, – на плохом русском языке тонко прогнусавил председатель сельсовета и засеменил к входной двери.
– Да что это такое? – возмущался в доме бас. – До утра у Вас во дворе танцы, теперь с утра вновь Вы спать не даете!
На пороге появился немолодой, с густой проседью в волосах, здоровенный вечный старшина, участник войны, теперь до пенсии участковый села Ники-Хита – орденоносец Забайдачный.
– В чем дело, Домба Межидович? – застегивая пуговицы сорочки, спросил участковый.
Докуев сумбурно стал объяснять, часто вставляя в эмоциональную речь чеченские слова.
– Постой, постой, ничего не понял, – сморщился в недоумении Забайдачный.
– Ты бери пистолет, а по пути я тебе еще раз объясню, – скороговоркой затарахтел Докуев.
– Ну, раз надо оружие, то дело серьезное, – озабоченно мотнул головой участковый, и двинулся к своему трехколесному мотоциклу – единственной технике в селе.
– Нет, только без шума, – взмолился Докуев, – пойдем пешком.
После возвращения чеченцев и ингушей из Сибири и Казахстана участковый в селе был тем же, что и военный комендант в депортации. И хотя формально власть в селе принадлежала председателю сельсовета, фактически «казнить и миловать» мог только участковый. Правда, Забайдачный властолюбием не страдал, любил выпить и предаться истоме. Воспользовавшись этими чертами характера участкового, Докуев со временем, благодаря мелким подачкам в виде спиртного и табака и верткости своего нутра, сумел полностью подчинить себе инертного милиционера. Добродушный от природы сибирский богатырь, в тоске по матери и таежным просторам, с натугой коротал вынужденную службу на благодатном Кавказе. Национальных проблем он не понимал, считал правильным то, что написано в газетах, и по возможности добросовестно и четко выполнял свои служебные обязанности. То, что объяснял по пути Докуев, старшина не уразумел, но понял одно – в селе, на доверенной ему Коммунистической партией и правительством территории, появился злостный нарушитель.
Грузной походкой Забайдачный поднялся на веранду сельсовета, направил оружие на еще спящего пришельца и крикнул:
– Встать!
Самбиев открыл глаза, резво вскочил, и в следующее мгновение по приказу участкового стоял лицом к стене, широко раздвинув конечности. Сельский блюститель до острой боли вонзил ствол меж ребер задержанного, умело стал шарить свободной рукой по телу Самбиева.
– Оружие есть? Документы?
Когда участковый читал справку об освобождении, из-за угла появился Докуев с удивленно-озабоченным видом. Самбиев наметанным глазом, искоса, исподлобья наблюдал всю эту сцену, и если бы не бесхитростность участкового, он наверное поверил бы игре своего друга детства. Денсухар понял: Домба переиграл его, власть есть власть, а вчерашний кульбит был напрасен, если не вреден. Однако деваться Самбиеву было некуда, единственно, он боялся, как бы милиционер не обнаружил финку, брошенную перед сном в сапог.
В это время Докуев, открывая контору, стал защищать Самбиева и доказывать, что он примерный гражданин, полностью осознавший свою вину за срок отсидки, чем ввел наивного участкового в большое замешательство и недоумение.
Реабилитированный главой местной Советской власти, босоногий Денсухар взял бережно свои сапоги с просохшими портянками и, склонив голову, застыл в смиренной позе раскаявшегося вероотступника.
– Вы, Иван Прокопыч, постойте здесь и никого не впускайте, – ласково-повелительным голоском сказал Докуев, открывая дверь и пропуская вперед Самбиева, и уже в помещении на чеченском продолжил: – Вот видишь, дорогой Денси, как бережно мы относимся к твоему дому. В том году сделали побелку… Во время нашего выселения в селе жили дагестанцы, при них и устроили в вашем доме сельсовет, так и перешло это к нам по наследству. Сможешь ли ты вновь получить твой дом и участок, не знаю. Думаю, вряд ли.
Домба важно сел на свое рабочее место и жестом предложил Денсухару лавку для посетителей. Пока Самбиев, не торопясь, надевал сапоги, председатель сельсовета с важностью просматривал какие-то бумаги.
– Ну, Денсухар, напились мы с тобой вчера, как свиньи. – Не глядя на друга детства, продолжал Домба. – Конечно, здорово набрехались, особенно ты… Ну, и я по пьяни слегка сболтнул лишнего… Давай-ка перейдем к делу. Во-первых, ты свои уголовные дела бросай, с властью шутки плохи, ты это не хуже меня знаешь. Во-вторых, тебе надо стать на учет в районной милиции, трудоустроиться и найти жилье. С этим я, конечно, помогу. В-третьих, я, как друг и родственник, должен тебе помочь с деньгами, разумеется не в таком количестве, как мы вчера по пьянке болтали, но в меру допустимого… Только одна небольшая формальность. Деньги получишь под расписку в долг.
– Какая расписка? – возмутился Самбиев.
– Это гарантия для меня и ответственность за свои слова для тебя.
– Никаких расписок не будет, – жестко ответил Самбиев, – лучше дай закурить.
– Я не курю. А погоди, Иван Прокопыч, – направился Домба к выходу, – табачок у Вас есть?
Пока Докуев шептался с участковым на веранде, Денсухар, крадучись, бросился к печи и торопливо закинул финку в обнаруженную им мышиную щель в основании саманной стены.
– Денсухар, – возвращаясь в комнату, обратился Докуев, – согласно положению, ты сейчас должен будешь поехать в районный центр для учета и всяких других формальностей. Я попросил участкового, чтобы он отвез тебя на мотоцикле, ну и помог тебе там… Видишь, благодаря мне ты будешь кататься как барин… Ну ладно, так как насчет расписки, или деньги тебе не нужны?
– Какая расписка? – выдыхая клубы дыма, возмутился Самбиев. – Я слов на ветер на бросаю.
– Я денег тоже, – мягко, но четко ответил Домба. – Я по-братски и как вернее для нас обоих, а ты как хочешь.
Самбиев молча докурил, бросил окурок в форточку и, не оборачиваясь, глядя в окно на широченный, исписанный ножом ствол бука, прошепелявил тихо:
– Пиши, я распишусь.
Это была первая, но далеко не последняя расписка Самбиева Докуеву.
* * *
В райотделе милиции Шали Самбиева поместили в изолятор временного содержания, через день перевезли в Грозненскую тюрьму для выяснения личности и только на третьи сутки выпустили на свободу с жестким предписанием о невозможности жить рецидивисту в предгорной зоне. Ему вернули только половину денег, взятых в долг у Докуева, и вручили направление в общежитие комендатуры Грозного с последующим обязательным трудоустройством на заводе «Автоспецоборудование» по рабочей специальности третьего разряда.
Недолго жил Самбиев в комнате казарменного типа, на двенадцать человек, работал электриком, проклинал в душе Докуева, думал о мщении – и вдруг однажды вечером у общежития стоит Домба, аккуратно одетый, улыбающийся.
Увидев комнату Самбиева, Домба отправился к коменданту общежития, и в тот же вечер Денсухар перебрался в маленькую, но отдельную комнатенку с одной кроватью, тумбочкой и узким, как амбразура, окном. На следующий день, в субботу, они, как верные друзья детства, прошли по магазинам, купили кое-что из одежды для Самбиева, потом сидели за выпивкой и скудной едой в кафе у площади Ленина. После чего Самбиев не только простил все кажущиеся грехи «родственника», но и рассыпался в благодарностях своему добродетелю.
Дома за ужином Домба с неподдельной радостью рассказывал жене, как он помогал в городе Самбиеву, и думал, что Алпату одобрит его благородное отношение к односельчанину. Однако прагматичная жена сделала противоположный вывод.
– Ты всегда был ненормальный. Что ты носишься с этим тюремщиком?! Думаешь, органы не наблюдают за ним и тобой? Смотри, скоро найдут повод и тебя засадят в тюрьму, а в лучшем случае просто скинут с работы. Нет чтобы искать дружбы со стоящими людьми, возится с этим недоноском. От него добра не жди. Сам непутевый и других за собой потянет… А у нас дети растут, я без пальто зимовать буду, и что ты думаешь так и жить в этой дыре до конца жизни?
– Это мое родовое село, мой дом! – возмутился муж.
– Ну и что, что родовое, а детям где учиться? Так и будут они в интернате всю жизнь жить. А дочки тоже в казенном доме будут расти? Что о них люди скажут, за кого они замуж выйдут? Ведь ты, пока я в одиночку растила детей, учился в техникуме, хотя и не соображаешь, люди думают, что ты грамотный, да к тому же и член партии – единственный в селе.
В постели протрезвевший от слов жены Домба призадумался. В том, что жена дура, он был уверен, но удивительное дело, она, как всегда, права. За массой текущих дел он порой забывал свои намеченные четкие ориентиры жизни: это хорошая работа и квартира в Грозном, много денег, ну и сопутствующие этому блага для себя и для детей. А может, это просто несбыточные мечты? Нет, надо действовать.
Ему не спалось, не хватало в доме воздуха. Он вышел во двор, огромная дворовая собака, гремя цепью, бросилась к его ногам, прыгала, ласкаясь. Отпихнув ее, он углубился в устрашающий мрак огорода. Ночь была темной, прохладной, ветреной. Затянутое тучами небо черной густой массой окутало мир, и только где-то далеко-далеко в стороне Грозного, от факелов нефтяных заводов тускло рдел краешек горизонта. Именно туда невольно смотрел Домба. Этот алый свет манил его все больше и больше. Он знал, что красное пламя коммунизма может сжечь его дотла, но при правильном подходе оно может и обогревать всю жизнь. Если сейчас он протянет руки к огню, то это навечно, он навсегда станет красным и отхода не будет, только путь вперед в самое пекло, где приятное тепло может в любой момент превратиться в адский жар. Что делать? Прозябать здесь или поддаться соблазну… А соблазн велик. Уже дважды вызывали его просто так, для беседы в город, в комитет, и прямо говорили, почему он, такой сообразительный, верный родине и партии молодой человек довольствуется жизнью в диком селе. Республике нужны энергичные, преданные национальные кадры. Пожилой чекист с приятной внешностью объяснял Докуеву, что для чеченцев и ингушей в республиканском аппарате будут отданы по квоте некоторые посты. Через год-два все будет забито, и потом яростная конкуренция и строгий отбор.
– Так что прозябайте в селе или действуйте, – подытожил свою речь работник госслужбы Шаранов. – Вы как-никак с нами в контакте, а мы свои кадры на произвол судьбы не бросаем.
Домба до мелочей вспомнил весь этот разговор и аж съежился от озноба… Запели вторые петухи, в лесу по-детски жалобно ныли шакалы. Из-за двух перевалов, с танкового полигона Шали доносилась канонада ночных учений. Порыв резкого ветра принес свежесть недалекого дождя и еле уловимый аромат пыльцы цветущей вишни. С кроны бука Самбиева заливался соловей, чувствуя приближение дождя, еще отчаяннее заквакали лягушки в низинном водоеме. Стало совсем темно, дальний отблеск факелов исчез, еще один резкий порыв ветра – и крупная, одинокая капля дождя с ощутимой силой наискосок вонзилась в лоб, по переносице потекла вниз, остановилась меж губ. Потом капли стали чаще, но мельче.
– Нет, – негромко крикнул Домба, побежал в дом и спокойно, глубоко заснул под приятный шум весеннего дождя.
На следующий день из-за ремонта прохудившейся за зиму крыши он опоздал на совещание в райисполкоме, за что при всех был строго отчитан районным начальством. Далее, как бы определившись в установке на день, все выступающие руководители стали критиковать Докуева и его село, даже посчитали, что он виновен в задержке посевной.
Во время перерыва руководители уровня Докуева ели наспех и всухомятку у своих бричек, а президиум заседания появился в зале с часовым опозданием; лица начальства лоснились сытостью, хмелем и довольством. Домба внимательно, с нескрываемой завистью разглядывал их добротную одежду, зализанные прически и красивые, дорогие часы и авторучки.
На обратном пути он вновь невольно вернулся к заманчивому «огоньку», что-то неведомо сильное, до страсти соблазнительное влекло его в город, к этому уверенному, приятно и красиво говорящему работнику. Почему-то Домбе казалось, что еще одна встреча с Шарановым – и его жизнь кардинально изменится, и только в лучшую сторону. Он еще раз вспомнил, как его незаслуженно ругали, и окончательно решил, что надо ехать в Грозный. «Чем я хуже этих холеных ублюдков?» – поставил он окончательную точку в своих нелегких терзаниях.
Правда, легче от этого не стало. Ночью не спалось, вновь вышел в огород подумать, побыть в одиночестве. Ночь была пасмурной, но не такой темной, как предыдущая. На северо-западе, в стороне Грозного, легкие, невысокие, поджаренные факелами тучи отражали ложный свет багряной зарницы, и Докуеву показалось, что именно там, а не на востоке, как обычно, взойдет солнце. Да, его солнце именно там, и оно ему будет вечно светить и согревать, но не жечь и плавить дотла. Там город, там власть (хотя и коварная, как мачеха, но другой нет), и главное, там кипение жизни и простор, а здесь, в убогом Ники-Хита, скука, застой, нищета. Конечно, с родным селом он не расстанется, по выходным будет наведываться, а так жить здесь вечно нельзя. С этими возбуждающими зажигательными мыслями он лег спать, но долго не мог заснуть; противоречивые мысли и идиотские видения во время коротких снов мучили его до утра. Ему становилось то жарко – и он скидывал одеяло, то холодно.
Проснулся Домба рано с несвежей головой, с дурными мыслями. Вновь он мучился противоречиями, вновь побрел в огород. На улице стояла не по-весеннему пасмурная погода. С какой стороны взошло солнце в это утро – определить было невозможно; все было серым, печальным, туманным. Однако Докуев, с болью, с отвращением к самому себе, окончательно что-то от себя отрывая, от чего-то очень родного и непонятного отказываясь навсегда, решил, что его «солнце» должно взойти в стороне красного по ночам Грозного.
После полудня Домба был в Грозном, на всегда пустынной Московской улице. То ли по странному совпадению, то ли отражая реальность советского существования, эта улица начиналась с мрачного тупика на набережной реки Сунжи, где в царские времена чернела тюрьма, а теперь громоздились респектабельные, с виду безжизненные здания госбезопасности. В этом же квартале, как бы символизируя эпоху, построили многоэтажную детскую поликлинику и рядом самую дешевую во всем городе «рабочую» столовую. С заводских окраин рабочие только изредка, по выходным, могли добраться до этого уютного, просторного заведения. Вместе с тем, и нерабочие нечасто позволяли себе войти в это чуть ли не дармовую столовую, боясь лишний раз попасть под опеку блюстителей строя и помня, что «бесплатным сыр не бывает».
Все это было в самом начале Московской. А далее эта улица по пологому наклону уползала к окраине города, мимо бывшей синагоги, через еврейскую слободу, и упиралась в хлебокомбинат. Как раз здесь и стоял Домба, раздражаемый сытными запахами свежевыпеченного хлеба, дрожжей и жареных семян подсолнечника для халвы.
«Странное дело, – подумал Докуев, – улица Московская: на одном конце хлеб, на другом тюрьма, а проходит через нищие, грязные кварталы советских евреев. Почему название улицы не поменяли?»
С этими не касающимися его мыслями побрел к набережной. И хотя дорога шла под уклон, идти ему было тяжело, что-то сильное, вечно довлеющее, тянуло его в обратную сторону. В эту сырую, пасмурную погоду, с изредка моросящим дождем ему было жарко («солнце» уже согревало); противный, липкий, как клей, пот выступил меж лопаток, обильно впитался в грубую ткань рубашки и, будто возрастающий горб, все больше и больше непомерным весом давил к земле. А он все шел и шел, и уже оставалось шагов сто до мрачных зданий тупика, как из окна столовой донесся глухой стук, и Домба сквозь толстое стекло с ужасающим преломлением увидел и без того искривленное, беззубое лицо хмельного Самбиева.
Докуев был сражен, ему показалось, что теперь его окончательно уличили в стукачестве, в подлой измене. Повинуясь жестам Денсухара, он, как в полусне, оказался за столом, в компании из трех полупьяных рабочих. Молча, выполняя волю свидетелей своего падения, он залпом выпил полный стакан вонючего вина. С опущенной головой он ждал в лучшем случае упреков и оскорблений, а по справедливости – расправы с жестоким избиением. И вдруг Самбиев обнял его за плечи, громко назвал очень хорошим человеком, другом, а на ухо прошептал: есть ли деньги? На что Домба, как бы избавляясь от ненужного хлама в кармане, передал другу детства всю наличность. От этой щедрости Докуеву стало легче, даже показалось, что он от чего-то откупился и навсегда отверг мучения последних дней.
На следующее утро он понял, что неизвестно как очутился в каморке общежития Самбиева. Хозяин лежал на скатерти под кроватью, уступив постель другу.
– Ну как тебе моя девушка? – бодрым голосом снизу реагировал Денсухар на скрипы пружин казенной кровати.
Докуев только болезненно промычал.
– И зачем ты свадьбу так скоро назначил? – звонко звучал голос Самбиева. – А калым какой обещал уплатить?… Ну, честно говоря, я знал, что ты настоящий друг. Я знаю, что иначе ты и поступить не мог. Только я думаю, что вместо ансамбля из Грозного можно своими, сельскими музыкантами обойтись. Да и зачем ее везти с целым кортежем до Ники-Хита, а потом еще у тебя в доме сутки гулять?
– У-у-у, – завопил еще болезненнее Докуев.
– А то, что ты обещал невесте корову с теленком подарить, – совсем мужественное решение. Ты прямо до слез растрогал меня и ее, ведь она тоже сирота, одинокая несчастная девушка.
Неровными волнами забегали пружины над головой Самбиева, непонятное мычание перешло в скорбный стон.
– И как Алпату обрадуется моему счастью! – продолжал тем же голосом Самбиев.
– Какая свадьба? Какой калым? – не выдержал друг детства.
– Ну, ты вчера при людях говорил, – возмутился голос Денсухара.
«То ли он шутит, то ли издевается?» – подумал трезвеющий Докуев и свесился головой вниз, желая взглянуть в глаза друга, и в это время мучившее его нутро отрава нежданно вырвалась наружу, с щедростью, с вонью обдавая лицо изумленного жениха.
Раздался бешеный вопль, мат, была небольшая потасовка, которая быстро угасла в недрах каморки. В полдень мрачные друзья похмелились в пивнушке у автостанции.
– А что ты делал на Московской? – коварно, исподлобья глядя, спросил Самбиев.
– То же, что и ты, – нашелся Докуев.
Ночью, уже в Ники-Хита, Домба, несмотря на вялость во всем теле, заснуть не мог. В городе он пропил не только свою зарплату, но и месячное содержание секретаря сельсовета, писаря и детские пособия матерей села. Правда, в тайнике лежала очередная расписка, с легкостью подписанная Самбиевым, но когда он за нее рассчитается, да и рассчитается ли вообще. По крайней мере, сказать «другу» – верни долг – Докуев не решится, да и откуда у «алкоголика-рабочего» могут быть деньги.
Председатель сельсовета вновь обратился взором в сторону Грозного. По-прежнему над городом пылал маскарадом ночной небосвод. В двух шагах Домба был от цели, от правильной цели, которая могла облегчить существование в стране Советов, и надо же – вновь на пути этот «урод-Самбиев». «А может он спас меня? – пронеслось в голове, – и все эти затраты – как неизбежная плата за спасение от неверного шага… Тогда Самбиев – друг, спаситель. Да, по-моему, этот вывод вернее. Денсухар спас меня, и я свободен. А деньги я займу у председателя колхоза. Потом подпишу очередной акт потравы пшеничного поля сельским стадом – и в расчете… Все нормально».
Докуев аж зевнул в облегчении, плюнул в сторону городского зарева и побрел к жене, спать. Подумав об Алпату, он, к своему неудовольствию, вспомнил разговор о женитьбе Самбиева. Решив, что Денсухар шутит, он успокоился. «А если даже не шутил, то мне показалось все шуткой», – успокоил себя председатель сельсовета.
* * *
Женился Самбиев в начале июня. Весь свадебный ритуал имел жалкий вид. Кое-чем помогли товарищи с завода, дальние родственники и односельчане. Как и положено в Чечне, невесту привезли в Ники-Хита, в дом недалекого родственника. В родовом селе провели необходимые обряды. Имея повод для веселья, никихитцы два вечера гарцевали лезгинку. Были гости и из соседних сел – Автуры, Курчалой, Марзой-Мохк. Больше всех гулял сам виновник торжества: пил сутками напролет, вопреки традициям гор – открыто радовался. Через неделю он повел молодую жену на край села, во двор сельсовета.
– Вот смотри, какой у меня дом, какой у нас участок! А этот бук каков? Ему триста лет… Вот так жили мои предки.
Супруга Самбиева – двадцатилетняя Кемса, – потеряв всех родственников во время выселения, как могла цеплялась за жизнь: работала в трех местах уборщицей, жила в женском общежитии Грозного. Она не могла понять, какие чувства испытывала к Денсухару до свадьбы. Просто она хотела выйти замуж, этот процесс она считала естественным и желательным в жизни любой женщины. Однако побыв только недельку замужем, она горько пожалела о своей свободе: до того ей стал противен этот вечно пьяный, нищий и к тому же очень самодовольный тип. И теперь, услышав очередное бахвальство, она с осуждающей суровостью впилась светло-серыми глазами в мужа и вроде покорно, но с четкими нотками упрека сказала:
– Да, твои предки были людьми достойными.
Денсухар замер, ожидая продолжения фразы, но Кемса ничего не добавила, просто стала любоваться величественной кроной бука.
Это было ясным днем. А глубокой ночью Денсухар тайком пробрался во двор сельсовета, долго сидел, о чем-то думая, на мощном корневище дерева-великана.
– Нет, не должен на мне оборваться род Самбиевых. Клянусь памятью предков, я с Божьей помощью возвращу себе этот дом и этот участок, и под этим буком и в этой реке будут играть мои дети и их потомки. Аминь! – прошептал он.
В задорно бурлящем русле, освежаясь кристальной прохладой, он совершил тщательное омовение, потом долго молился, и, еще будучи на коленях, дал слово больше не потреблять спиртного и по возможности не пропускать ни одного намаза… Началась новая жизнь. Новая внутри Самбиева. А внешне более обремененная, тоскливая, загнанная в каморку советского общежития.
Через год у Самбиевых родился сын Арзо, и им дали более просторную комнатенку. А когда в 1961 году родился второй сын Лорса, они не смогли жить в стесненных условиях города на одну зарплату рабочего Денсухара и детские пособия. Выпросив разрешение у органов милиции, перебрались в Ники-Хита, арендуя за символическую плату часть дома у одиноких стариков – дальних родственников Денсухара. В селе они обзавелись коровой, барашками, большим подспорьем стал огород.
С 1963 года Денсухар Самбиев, как и абсолютное большинство сельских мужчин, стал ездить на так называемую «шабашку» в российскую глубинку. Не имея никакой возможности трудиться дома, безработные вайнахи (с пятнадцатилетнего возраста, а иногда и моложе) уезжали весной в Сибирь и на Урал и до поздней осени, а порой и до зимы выполняли самые тяжелые работы: начиная от очистки выгребных ям и кончая строительством домов культуры и автомобильных трасс в таежной глухомани.
Изредка Самбиеву удавалось привезти приличные деньги, но в основном весь сезонный заработок уходил на латание дыр, и по весне Денсухар в очередной раз брал в долг под расписку у Докуева на дорогу до Сибири и расставался с семьей на семь-восемь месяцев.
Мысль о возвращении родового дома постоянно терзала душу Денсухара. Не имея других способов, он просто писал письма-просьбы во все инстанции страны вплоть до ЦК КПСС и газеты «Правда». На письма реагировали. Вся корреспонденция возвращалась по кругу обратно в райисполком с многочисленными резолюциями «разобраться на месте».
И все-таки судьба сжалилась над Денсухаром, ему просто повезло. В декабре 1966 года, когда в семье Самбиевых родился четвертый ребенок – дочь Марет (за год до этого появилась девочка Седа), в центре Ники-Хита построили восьмилетнюю школу, медпункт и новое помещение под сельсовет. После этого сбылась мечта Денсухара, он вселился в родовой дом. Однако было одно огорчение: урезали в пользу местного колхоза три четверти земельного участка, издревле принадлежавшего Самбиевым, объяснив, что советский гражданин, даже многодетный, не имеет права владеть целым гектаром земли в личной собственности.
Денсухар так не думал; заимев часть, он требовал все. Вопреки решению властей, он дважды огораживал свой надел, и дважды милиция и новый, после уехавшего в Грозный Докуева, председатель сельсовета сносили забор. Все это сопровождалось скандалами, руганью и угрозами. В конце концов приехал районный следователь прокуратуры, который объявил, что за самовольный захват земель грозит солидный срок. Тогда Денсухар внешне сдался (больше забора не строил), однако ни один колхозник, ни житель села не смел ступить на землю Самбиева. Так и оставил он западную сторону надела не огороженной, как бы обозначая, что указанную границу он не признает, и вопрос с территорией оставляет открытым до лучших времен, но не спорным. Это его земля, и пусть хоть один человек, или даже власть большевиков, посмеет топтать эту благодатную почву, облитую потом и кровью его предков. Нет, больше этого не будет! По крайней мере, пока Денсухар жив.
Вдохновленные обретением родного очага, Денсухар и Кемса всю короткую сырую кавказскую зиму занимались ремонтом дома: реставрировали кровли; меняли некоторые прогнившие стропила и обрешетки; прочищали дымоход; белили и красили.
Измотанный домашним ремонтом, в начале марта Самбиев, как обычно, помчался на заработки в Западную Сибирь, и там в августе сердце не выдержало физических и нравственных нагрузок. Два месяца он провалялся в районной больнице. Вдобавок к этой печали, ослабленный, возвращаясь поездом на Кавказ, простыл, и как следствие – воспаление легких, перешедшее в туберкулез. Несколько лет Денсухар лечился в тубдиспансере, дома, ездил по льготной путевке в санаторий, однако на поправку дело не шло.
Летом его здоровье еще как-то крепло, и он иногда позволял себе возиться в огороде с мотыгой или присматривать за скотиной. Но чаще он часами сидел под кроной бука и любовался природой, особенно любил смотреть, как несется в вихре, кувыркаясь, хрустальный поток реки.
Однажды в сентябре, примерно за год до смерти, Денсухар с сыновьями сидел на веранде. Под строгим присмотром отец заставлял детей учиться.
– Главное в наше время – образование, – говорил он, – вот вырастете бездарями и будете всю жизнь, как я, батрачить на людей – и здесь, и в России. Будете всю жизнь в прислужниках ползать. А если выучитесь, то людьми станете, жизнь поймете, свободными будете.
Жаждущие игрищ дети не понимали отца, они мечтали о купании в реке и лазании по буку.
– Надоели эти уроки, эта школа, – ворчала Кемса у печи, – время кукурузу косить, с ирзо* сено и травы пора привезти, пока кабаны и медведи не потравили. А они все с книжками играются… Зимой что есть будем? Может, книги?
– Ты не ворчи, – примирительно говорил Денсухар. – Я выучиться не смог, не было возможности. Вот и батрачу всю жизнь по тюрьмам да по Сибири, а те, кто два слова писать научился, в галстуках ходят. Сено одну зиму кормит, а образование всю жизнь. Сейчас не выучатся – будут всю жизнь о сене думать, а выучатся – сено стогами им возить будут.








