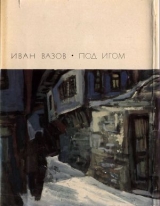
Текст книги "Под игом"
Автор книги: Иван Вазов
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 9 (всего у книги 34 страниц)
– Что за мерзкие люди жили в этой стране! – тихо сказал бей Дамянчо Григорову. – Где все это происходило?
– В Неметчине.
– В Неметчине? Этих гяуров я еще не видывал.
– Ну что вы, бей-эфенди! Да у нас в городе живет один немец.
– Уж не тот ли это безбородый, «четырехглазый», – ну тот, что в синих очках?
– Он самый, фотограф.
– Вот как? Хороший гяур… Когда встречает меня, всегда снимает шляпу на французский манер. Я думал, он француз.
– Нет, немец, он, кажется, из Драндабура. [58]58
Драндабур, искаженное Бранденбург – провинция Пруссии.
[Закрыть]
Началось третье действие. Сцена снова представляла комнату во дворце. Граф вернулся с войны мрачный и был очень удручен смертью графини. Служанка передала ему письмо Геновевы, написанное в темнице в предсмертный час. Графиня писала, что стала жертвой низости Голоса, что умирает невинно и прощает своего супруга… Граф, читая вслух это письмо, сначала всхлипывал, потом, придя в полное отчаяние, залился слезами. Зрители, тронутые его страданиями, тоже заплакали, и некоторые – в голос. Прослезился и бей, который уже не нуждался в Григорове.
Общее напряжение возрастало и, наконец, стало невыносимым, когда граф приказал привести коварного Голоса – виновника его несчастия. Появился Голос, взъерошенный, страшный, измученный угрызениями совести и закованный в кандалы, взятые из тюрьмы конака. Публика встретила его враждебным ропотом. В Голоса впились разъяренные взгляды. Граф прочел ему письмо, в котором графиня писала, что прощает и своего погубителя. Снова разразившись рыданиями, граф принялся рвать на себе волосы и бить себя в грудь. Публика тоже начала рыдать неудержимо. Тетка Гинка и та проливала слезы, но все-таки решила, что надо успокоить соседей:
– Будет вам плакать! Ведь Геновева жива – она в лесу!
Некоторые старушки, еще не видавшие пьесу, удивленно спрашивали:
– Да неужто она жива, Гинка?
– Надо бы сказать бедняге, чтоб он не убивался, – проговорила бабка Петковица; а бабка Хаджи Павлювица не вытерпела и сквозь слезы крикнула графу:
– Ох, родной, да не плачь ты, жива твоя молодуха!
Между тем Голос начал сходить с ума. Взгляд его вытаращенных глаз был страшен, взлохмаченные волосы стали дыбом; он размахивал руками , отчаянно дергался, скрежетал зубами. Жестокие угрызения совести терзали его; но публике его страдания принесли облегчение. На всех лицах было написано беспощадное злорадство. «Поделом ему!» – говорили женщины. Они даже досадовали на Геновеву за то, что та простила его в своем письме. Матушка господина Фратю, увидев, в каком прискорбном состоянии находится ее сын, обремененный тяжелыми цепями и всеобщим негодованием, растерялась, не зная, как поступить.
– Уморили моего парня, осрамили! – проговорила она и сделала попытку стащить его со сцены, но ее удержали.
Третье действие имело блестящий успех. Шекспировской Офелии никогда не удавалось вызвать столько слез в один вечер…
Последнее действие происходит в лесу. Вход в пещеру. На пороге появляется Геновева, одетая в звериную шкуру, и ее ребенок. Серну, кормящую их молоком, играет коза, которой дали сочных листьев, чтобы она не убежала со сцены. Геновева жалобно рассказывает ребенку об его отце, но, заслышав лай охотничьих собак, вместе с ребенком возвращается в пещеру, таща за рога упирающуюся козу. Лай все громче, и публика находит, что эта роль хорошо удается Илийчо Любопытному. Он проявляет такое усердие, что на его лай отзываются собаки с улицы. Вот появился и граф в охотничьем костюме; вокруг него свита. Зрители, затаив дыхание, впились в него глазами, ожидая его встречи с Геновевой. Бабка Иваница, опасаясь, как бы граф не прошел мимо, предложила соседям сообщить ему, что его жена в пещере. Но граф и сам это увидел. Он наклонился и крикнул в пещеру:
– Кто бы ты ни был, зверь или человек, выходи! Пещера безмолвствовала. Зато из зала послышался негромкий свист.
Все удивленно посмотрели на Стефчова. Он густо покраснел.
– Кто это свистит? – сердито крикнул Селямсыз. Недовольный зал загудел.
Огнянов поискал глазами того, кто свистел, и, заметив, что Стефчов устремил на него наглый взгляд, прошептал:
– Ну погоди, я тебе уши оторву!
Снова раздался свист, уже более громкий. Публика замерла. Еще миг – и последовал взрыв общего негодования.
– Держите этого протестанта – сейчас я его выброшу в окно! – свирепо крикнул Ангел Йовков, гигант ростом в два с половиной метра.
– Вон отсюда свистуна! Вон Стефчова! – раздались голоса.
– Мы сюда пришли не затем, чтобы слушать свист и хлопки! – кричал Селямсыз, превратно поняв рукоплескания Каблешкова.
– Кириак, постыдись! – сердито крикнула тетка Гинка, рядом с которой вся в слезах сидела Рада.
Хаджи Смион шептал Стефчову:
– Побойся бога, Кириак, я же тебе говорил: не надо свистеть. Тут народ простой… сам видишь.
– Почему он свистит? – спросил бей Григорова. Дамянчо пожал плечами. Бей что-то прошептал полицей скому , и тот направился к Стефчову.
– Кириак, – сказал ему полицейский на ухо, — бей приказал тебе пойти на улицу покурить – на душе легче станет.
Надменно усмехаясь, Стефчов вышел, довольный тем. что испортил впечатление от игры Огнянова.
После его ухода все успокоилось. Спектакль продолжался; граф нашел свою пропавшую супругу. Последовали объятия, причитания, слезы. Публика опять расчувствовалась… Добро одержало полную победу над злом. Граф и графиня поведали друг другу о своих страданиях. Бабка Петковица напутствовала их из зала:
– Идите себе домой, родные, и живите в любви да в согласии, не верьте больше этим проклятым Голосам…
– Сама ты проклятая! – не выдержала за ее спиной, матушка господина Фратю.
Бей дал супругам такой же совет, как и бабка Петковица, только менее громко. Все ощутили удовлетворение, даже радость. Граф всюду встречал взгляды, полные сочувствия. спектакль закончился песней: «Зигфрида город, радуйся теперь!» – которую пели граф, графиня и их свита.
Но после того, как спели два куплета этой добродетельно-веселой песни, со сцены послышались звуки другой песни – революционной:
Пылай, пылай, душа, любовью огневою!
На турок дружно мы пойдем стеною. [59]59
«Пылай, пылай, душа, любовью огневою» – строки из популярного патриотического стихотворения болгарского поэта Добра Чинтулова (1822–1886) «Где ты, верная народная любовь», написанного в 1850 г. и ставшего настоящим народным гимном в Болгарии в 60—70-х годах.
[Закрыть]
Это было как гром среди ясного неба.
Песню запел один человек, ее подхватили три-четыре актера, потом вся труппа, а за нею начали подпевать и зрители. Патриотический энтузиазм внезапно овладел всеми. Мужественная мелодия этой песни возникла как невидимая волна, выросла, залила весь зал, разлилась по двору и ушла в ночь… Звеня в воздухе, песня зажигала сердца и опьяняла головы. Ее торжественные звуки затронули в людях какие-то новые струны. Пели все, кто знал слова, – и мужчины и женщины; сцена слилась с зрительным залом, души объединились в общем порыве, и песня поднималась к небу, как молитва…
– Пойте, молодцы, дай вам бог здоровья! – кричал Мичо в полном восторге.
Но иные старики потихоньку роптали, находя подобные безумства неуместными.
Бей, не понимая ни слова, слушал песню с удовольствием. Он попросил Дамянчо Григорова переводить ему каждый куплет. Другой на месте Дамянчо, пожалуй, растерялся бы, но Дамянчо был не из тех, кого можно поставить в тупик каверзной просьбой. Вдобавок сейчас ему представился случай испытать свои силы.
И он обманул бея самым нехитрым приемом, сам получая от этого удовольствие. По словам Дамянчо, песня выражала сердечную любовь графа к графине. Граф якобы сказал жене: «Теперь я тебя в сто раз больше люблю», а она ему ответила: «Люблю тебя в тысячу раз больше…» Он обещал в честь ее построить церковь на том месте, где была пещера, а она ему ответила, что продаст все свои алмазы, чтобы раздать милостыню бедным и соорудить сто водоразборных колонок, отделанных мрамором.
– Что-то уж слишком много колонок, не лучше ли было бы ей построить мосты на счастье? – перебил его бей.
– Нет, колонки лучше, а то в Неметчине мало воды, и люди там больше пьют пиво, – стоял на своем Григоров.
Бей кивком головы выразил согласие с его мнением.
– А где Голос? – спросил бей, ища среди актеров господина Фратю.
– Ему сейчас не положено выходить на сцену.
– Правильно… Такого негодяя нужно было повесить. Если будут опять играть эту пьесу, скажи консулу, чтобы он его не оставлял в живых. Так будет лучше.
И правда, господина Фратю не было среди актеров. Решив не дожидаться лавров от публики, он благоразумно улизнул, как только началось крамольное пение.
Труппа допела песню, и под крики «браво!» занавес опустился. Вновь зазвучал австрийский гимн, провожая публику к выходу. Вскоре зал опустел.
Актеры переодевались на сцене, весело разговаривая с друзьями, пришедшими их поздравить.
– Каблешков, черт бы тебя побрал, с ума ты сошел, что ли? Влез на сцену, стал за моей спиной и ну реветь, как ветер в бурю! Отчаянный ты… – говорил Огнянов, стаскивая с ног сапоги князя Святослава.
– Не вытерпел, братец, надоело слушать, как все плакали и кудахтали над твоей «многострадальной Геновевой». Нужно было чем-то отрезвить народ. И вот мне пришло в голову выйти на сцену… Сам видишь, какой получился блестящий эффект.
– Да, но я все посматривал вокруг, – не схватит ли меня за локоть кто-нибудь из полицейских, – смеялся Огнянов.
– Не волнуйтесь, Стефчов убрался раньше, чем мы запели, – сказал Соколов.
– Это бей его выгнал, – вставил учитель Франгов.
– Но сам-то бей остался, – заметил кто-то. – Я видел, как внимательно он слушал… Завтра ждите неприятностей…
– Будет вам беспокоиться! Ведь рядом с ним сидел Дамянчо Григоров. Он ему заморочил голову, надо думать. А если нет, отберем у него диплом острослова.
– Я не без умысла пригласил его и посадил рядом с беем, – старик любит анекдоты. Эта лиса сумела заговорить ему зубы, – будьте покойны! – говорил Николай Недкович, снимая с себя тонкую рясу попа Димчо, в которой играл роль отца Геновевы.
Все надеялись, что никто их не выдаст. Но утром Огнянова вызвали в конак.
Он предстал перед беем, который сидел насупившись.
– Консулус-эфенди, – сказал ему бей, – мне стало известно, что вы вчера пели бунтарские песни, это правда?
Огнянов ответил отрицательно.
– Но онбаши уверяет меня, что это так.
– Его ввели в заблуждение. Вы же сами были на спектакле.
Бен вызвал онбаши.
– Шериф-ага, когда пели «эти» песни? При мне или без меня?
– Крамольную песню пели при вас, бей-эфенди. Кириак-эфенди не станет врать.
Бей строго посмотрел на онбаши. Его самолюбие было задето.
– Что ты вздор мелешь, Шериф-ага? Кто там был, Кириак или я? Я все слышал своими ушами. Кому чорбаджи Дамянчо слово в слово переводил всю песню? Мне. Я вчера беседовал и с чорбаджи Марко, он тоже находит, что песня очень хорошая… Чтобы такого безобразия больше не было! – прикрикнул бей на онбаши и повернулся к Огнянову: – Консул, извини за беспокойство, произошла ошибка… Постой, а как звали того, закованного в цепи?
– Голос.
– Да, Голос… Ты бы лучше приказал его повесить. Я бы непременно повесил … Не следовало тебе слушаться женских советов… Все было хорошо, а песня лучше всего, – закончил бей, с трудом поднимаясь с места.
Огнянов попрощался и вышел.
– Скоро услышишь другую песню, и ее ты поймешь без помощи Дамянчо, – бормотал себе под нос Огнянов, выходя в ворота.
Но он не заметил, как зловеще смотрел на него онбаши.
XVIII. В кофейне Ганко
Прошло несколько дней. Кофейня Ганко, как всегда, была с раннего утра полна посетителей, шума и дыма. Сюда сходились и стар и млад, здесь обсуждались общинные дела, восточный вопрос, внутренняя и внешняя политика всей Европы. Это был своего рода малый парламент. Но пока что на повестке дня стояло представление «Геновевы», дававшее основную пищу для разговоров. Впрочем, ему предстояло еще долго занимать местное общество, и с течением времени впечатление, произведенное пьесой, все больше углублялось. Многих волновала история с пением революционной песни, вызывавшая самые горячие споры. Теперь, когда страсти улеглись, некоторые осуждали Огнянова, за которым сохранилось прозвище «Граф», как это бывает с актерами-любителями, имевшими успех у публики; а господина Фратю все звали «Голос». Даже и в это утро господин Фратю с удивлением заметил, что некоторые почтенные старцы смотрят на него косо, не прощая ему клевету на Геновеву. Одна старушка, остановив его на дороге, сказала:
– Ах, родной, зачем ты так сделал? И не грех тебе перед богом-то?
Но с приходом чорбаджи Мичо Бейзаде разговор в кофейне вновь перешел в не знающую пределов область политики.
Чорбаджи Мичо Бейзаде, смуглый пожилой человек невысокого роста, носил шаровары и суконную безрукавку. Как и его сверстники, он не получил почти никакого образования, и кругозор его был ограничен; но жизнь, полная испытаний, сделала его опытным и рассудительным. Его черные живые глаза сияли умом, худое лицо было изборождено глубокими морщинами. У него была одна странность, сделавшая его притчей во языцех, а именно: непомерное пристрастие к политике и непоколебимое убеждение в скором падении Турции. Само собой разумеется, он был русофилом, до мозга костей, до фанатизма, порой даже до смешного. У всех еще в памяти, как он вспылил, когда на экзамене в школе ученик сказал, что под Севастополем Россия была побеждена.
– Ошибаешься, сынок, Россию нельзя победить! Возьми назад свои деньги у того учителя, что тебя учил, – сердито сказал чорбаджи Мичо.
Тут же на экзамене учитель попытался с учебником в руках доказать, что в Крымской войне Россия потерпела поражение. Мичо тогда раскричался, заявил, что «его история врет», и, будучи попечителем школы, добился увольнения учителя.
Нервный и горячий, он взрывался, как только кто-нибудь осмеливался говорить наперекор его заветным убеждениям. В таких случаях он кипятился, кричал и ругательски ругался. Но сегодня он был весел и, садясь за стол, проговорил с победоносным видом:
– А турок-то опять поколотили!
– Как? – послышались радостные, удивленные голоса.
– Любобратич и Божо Петрович [60]60
Божо Петрович (Божидар Петрович) – один из видных вождей Герцеговинского восстания 1875 г., черногорский воевода.
[Закрыть]ухлопали несколько тысяч турок, – ответил Мичо, решив сообщать новость по частям, чтобы продлить удовольствие.
– Браво, дай им бог здоровья! – крикнуло несколько человек.
– И Подгорица [61]61
Подгорица – турецкая крепость на черногорской границе, в районе которой оперировали повстанческие отряды Божо Петровича.
[Закрыть]взята, – продолжал Мичо.
Удивлению не было конца. Можно было подумать, что взята не Подгорица, а Вена.
– Оружия и добровольцев видимо-невидимо: валом валят из Австрии.
– Неужели правда?
– Босния опять загорелась. Сербия пришла в движение и готовит войска. А зашевелится Сербия, и мы зашевелимся. Тогда плохи будут дела нашего…
– Пошел он к черту!
– Австрия и пикнуть не посмеет, потому что Горчаков [62]62
Горчаков А. М. (1798–1883) – князь, русский дипломат.
[Закрыть]цыкнет на нее из Петербурга, скажет: «Стой! Режут ли там друг друга, дерутся ли, уж это их дело…» Тогда песенка наших будет спета.
Все навострили уши и с удовлетворением слушали чорбаджи Мичо, который сообщал такие радостные вести.
– Сколько человек убито? – спросил Никодим.
– Турок-то? Я тебе говорю – тысячи; скажи две, скажи пять, скажи десять – не ошибешься. Молодцы герцеговинцы – они шутить не любят.
– Хорошо, если только правда!
– Я тебе говорю, что правда!
– А где ты это узнал? – спросил чорбаджи Марко.
– Из верного источника, душа моя. Позавчера господин Георги Измирлия узнал от Янаки Дафниса, аптекаря в К., что все это было написано в триестской газете «Клио».
– Не думаю, чтоб герцеговинцы сумели чего добиться… Повоюют, повоюют, да и уморятся. Сколько их там? Горсточка, – сказал Павлаки, ища одобрения во взглядах остальных посетителей.
– И я так говорю, Павлаки: сколько их, герцеговинцев? Горсточка. Турки их не боятся, – согласился с ним Хаджи Смион, поправляя чулок на левой ноге.
Тут вмешался чорбаджи Мичо.
– Ты, Павлаки, извини меня, ни черта не понимаешь, и ты, Хаджи, тоже, – возразил он горячо. – В политике очень часто из ничего получается что-то. Сам Горчаков сказал, что из Герцеговины полетят искры, от которых вспыхнет пожар во всех турецких владениях.
– А мне кажется, что эти слова сказал Дерби [63]63
Дерби. – Эдуард Генри Стенли, граф Дерби (1826–1893), английский государственный деятель, консерватор; в 1874 г. – министр иностранных дел; поддерживал реакционную Турцию.
[Закрыть], – с важностью поправил его господин Фратю.
Чорбаджи Мичо насупился.
– Дерби – англичанин и не мог говорить против султана, – возразил он. – Знаю я эту аглицкую политику: «В Турции все хорошо, Турция процветает…» Я тебе говорю, что Дерби не мог этого сказать.
– Ну, конечно, Фратю, Дерби так не говорил, – подтвердил Хаджи Смион.
– Эх, кабы вспыхнул пожар да сгорел бы весь Царьград, мы бы враз и освободились от этой погани, – откликнулся сапожник Иванчо Дудов, который, скажем прямо, был новичком в политике.
– Здесь речь идет о другом пожаре, Иванчо, – объяснил Павлаки без улыбки.
– Настоящий пожар вспыхнет, когда загорится Болгария, – изрек господин Фратю.
– А зачем ей гореть, Болгарии? Не нужно мне, чтобы она горела, Болгария-то. Нам надо сидеть тихо-смирно. Или не знаете, какая недавно заварилась каша в Загоре? – хмуро возразил чорбаджи Димо.
– Вот, Фратю, ты так говоришь, а почему, спрашивается? – отозвался Данчо-Пекарь. – Потому что, когда все начнется, ты очутишься в Румынии на Подумогушое [64]64
Подумогушой – центральная улица Бухареста.
[Закрыть]и будешь оттуда кричать: «Держите их!» – а нам здесь будут рубить головы!.. Нет, уж ты меня лучше не уговаривай… Данчо тоже разбирается в людях.
– Напротив, я останусь здесь и тоже буду жертвовать собой, – возразил господин Фратю.
– Уж если суждено вспыхнуть пожару, так хоть бы поскорее, – сказал кто-то. – Разве это государство? Оно и сейчас горит, только дыма нет. У нас последние рубахи с плеч поснимали… За город носа показать не смеешь. Да разве это государство?.. Дрянь!
– Не беспокойтесь, теперь не долго, – сказал Мичо, – есть предсказание, что Турция скоро падет.
– Турция совершенно сгнила, один скелет остался, а больше нет ничего… Толкни – и развалится! – поддержал его кто-то.
– А если не толкнем ее, значит, сами дураки! – с жаром воскликнул поп Димчо.
– Так-то так, – отозвался поп Ставри, – правда, заварилась каша. И малый и старый только о том и твердят. Даже у баб, у детишек день-деньской все один разговор. А песни послушай: теперь уж не услышишь «ахов» да «охов», а все о ружьях да о саблях поют. «Как грянут барабаны, так взыграет мое сердце. Вставайте с турками драться!» Ну и прочие безумные песни. А молодые ребята? Поищи-ка их! Все на монастырском лугу. «Бау, бум, бау, бум» – только и слышишь, целый день палят из ружей; в Бозалан не проедешь. Мой Ганко набрал где-то целую кучу пистолетов и ружей и, не успеет распустить учеников, берется за свое оружие. «Зачем тебе, сынок, спрашиваю, это старье?» – «Скоро понадобится, отвечает, придет время, когда самый завалящий пистолет на вес золота будет…» Да, на бочке с порохом сидим; все это так просто не кончится, помяните мое слово. Сохрани нас бог!
Бесхитростные и откровенные речи попа Ставри правдиво отражали то, что делалось вокруг. Вот уже несколько месяцев, пожалуй, со дня появления Огнянова в городе, – как это отметил Стефчов, – повсюду начался подъем духа, который с каждым днем возрастал, и особенно после сентябрьского восстания в Стара-Загоре.
На пирушках провозглашались патриотические тосты и открыто говорилось о восстании; вокруг монастыря целый день раздавались ружейные выстрелы – это молодежь училась стрелять. Революционные песни вошли в моду и проникали всюду – в дома, на посиделки и оттуда на улицы; сентиментальные любовные песни везде были вытеснены патриотическими. Люди прямо диву давались, слыша, как девушки поют на посиделках:
Или как почтенные матери многочисленных семей с жарой распевают во весь голос:
Встань же, дружина, пред ворогом черным,
Больше не будем мы стадом покорным!..
Но все это были лишь платонические порывы, и, презирая их, турки делали вид, будто ничего не слышат. Однако после неудачного сентябрьского восстания в Стара-Загоре турки не пугались не на шутку, и ярость их вылилась в кровавые расправы над болгарами. На стрельбу болгар но голым обрывам турки отвечали выстрелами в живых людей; на крамольное пение болгарок – изнасилованием их сестер и убийством их братьев. Турки убивали безоружных путников, жгли деревни, брали в плен жителей и делили добычу с полицией. По всей Фракии стон с тоял от невиданных насилий и зв ерств.
Во многом соглашаясь с Мичо, чорбаджи Марко возражал ему, когда заходила речь о восстании. Самую мысль об этом он называл безумием и строго отчитывал Огнянова, которого любил и всегда защищал, за каждое крамольное слово, сказанное в его присутствии.
– Удивляюсь не глупости тех вертопрахов, что ходят стрелять на монастырский луг и бредят всяким вздором, – начал дядюшка Марко, – нет, я на тех не могу надивиться, у кого седина в бороде. Какая их муха укусила?.. Мы играем с огнем. Пятьсот лет Турция держала в страхе весь мир, и ее хочет одолеть кучка молокососов с кремневыми ружьями!.. Не дальше, как вчера, вижу своего Басила: тащит карабин к монастырю и тоже собирается уничтожать Турцию!.. Иной раз скажешь ему цыпленка зарезать, так этот трусишка бежит на улицу и просит первого встречного порезать цыпленку горло: каплю крови увидеть боится… «Иди домой, сумасшедший, – говорю ему, – тебе ли за оружие браться?» Мы здесь живем точно в аду. Вы говорите – бунт? Не дай бог до него дожить, тогда все пропало… Камня целого здесь не останется…
В разговор вмешался Ганко, содержатель кофейни:
– Правду говорит дядюшка Марко. Восстание для нас гибель.
И он посмотрел на потолок, где счета его должников были написаны мелом в виде бесчисленных черточек. Возражения Марко немного рассердили Мичо.
– Марко, – сказал он, – ты говоришь мудро, но есть люди мудрее нас, и они знают, что все это сбудется. Так или иначе, Турции суждено пасть.
– Не верю я вашим пророкам, – спорил Марко, подразумевая Мартына Задеку [66]66
Мартын Задека – мнимый автор книжки пророчеств о политических событиях ближайшего столетия, изданной на немецком языке в конце XVIII века и пользовавшейся известной популярностью в Болгарин в годы турецкого владычества, так как в ней «предсказывалось» падение Турецкой империи.
[Закрыть], в которого благоговейно веровал Мичо. – Что мне твой Задека! Прндн сюда сам царь Соломой, я и ему не поверю, если он скажет, что мы в силах сделать что-нибудь путное… А ребячество нам ни к чему.
– Но позволь, Марко, а если так повелел сам бог? – заметил мои Ставри.
– Бог повелел нам терпеть, батюшка. А уж если он решил погубить Турцию, так не на нас, сопляков, он возложит такое дело.
– Теперь уже известно, душа моя, кто ее погубит, – сказал Павлаки.
– Дед Иван, дед Иван! [67]67
Дед Иван. – «Дедом Иваном» в Болгарин называли Россию, русский народ, как грядущего освободителя болгар от турецкого ига.
[Закрыть] – послышались голоса. Чорбаджи Мичо, видимо, почувствовал удовлетворение.
– Кому-кому, а мне можете об этом не говорить, – начал он, оживившись. – Я то самое и хочу сказать, что мы пойдем впереди, а дед Иван с дубиной в руках пойдет за нами до самой святой Софии! [68]68
…до самой святой Софии! – то есть до Константинополя (Стамбула), в то время столицы Турции с ее мечетью Айя-София, бывшим византийским храмом св. Софии.
[Закрыть]Как можно без его согласия? Да разве смог бы Любобратич убивать этих псов целыми тысячами, если бы не опирался на его могучее плечо? Но я к тому речь веду, что дни турецкого владычества уже сочтены, как дни чахоточного. Это черным по белому писано – я не из пальца высосал… Слушайте еще раз, кто не верит: «Константинополь, столица султана турецкого, взят будет без малейшего кровопролития. Турецкое государство вконец разорят, глад и мор будет окончанием сих бедствий, турки сами от себя погибнут жалостнейшим образом!» А в другом месте опять-таки сказано: «Мечети ваши разорены, а идолы ваши и алкоран вовсе истреблены будут! Мохаммед! Ты – восточный антихрист! Время твое миновало, гробница твоя сожжена, и кости твои в пепел обращены будут!»
В пылу красноречия Мичо, сам того не замечая, вскочил и рубил воздух рукой.
– Но когда же это пророчество исполнится? – спросил поп Ставри.
– Говорю вам – скоро; час пробил!
В эту минуту дверь открылась, и вошел Николай Недкович; он держал в руках только что полученный номер газеты «Век» [69]69
«Век» – болгарская газета, издававшаяся в Константинополе (1874–1876) Марко Балабановым; орган сторонников «мирного» разрешения национального вопроса в султанской Турции путем частичных реформ.
[Закрыть].
– Это свежий, Николчо? – крикнуло несколько человек. – Читай, читай!
– Ну-ка, посмотрим, много ли голов пало от руки Любобратича, – нетерпеливо говорили другие.
– Я же вам говорю – тысячи. Садись сюда, Николчо! – И Мичо освободил ему место рядом с собой.
Николай Недкович развернул газету.
– Сначала прочти о герцеговинском восстании! – приказал дядюшка Мичо.
В торжественной тишине Недкович стал читать. Его слушали, затаив дыхание, но радостная весть о победе восставших, помещенная в газете «Клио», не подтверждалась. Напротив, известия с театра военных действий оказались плохими: не только Подгорица не была взята, но и последний отряд Любобратича потерпел полное поражение, а сам Любобратич бежал в Австрию.
Все повесили носы. Лица людей выражали глубокое разочарование и скорбь. Недкович тоже был расстроен; голос его ослабел и стал хриплым.
Мичо Бейзаде внезапно прошиб пот, он побледнел и, дрожа от злобы, закричал:
– Враки, враки и еще раз враки! Рассказывай другим эту чушь собачью! Любобратич их бил и разбил!.. Врет газета! Не верьте ни одному ее слову!
– Но, дядюшка Мичо, – возразил Недкович, – телеграммы взяты из разных европейских газет. В них, наверное, есть доля правды.
– Враки, враки, это все турки сами выдумали в Царьграде! Ты найди «Клио» да почитай.
– И я не верю, – поддержал его Хаджи Смион, – газетчики врут, как цыгане. Помню, в Молдове была одна газетка: что ни скажет, обязательно соврет.
– Вранье, вранье! – добавил кто-то.
– Я же вам говорил, – продолжал Мичо, – турецкие сообщения всегда надо понимать наоборот: если пишут, что убито сто герцеговинцев, значит, ухлопали сотню неверных, а если скажешь – тысячу, тоже не ошибешься.
Дядюшке Мичо удалось немного подбодрить общество этими словами. Они казались убедительными, ибо отвечали тайным желаниям каждого. А газетным сообщениям не хотелось верить, потому что они несли плохие вести. Да и нельзя же доверять этой газетке! Но когда та же газета сообщала об успехах Любобратича, никому не приходило в голову усомниться в достоверности ее сведений. И все-таки сегодняшние известия расстроили завсегдатаев кофейни Ганко. Разговоры понемногу прекратились, у всех было тяжело на душе. Мичо и тот чувствовал себя как-то неловко. Он сердился на себя самого, на газету «Век» и на весь мир, потому что новость, вычитанная в газете «Клио», не подтвердилась. Вот почему он взорвался, когда среди полной тишины Петраки Шийков проговорил язвительным тоном:
– Как видно, дядюшка Мичо, твоя герцеговинская искра останется только искрой, и ничего из нее не получится… Слушай, что я скажу: Турция будет нами владеть и в этом году, и в будущем, и через сто лет, а мы до самой своей смерти будем обманывать себя твоими пророчествами.
– Шийков! – заорал разъяренный Мичо. – Если твоя пустая башка ничего не смыслит в этих делах, так и молчи! Такой скотине, как ты, сколько ни долби, все равно ни черта не поймешь.
Начиналась ссора, но появление Стефчова прервало ее и положило конец крамольным разговорам о падении Турции.







