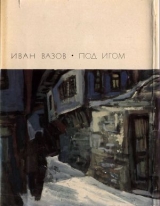
Текст книги "Под игом"
Автор книги: Иван Вазов
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 21 (всего у книги 34 страниц)
XII. Зеленая сумка
Старец был так высок ростом, что головой почти упирался в потолок кельи. Его длинная белая борода величаво ниспадала на грудь; и глаза его и большое изможденное доброе лицо, слабо освещенное восковой свечой, были спокойны.
Он медленно подошел к дьякону. Викентий пал перед ним на колени.
— Чадо, верить ли мне глазам своим? – проговорил старец дрожащим голосом.
— Простите меня! – И Викентий умоляюще протянул к нему сложенные руки.
Отец Иеротей с минуту стоял молча, не отрывая глаз от юноши. Викентий так побледнел, что лицо его стало неузнаваемым. Он не мог пошевелиться и, стоя на коленях, с простертыми вверх руками, походил на статую в католической церкви.
В чулане стояла могильная тишина; казалось, в нем нет ни живой души.
— Дьякон Викентий! С коих пор окаянный сатана обрел власть над душой твоей? С коих пор стал ты жаждать золота и промышлять грабительством? Господи боже, Иисусе Христе, прости меня, грешного!
Старец перекрестился.
— Встань, дьякон Викентий! – приказал он сурово. Викентий вскочил, словно на пружинах. Голова его поникла, как подрезанная ветка.
— Скажи, зачем ты пробрался сюда, яко тать в нощи?
— Простите, простите! Согрешил, отче Иеротей! – проговорил Викентий прерывистым, глухим, рыдающим голосом.
— Да простит тебя господь, чадо!.. Ты вступил на путь нечестивых; ты идешь, чадо, к вечной погибели, к погибели своего тела и души… Кто подучил тебя совершить этот смертный грех?
— Отче! Прости меня; не для себя похитил я эти деньги, – пролепетал Викентий, совершенно подавленный.
— Для кого же ты прельстился, для кого поддался этому соблазну, Викентий?
— Для народного дела, отче. Старец посмотрел на него изумленно.
— Какого народного дела?
— Для дела, к которому мы готовимся теперь, – для восстания… Понадобились деньги… и я дерзнул посягнуть на ваши…
Кроткое лицо монаха прояснилось. В глазах его, помутневших от старости, блеснул огонек, и они увлажнились слезами.
— Правду ты говоришь, дьякон?
— Сущую правду, клянусь святой кровью господней и родной Болгарией… Только ради общего дела посягнул я на эти деньги.
Какое-то новое чувство озарило лицо старца.
– Почему же ты не попросил у меня, чадо? Разве я не люблю Болгарию? Не сегодня-завтра всевышний возьмет к себе мою грешную душу… Кому же я оставлю все, что имею? Мои наследники – все вы, болгарские юноши… Мы, старики, в свое время многого еще не понимали и не могли… Всемогущий бог да поможет вам избавить христиан от проклятого рода агарянского… Что ты на меня так смотришь? Не веришь? Иди сюда, иди!
И, взяв за руку ошеломленного Викентия, старец подвел его к шкафу, вынул оттуда большую тетрадь в зеленом переплете и, раскрыв ее дрожащей старческой рукой, промолвил:
— Читай вот здесь, чадо, – теперь скрывать уже не к чему. Прости меня, боже!
Викентий прочитал следующие записи, сделанные рукой монаха:
«1805 г. февраля 5. Послал его благородию, господину ** в Одессу 200 оттоманских лир для пяти болгарских мальчиков, чтобы дать им возможность учиться».
«1867 г. сентября 8. Послал его благородию господину ** в Габрово 100 оттоманских лир для пяти болгарских мальчиков, чтобы дать им возможность учиться».
«1870 г. августа 1. Послал его благородию господину ** в Пловдив 120 оттоманских лир для пяти болгарских мальчиков, чтобы дать им возможность учиться».
Лизнув палец, отец Иеротей перевернул страницу.
— Читай здесь! Викентий прочел:
«Да будет ведомо тем, кому знать надлежит: в малой зеленой сумке лежит 600 лир оттоманских. Эти деньги следует отдать иеродиакону Викентию из города Клисуры, рукоположенному в святой обители святого Спаса, дабы он поехал в Киев для получения богословского образования на пользу Болгарии».
Последняя запись служила вместо завещания, на случай внезапной кончины старца.
Викентию казалось, будто все это он видит во сне. Он по смел поднять голову и посмотреть отцу Иеротею прямо в глаза, теперь ярко блестевшие. С благоговейной признательностью приложился он к руке старца, и глаза его, опущенные от стыда, роняли слезы благодарности.
Отец Иеротей понял бедного Викентия и сжалился над ним.
— Утешься, чадо, господь прощает кающегося грешника, – сказал он ободряющим тоном. – Намерение у тебя было доброе и похвальное… Всеведущий бог все видит. Ну, а теперь скажи: сколько денег нужно на оружие?
— Двести лир… Отче Иеротей, вы – святой! Да будет ваше имя бессмертно! – воскликнул растроганный Викентий со страстным восхищением.
— Не кощунствуй, сын мой! – строго остановил его старец. – Возьми, сколько нужно, и употребите деньги на пользу Болгарии, как вас господь вразумит… Благословляю вас всех. Если понадобится еще, попросите… Что до твоих денег…
— Отче Иеротей! Горячо благодарю вас за великодушие и нее ваши благодеяния… Но я уже не имею права пользоваться ими; я не хочу уезжать из Болгарии; я буду бороться и отдам жизнь за ее свободу. На вашем примере я понял, как надо любить родину.
— Дьякон Викентий! – продолжал старец. – Ты прав, сын мой; послужи Болгарии, – время уже приспело. А назначенные тебе деньги я снова положу в зеленую сумку, – об этом не беспокойся. Только я упрячу их в более надежное место: не все же воры – такие ангелы незлобивые, как ты. И когда я умру, поминай меня…
Викентий вышел из кельи отца Иеротея, шатаясь, как пьяный. Быстро перебежав двор, он влетел в свою келью, сам не свой от всего пережитого.
Огнянов посмотрел на него недоумевая.
— Ну что?.. Долго же ты задержался… Отчего ты так побледнел? – расспрашивал он торопливо. – Что же ты молчишь, Викентий? Достал деньги?
Викентий вывернул карман.
— Вот они, – проговорил он. Золотые монеты рассыпались по полу.
— Сколько взял?
— Он дал, сколько нужно было.
— Кто дал? Отец Иеротей? Значит, ты просил у него? Ты пошел искать его?
— Нет, он застал меня на месте преступления.
— Вот так история!
— Ах, Огнянов! Что мы наделали, брат мой! Как мало мы знали отца Иеротея! Тебе-то простительно… но я прожил здесь три года и осыпан его благодеяниями… И я не могу себе простить. В эту ночь словно молния сверкнула передо мной, и глаза у меня открылись… Я был убит… Да, я отдал бы двадцать лет жизни, лишь бы не переживать того, что пережил в этот час. Я, молодой человек, болгарин, как будто горячо любящий свою родину, но я был потрясен спокойным величием души, непритязательной любовью к родине этого дряхлого старика, никому не известного, стоящего одной ногой в могиле. Ты только представь себе, брат мой, он застал меня у сундука с горстью золотых монет на коленях!
И дьякон подробно рассказал обо всем, что с ним произошло.
— Как же это получилось? Значит, он вышел из церкви раньше обычного?
— Нет, как всегда. Но я долго стоял на дворе, – все колебался, – и не заметил, как прошло время… Представь себе мое положение…
Огнянов стоял, скрестив руки; он не мог прийти в себя от изумления.
— Да, это святой человек! – воскликнул он.
— Я же тебе говорил, брат мой, лучше было попросить.
— Я невысокого мнения о монашеском патриотизме.
— Неужели ты и теперь останешься при этом своем ошибочном мнении? Ты, не хуже Каравелова, вдолбил себе в голову, что монах – это какое-то заплывшее толстым слоем жира допотопное животное, которое только ест да спит и коротает жизнь в беседах с монастырскими котами!.. Ты улыбаешься, ты забываешь, сколько народных деятелей вышло из духовного звания, начиная с отца Паисия [92]92
Паисий – Пансий Хилендарский (1722–1798), монах, составил в 1762 г. «Историю славяно-болгарскую», то есть историю болгарского народа, проникнутую пламенным патриотизмом и идеей независимости Болгарин. Распространявшаяся в рукописных копиях по всей Болгарии «История» эта сыграла огромную роль в развитии национального самосознания.
[Закрыть], который сто лет назад первый написал историю Болгарии, и кончая дьяконом Левским, умершим за родину! Монахи никогда не стояли в стороне, от болгарского освободительного движения; один из них на днях привел к присяге наш комитет. А то, что произошло этой ночью, разве не убеждает тебя?
Во дворе пропели первые петухи.
— Спокойной ночи, – сказал Огнянов, укладываясь спать на лавку.
— Спокойной ночи, если только она может быть спокойной для разбойников… – ответил дьякон и потушил свечу.
Но еще долго перед глазами друзей неотступно стоял величественный образ отца Иеротея.
Отец Иеротей был одним из тех в высшей степени привлекательных людей, питомцев монастырской кельи, которые так много сделали для возрождения Болгарии. Он был близким другом Неофита Бозвели. [93]93
Неофит Бозвели (1785—1818) – один из видных представителей раннего болгарского Возрождения, монах и педагог, активный деятель в борьбе болгарской буржуазии за не зависимую от греческой патриархии болгарскую церковь; автор ряда публицистических диалогов, в том числе известного патриотического «Плача бедной матери Болгарин» (1846).
[Закрыть]Обстоятельства не позволили отцу Иеротею самому послужить делу умственного пробуждения Болгарии, но он способствовал этому пробуждению косвенно, – десятки болгарских юношей учились в разных учебных заведениях на его средства. Простой монах, он, казалось, был чужд мирской суете, но сердце его скорбело о судьбах Болгарии. Не имея ни родных, ни близких, он всю свою любовь отдал родине. Он был счастлив, когда мог принести ей хоть каплю пользы, и, щедрой рукой рассыпая благодеяния, почитал их таинством, свидетелем которого должен быть один лишь бог. Человек простодушный, но глубоко верующий, он боялся возгордиться содеянным добром, избегал хвалебного шума лести, которого столь жаждут суетные фарисеи. Он делал добро, следуя завету: правая рука да не знает, что творит левая. Нескольким лицам отец Иеротей передал крупные суммы для поддержания учащихся юношей с условием не разглашать имени благотворителя. С глубоким внутренним удовлетворением доживал он свой долгий век и с ясной душой ждал кончины.
Вскоре после своего благородного поступка, оказавшегося последним его добрым делом, отец Иеротей тихо скончался.
Когда его сундук открыли, на дне нашли только один мешок с серебряной монетой – на похороны и для раздачи бедным.
Викентий не был на его погребении. На другой день после описанного нами события он, гонимый стыдом, покинул монастырь и уехал в Клисуру.
XIII. Радостная встреча
Едва очутившись за порогом дядюшки Мичо, Колчо, к величайшему изумлению прохожих, пустился бежать по улице – он спешил к Раде, чтобы поскорее сообщить ей радостную весть.
У нее он решил вести себя более сдержанно. Ведь его прыжки и крики, так переполошившие мужчин, могли до смерти напугать и без того уже запуганную девушку. Но подобное самообладание было выше его сил. Он боялся, что задохнется от предательской радости, если вздумает обуздать ее хоть на миг. Подойдя к дому, в котором жила Рада, Колчо почувствовал, что сердце у него колотится вовсю, и, чтобы заглушить его, запел во весь голос свой шуточный тропарь.
Рада немедленно открыла дверь.
– Добро пожаловать, Колчо! – приветливо сказала она.
— Рада, милая, здесь нет никого чужих? – спросил Колчо.
— Нет, Колчо, я, как всегда, одна. Колчо уже задыхался от волнения.
– Садись, Колчо, отдохни, хорошенько отдохни! – говорила Рада, приняв его волнение за усталость.
Колчо стоял перед девушкой, вперив в нее слепые глаза.
— Рада, милая, с тебя причитается – я с доброй вестью! – выпалил он вдруг. Это была его единственная уступка велениям разума.
Сердце у Рады забилось. Она почувствовала, что сейчас услышит что-то необычайно радостное, и ей стало страшно. «Добрый ангел привел сюда этого Колчо», – подумала она.
— Что такое, Колчо?
— Радуйся, милая девушка, радуйся великой «радостью!.. Недаром тебя Радой зовут!
И, по-детски подпрыгнув, Колчо снова запел, чтобы овладеть собой:
Рада онемела. Она уже догадывалась.
— Полно, Колчо, не пугай! – едва слышно прошептала она.
— Я тебя не пугаю, я только одно говорю: радуйся… Он жив!
Колчо не выполнил своего решения, принятого на улице, – он не смог постепенно подготовить девушку к радостной вести. На подобное самообладание скорее способны зрячие – их взбудораженные чувства могут быть временно заглушены тысячью разных внешних впечатлений. Но слепой, как и всегда, блуждал в океане тьмы, куда в эти минуты проникал лишь один светлый луч, где сияла лишь одна радость. Попробуй тут не дать этой радости выхода в словах – она сама даст о себе знать прыжками пли криками… Так или иначе – душа хотела излиться без промедления.
Последние слова слепого девушка уже предугадала сердцем, но, услышав их, она прислонилась к стене, чтобы не упасть.
Бывают огромные радости, как и страшные горести, которые слабая человеческая природа, казалось бы, не в состоянии перенести. А между тем она переносит все. Чем сильнее внутреннее напряжение, тем более гибкой становится душа, если только она здорова. Быть может, тайное предчувствие уже подготовило девушку.

— Жив? Боже мой! – крикнула она как безумная. – Где же он? Кто тебе сказал, Колчо? Жив? Бойчо жив? Ах, боже мои, неужели я выдержу, не умру от радости? Что же мне делать?
На помощь Раде пришли слезы – в них она излила поток клокотавших в груди и душивших ее чувств.
Немного успокоившись, Колчо подробно рассказал девушке о своей встрече с Огняновым у ворот Мичо Бейзаде и обо всем, что затем произошло.
— Когда же он придет?
— Попозже. Надо подождать, пока стемнеет; да и дел у него сегодня по горло…
— Ах, боже мой, боже! – повторяла Рада, сжимая руки и смеясь сквозь слезы.
В этот миг она была пленительно хороша.
— Благодарю тебя, Колчо! Благодарю тебя! – говорила она, сама не своя от радости.
Колчо вышел от нее с облегченной душой.
Его нежное, преданное сердце было счастливо чужим счастьем. Природа, отнявшая у него все, в утешение вознаградила его этой способностью радоваться чужой радости.
Рада не знала, что ей делать. Как дождаться дорогого гостя? Как скрыть его посещение? Сказать или не сказать хозяевам? Пойти к ним? Нет, у них она, чего доброго, станет вести себя как безумная. Остаться здесь одной – сердце не выдержит!.. Ей казалось, будто целая вечность еще отделяет ее от Бойчо, и , чтобы как-нибудь убить время, девушка принялась лихорадочно убирать комнату, а потом приводит» в порядок свое платье и волосы. Прихорашиваясь перед зеркалом, Рада увидела, как она мила, улыбнулась и высунула себе язык. Делать было больше нечего, и Рада, как пятилетний ребенок, завертелась на одной ноге и запела, не понимая слов, да и не слыша себя. Все ее внимание было приковано к двери, и при малейшем шорохе она вздрагивала, как вспугнутая птичка. Как она была счастлива!
Огнянову удалось выбраться из монастыря и повидаться с Радой только на другой день, когда уже стемнело. Рада жила у бабки Лиловицы в отдельной комнатке, в глубине продолговатого двора, густо засаженного плодовыми деревьями. К наружной стене этой комнаты была приставлена широкая скамья, и здесь Рада днем работала и читала в тени.
За эти сутки Рада, можно сказать, все глаза проглядела, дожидаясь Бойчо. Долгие часы, полные трепетного ожидания, жгучего волнения и беспокойства, казались ей вечностью. Вечером она не усидела дома и вышла на улицу.
Надвигалась ночь. Звезды блистали в небе, словно ожившие алмазы. Чистый дремлющий воздух был напоен благоуханием цветов, распустившихся в соседних дворах, и острее всего пахла ароматная акация. Листья деревьев перешептывались в сладостной дреме, чуть вздрагивая от прикосновения слабого ночного ветра. Таинственна и чудесна была тишина этой безлунной ночи. Проснувшись от шума шагов Рады, две ласточки сонными глазками глянули из гнезда, что прилепилось к навесу над скамьей, и снова прижались друг к дружке… Каким-то любовным очарованием, какой-то неуловимой небесной радостью веяло отовсюду. И все это вместе – и темно-синее небо, и алмазные звезды, и прозрачный воздух, и деревья, и ласточки, лежавшие в тепле на своем пуховом ложе, и цветы, и запахи – вносило благодатное успокоение в душу Рады, шептало ей о мире, любви и поэзии, о нескончаемых поцелуях в сладостной ночной тиши…
Рада истомилась в ожидании…
Когда Огнянов наконец постучался, ноги у нее подкосились, но она овладела собой и бросилась открывать дверь.
Влюбленные обнялись, и уста их слились в долгом, горячем поцелуе.
Их бурная радость искала выход в поцелуях и прерывистом шепоте.
После первых порывистых излияний, сияющие и счастливые, они немного успокоились. Теперь они не могли нарадоваться друг на друга. Рада, озаренная светом любви, была прелестна. Бойчо казался ей еще краше, чем прежде, – простая крестьянская одежда резче оттеняла выразительные черты его умного, мужественного лица.
– Ну, как же ты жила, пташка моя? – говорил Бойчо. – Настрадалась, должно быть, девочка моя бедная! Это я тебя измучил, Рада, я принес тебя в жертву… А ты не только не укоряешь меня, но все так же любишь; сердце твое рождено лишь для того, чтобы ласкать, нежить и плакать… Прости меня, прости меня, Рада!
И Огнянов сжимал ее руки в своих и не мог оторвать взгляда от ее больших блестящих глаз.
— Простить? Ни за что не прощу! – притворно сердито отвечала Рада. – Как можешь ты так говорить? Как же мне было не мучиться, слыша, что ты умер? Ты бы хоть одним словечком дал знать о себе… Ах, Бойчо, Бойчо, пожалуйста, больше не умирай! Теперь я с тобой ни за что не расстанусь… Хочу быть всегда с тобой, чтобы охранять тебя, как зеницу ока, и любить, горячо любить, и радоваться этому. Ты так страдал, Бойчо, ведь правда? Ах, господи, да что же это я? Прямо с ума сошла! Даже не спросила, как ты провел эти долгие месяцы, – мне они казались такими страшными и бесконечными, – не спросила, что ты пережил!
— Много пришлось пережить, Рада… много опасностей мне грозило, но господь не оставил меня своей милостью, и вот мы снова вместе.
— Нет, нет, расскажи мне все подробно, решительно все! Я все хочу знать… Ведь тут насчет тебя такие басни плели, такие слухи распространяли – один другого чудовищнее!.. У людей нет сердца, как могут они выдумывать такие вещи! Рассказывай же, Бойчо! Теперь, когда ты жив и сидишь рядом со мной, я могу мужественно слушать обо всем, что ты перенес, как бы это ни было страшно.
И она смотрела на Огнянова с мольбой, с невыразимой любовью и участием.
Бойчо не мог отказать ей. Она имела право все знать. Да и ему самому хотелось поделиться всем пережитым с той, кого он любил, с той, у кого было такое отзывчивое сердце. В минуту счастья воспоминания о прошлых страданиях, о перенесенных бедах таят в себе какую-то особую прелесть. И Бойчо рассказал Раде обо всех своих приключениях со дня бегства из Бяла-Черквы, рассказал просто и безыскусственно, но не сухо и бегло, как вчера, на заседании комитета и потом Викентию в его келье, а подробно. Рада слушала, и душевное волнение живо отражалось в ее детски ясных глазах; Бойчо читал в них то страх, то сострадание и участие, то радость и торжество, и эти глаза сладостно опьяняли его. А Рада жадно глотала каждое его слово, переживая все вместе с ним, и не отрывала от него взгляда.
— Ах, Бойчо, наверное, тебя кто-то предал! – воскликнула Рада тревожно – рассказ дошел до того часа, когда турки пришли арестовать Огнянова на Алтыновском постоялом дворе.
— Не знаю. Не смею подозревать болгарина. Быть может, я сам себя выдал в турецкой кофейне какой-нибудь оплошностью.
— Ну, а дальше? – в нетерпеливом волнении спросила Рада.
— Я услышал у себя в комнате шаги приближающихся турок и сразу смекнул, что пришли по мою душу; в глазах у меня потемнело. Вижу: надежды никакой, я погиб… выхватил свой револьвер и стал у дверей. У меня было шесть патронов: пять – для них, шестой я решил оставить для себя…
— Боже, боже, какой ужас! А я ничего не подозревала; быть может, я в этот миг смеялась здесь.
— В это время ты, надо полагать, молилась, Рада, потому что господь смилостивился и спас меня от неминуемой гибели.
— Он сотворил чудо, Бойчо!
— Да, если хочешь, чудо. Он ослепил турок. Вместо того чтобы ворваться ко мне, они вошли в первую комнату, выходящую на двор! Как я потом узнал, незадолго до этого на постоялом дворе остановился какой то сборщик налогов, грек из Пловдива, и он оказался моим соседом. Должно быть, между нами было большое сходство, и это ввело в заблуждение полицейского, который видел меня за день до этого.
Рада облегченно вздохнула.
— Услышав шум в соседней комнате, я сообразил, что вышло недоразумение и минуту спустя они будут у меня. Одна лишь минута отделяла меня от них, иначе говоря – от смерти… Я теперь и сам не помню, как вышиб оконную раму и бросился вниз, на дорогу… Собственно, даже не на дорогу, а прямо в реку, уже покрытую льдом… Лед проломился, и я по колени погрузился в холодную воду. Я силился выбраться на сушу, как вдруг началась оглушительная пальба: пять-шесть ружейных выстрелов из окна прогремели над моей головой. Но ни одна пуля меня не задела… Тогда я пустился бежать, бежать как безумный. Сколько времени я так мчался во тьме, какие места пробегал, я и сам не знаю.
— За тобой гнались?
— Конечно. Некоторое время я в этом не сомневался, но вскоре погоня отстала… Я забрался в лес. Была уже ночь. Ветер хлестал мне в лицо… Одежда моя промерзла и стала твердой, как доска. Два часа я шел по склону горы на запад и наконец полуживой дотащился до села Овчери. Там добрые люди приняли меня и обогрели. Слава богу, я отморозил только палец на ноге. В Овчери я прожил две недели, но, опасаясь навлечь беду на людей, – я ведь всюду влачу за собой одни несчастья, – я перебрался в Пирдоп, где брат Муратлийского работает учителем. У него я пролежал больной три месяца – захворал какой-то тяжкой болезнью.
— Бедный Бойчо, ты простудился, ведь ты всю зиму странствовал по горам и долам… Ты настоящий мученик, Бойчо! – воскликнула Рада с глубоким состраданием.
— Золотое сердце у него, у брата Муратлийского. Он ухаживал за мной, как родная мать.
— Какой благородный человек, настоящий болгарин! – проговорила Рада.
— II притом пламенный патриот. Он мне отплатил вдвойне и втройне за ту услугу, что я оказал его брату.
— А потом? Дальше?
— Когда я выздоровел, он дал мне денег на расходы и вот это новое деревенское платье и проводил меня со слезами на глазах. Я направился прямо сюда…
— И тебя никто не узнал?.. Пожалуйста, Бойчо, веди себя здесь поосторожнее!
Огнянов сидел с непокрытой головой; шарф он тоже сиял с себя.
Но сейчас он поднялся и, подойдя к зеркалу, взъерошил волосы, надел шапку и изменил выражение лица; потом обернулся, совершенно преображенный.
— Можешь узнать меня теперь?
— Да ты хоть маску надень, я и то узнаю… Посмотрите-ка на него! Какой же ты смешной, Бойчо! – весело воскликнула девушка.
— Ты любишь меня и потому узнаешь. А чужому человеку как меня признать?
— У врагов тоже глаз острый, ты с этим не шути!
— А для таких у меня припасено вот это, – сказал Огнянов, чуть приподняв полу плаща, – из-за пояса у него торчали рукоятки двух револьверов и кинжала.
— Ах ты, разбойник! – смеялась Рада. – Хаджи Ровоама правду говорила…
— Если я разбойник, то ты противоположная крайность, ты ангелочек.
— Смейся над бедной девушкой! Огнянов снова сел.
— Ну, продолжай. Расскажи, как ты добрался сюда. Да, а кто он такой, этот Муратлийский? – спросила Рада, уже два раза слышавшая эту фамилию.
— Брат Бырзобегунека.
— Немца? Фотографа?
— Да, Рада, это имя придуманное. На самом деле его зовут Добри Муратлийский. Он такой же немец, как и фотограф. Ему пришлось бежать после разгрома старозагорского восстания. Я его приютил здесь и представил его под чужим именем… Он мой старый товарищ и очень предан мне. Если тебе что-нибудь понадобится, смело обращайся к нему.
Рада тревожно взглянула на него.
— Зачем мне обращаться к чужим людям? Я ни в чем не нуждаюсь… Ты же знаешь, я живу на сбережения от своего учительского жалованья.
— Я уже сказал тебе, не смотри на него как на чужого человека.
— А ты-то на что?
— Я уезжаю, Рада.
— Опять уезжаешь? Когда? Неужели ты меня оставишь?
— Я должен уехать этой же ночью, через два часа, – ответил Огнянов и, посмотрев на часы, снова положил их за пазуху своей сермяги.
Рада побледнела.
— Уже уезжаешь? Так скоро? Я и разглядеть тебя как следует не успела!
— Мне на рассвете надо быть в К. У меня там дело, да и нельзя мне долго оставаться в Бяла-Черкве. Жаль, я не успею поблагодарить дядюшку Марко за его доброту к тебе… И для меня он немало сделал… Ах, Рада, есть среди нас благородные люди, и это укрепляет мою любовь к Болгарии. Я люблю ее страстно еще и потому, что она рождает таких прелестных девушек, как ты…
— Бойчо, зачем ты уезжаешь? Ах, боже мой!.. Нет, лучше возьми и меня с собой. Ты постоянно в разъездах, ты всего себя посвятил Болгарии, увези же меня из этого проклятого города, устрой меня где-нибудь в деревне, где бы я могла видеться с тобой чаще… Нет, если хочешь, поручи и мне работу на пользу народа, я ведь тоже болгарка… Твой идеал, Бойчо, это и мой идеал, и если тебе суждено умереть за Болгарию, и я умру вместе с тобой… Только не будем разлучаться, мне страшно оставаться без тебя и в тысячу раз страшнее слышать о тебе всякие нехорошие вести… Боже, как я сейчас счастлива с тобой!
И она положила руки к нему на плечи.
— Рада, милая! Твое положение здесь очень тяжело, – озабоченно проговорил Огнянов, – я это вижу. Я ведь чувствую то, чего ты не договариваешь: тебя здесь преследуют мои враги, не так ли? Я знаю, людская злоба тебе ничего не прощает… Бедная моя Рада, ты стала жертвой предрассудков и людской подлости!.. Дело не в одной только Хаджи Ровоаме, это я тоже знаю. И ты все терпишь молча и переносишь свои страдания, как героиня. Бедный мой ангел! Великое дело поглотило меня целиком, у меня нет ни минуты свободной, чтобы подумать о твоей судьбе. Я – черствый эгоист, я виноват перед тобой; прости меня, пташка моя!
— Ах, Бойчо, Бойчо! Мне кажется, что, если ты меня снова покинешь, никогда больше мне не увидеть тебя, ты навеки будешь для меня потерян! – промолвила Рада, и в глазах ее блеснули слезы. – Не оставляй меня тут, Бойчо! – продолжала она тихим, умоляющим голосом. – Будешь ли ты жить или умрешь, я хочу быть рядом с тобой… Я не буду тебе мешать ни в чем, я стану твоей помощницей. Я все буду делать… Только бы мне видеть тебя почаще.
—Нет, ты не сможешь служить нашему делу, – восстание потребует мужской силы, жестокости, беспощадности, а ты, ты – сущий ангел!.. Ты уже исполнила свой долг – знамя со львом, вышитое тобой, будет нас воспламенять и воодушевлять. Этого достаточно для болгарской девушки.
Огнянов умолк, но после короткого раздумья продол жал:
— Послушай, Рада, а не отправиться ли тебе в Клисуру, погостить у госпожи Муратлийской? Она теперь живет в Клисуре. Я это устрою… Там, конечно, тоже небезопасно… но, по крайней мере, ты вырвешься из сети здешних интриг.
— Я готова жить где угодно, лишь бы видеться с тобой…
— Я теперь веду агитацию как раз в той местности, и скрываться мне удобней там. В Бяла-Черкву же я вернусь лишь для того, чтобы поднять восстание… До этого дня, Рада, мы сможем видеться, а потом – бог ведает, кто выйдет живым из этой борьбы. Она будет ожесточенной, кровавой. Только бы благословил господь наше оружие, только бы наша родина, наша истерзанная родина, пусть и окровавленная в борьбе, возродилась к свободной жизни, – я с радостью приму смерть за нее!.. Об одном лишь я скорблю – о том, что смерть разлучит меня с тобой… Ведь я люблю тебя беспредельно, дитя мое милое; ты владеешь моим сердцем, оно – твое… но жизнь моя принадлежит Болгарии… И я умру с сознанием, что хоть одна душа на земле пожалеет обо мне и прольет слезы над моей безвестной могилой.
Лицо у Бойчо омрачилось.
Рада, волнуясь, стиснула его руку.
— Бойчо, но ты будешь жить, господь сохранит такого героя для Болгарии; и тебя ждет слава, Бойчо… о, как я буду счастлива тогда!
Бойчо с сомнением покачал головой.
— Эх, ангел мой… – начал он, по, спохватившись, умолк и, стиснув руки девушки, продолжал: – Рада, что бы со мной ни случилось, я хочу, чтобы совесть моя была спокойна… Быть может, я погибну, я предчувствую это…
— Не говори так, Бойчо!
— Слушай, Рада! Очень возможно, что я погибну, – ведь я иду навстречу смерти; но я хочу быть хоть мало-мальски спокойным за тебя. Ты связала свою судьбу со мной, осужденным, отверженным; своей любовью ты сделала меня счастливейшим человеком в мире, ты ради меня пожертвовала тем, что дороже самой жизни, – пожертвовала своей честью, и за это свет покарал тебя жестоко; ты всем пренебрегла ради меня! И если мне суждено умереть, я хочу уйти из жизни с сознанием, что ты осталась если не счастливой, то, по крайней мере, честной женщиной перед богом и людьми… Я хочу, Рада, чтобы ты носила мое имя, имя Огнянова, – оно ничем бесчестным не запятнано. Когда ты приедешь в Клисуру, я приглашу священника обвенчать и благословить нас и там уж позабочусь о твоем обеспечении. Отец мой – состоятельный человек и любит меня… Он исполнит последнюю волю своего единственного сына… Я бы сделал все это здесь, но сейчас это невозможно. Однако мы можем сами сделать кое-что… У меня нет кольца, Рада, чтобы подарить тебе, – ни золотого, ни железного… То железо, что я ношу с собой, предназначено для врагов. Но нам и не нужно обручальных колец, – над нами господь, великий праведный бог Болгарии, бог всех попираемых и сокрушенных сердец, бог всего страждущего человечества. Он все видит, все слышит. – И, взяв девушку за руку, Огнянов преклонил колени. – Поклянемся перед лицом его! Он благословит наш честный союз.
Девушка тоже упала на колени.
Они прошептали какие-то слова, и услышал их один лишь всевышний.







