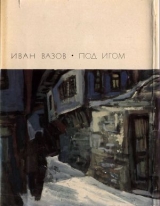
Текст книги "Под игом"
Автор книги: Иван Вазов
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 34 страниц)
V. Ночь продолжается
Доктор Соколов постучал в ворота своего дома. Старуха хозяйка открыла ему, и он вошел, бросив скороговоркой:
— Что делает Клеопатра?
— О тебе спрашивала, – ответила старуха, улыбаясь.
Доктор пересек продолговатый двор и вошел в свою комнату. Просторная, почти без мебели, с большим камином и вделанными в стену шкафами, она служила ему и кабинетом, и аптекой, и спальней. На полочке были расставлены все его лекарства, на столике стояла ступка и валялось несколько медицинских книг; среди них лежал револьвер. Над кроватью висели двустволка и ягдташ. Стены были украшены только портретом черногорского князя Николы [25]25
Князь Черногории Николай I Негош, правивший страной с 1860 по 1918 г.
[Закрыть]и висевшей под ним фотографией какой-то актрисы. В комнате было неубрано, тихо, пусто; все говорило о том, что в ней живет беспечный холостяк. Полуоткрытая дверца вела в чулан.
В этом чулане три года назад ночевал покойный Левский Доктор, небрежно скинув фес и пиджак, подошел к чулану и, хлопнув в ладоши, крикнул:
— Клеопатра! Клеопатра! Никто не ответил.
— Клеопатра, выходи, голубушка! Из-за дверцы послышался рев.
Доктор сел на стул посреди комнаты и позвал:
— Сюда, Клеопатра!
Из чулана вышел медведь, точнее – молодая медведица.
Она подошла к доктору, шаркая огромными лапами по полу и радостно урча. Потом поднялась на задние лапы, положив передние на колени хозяина, и раскрыла широкую пасть с белыми острыми зубами. Медведица ласкалась к доктору, как собачонка. Он погладил ее по пушистой голове и не отнял руку когда Клеопатра облизала ее и легонько захватила зубами.
Эта медведица, пойманная на Средна-горе еще совсем маленьким зверенышем, была подарена Соколову одним крестьянином-охотником, сына которого он вылечил от опасной болезни Доктор привязался к медвежонку и ничего не жалел, чтобы его вырастить. Под нежной опекой Соколова Клеопатра благополучно росла, усваивала уроки гимнастики, и ее любовь к хозяину крепла с каждым днем.
Клеопатра уже научилась плясать медвежью польку, прислуживать и подавать доктору шапку. Она, как собака, сторожила комнату, хотя это было, что называется, «медвежьей услугой», так как ее присутствие в доме отпугивало больных. Впрочем, доктор об этом не очень беспокоился.
В разгаре пляски Клеопатра так ревела, что весь околоток знал, когда она танцует. Тогда и весельчак Соколов пускался с нею в пляс.
В этот вечер доктор чувствовал особенное расположение к «деликатной» Клеопатре. Он подал ей кусок мяса прямо с руки.
— Кушай, моя голубушка. «Голодному медведю не до пляски», говорят старые люди, а я хочу, чтобы ты сейчас поплясала для меня, как танцуют принцессы.
Медведица, должно быть, поняла эти слова и заревела Это означало: «Я готова!» Доктор схватил поднос и принялся бить в него, распевая веселую песню:
Свет Димитра, белокурая красотка,
Ты скажи-ка своей матери, Димитра:
«Не рожай мне, мать, сестер и братьев!..»
Воодушевившись, Клеопатра встала на задние лапы и пустилась в пляс, не переставая реветь. Но вдруг она бросилась к окну и яростно зарычала. Доктор с удивлением увидел, что во двор вошли какие-то люди.
Он сразу же схватил свой револьвер.
— Кто там? – громко спросил он и толкнул Клеопатру, чтобы она умолкла.
— Доктор, пожалуйте в конак! – крикнули в ответ со двора.
— Это ты, Шериф-ага? За каким чертом меня туда вызывают? Кто-нибудь заболел?
— Сначала запри медведя.
Доктор сделал знак рукой Клеопатре, и медведица, недовольно урча, ушла в чулан. Доктор прикрыл за ней дверцу.
— Нам приказано отвести тебя в конак. Ты арестован, – проговорил онбаши строгим голосом.
— Почему арестован? Кто меня арестовал?
— Там все узнаешь. Иди с нами.
И полицейские увели доктора, смущенного, растерянного, охваченного предчувствием беды.
Выходя из ворот, он услышал душераздирающий рев Клеопатры, – она плакала, как дитя.
В конаке была суматоха. Доктора отвели к бею.
Бей сидел на своем обычном месте, в углу. Рядом с ним расположился Кириак Стефчов; он читал какие-то бумаги, в которые заглядывал и Нечо Пиронков – член совета конака. [26]26
Совет конака – совет при турецкой городской администрации, в состав которого включались известные своей преданностью султанскому режиму представители местной болгарской буржуазии.
[Закрыть]
Бей – шестидесятилетний старик – нахмурился при виде доктора, но все-таки предложил ему сесть. Подобную тактику турки иногда применяли по отношению к обвиняемым, чтобы расположить их к признаниям. К тому же Соколов был домашним врачом бея, и старик его любил.
Доктор внимательно осмотрелся и с удивлением увидел на диване свою куртку, ту самую, которую он подарил Краличу. Это сразу пролило свет на все его недоумения.
— Скажи, доктор, это твоя куртка? – спросил бей. Соколов не хотел да и не мог отрицать этого и ответил утвердительно.
— А почему она не у тебя?
— Я вчера подарил ее одному бедняку.
— Где же это было?
— На Хаджи-Шадовой улице.
— В котором часу?
— В два часа по турецкому времени.
— Ты знаком с этим человеком?
— Нет, но мне стало жаль его. Он был в лохмотьях.
— Как врет, несчастный! – проговорил Нечо презрительно.
— Чего ты хочешь, Нечо? – прошептал его сосед. – Утопающий хватается и за соломинку.
Бей лукаво усмехнулся – мол, стреляного воробья на мякине не проведешь. Он не сомневался, что куртка была снята с плеч самого доктора. Так показывали и стражники.
— Кириак-эфенди, подай то, что нашли в куртке… А это тебе знакомо?
Доктору предъявили номер газеты «Независимость» [27]27
«Независимость» – газета, издававшаяся Любеном Каравеловым в 1873–1874 г.г. в Бухаресте и фактически бывшая органом Центрального революционного комитета, объединявшего вокруг себя болгарских революционных демократов.
[Закрыть]и печатную крамольную листовку. Он сказал, что никогда их не видел.
— Кто же положил их тебе в карман?
— Я уже вам сказал, что подарил свою куртку незнакомому человеку; может, это он их туда положил.
Бей опять усмехнулся. Доктор почувствовал, что дело принимает плохой оборот: его обвиняли по меньшей мере в сношениях с бунтовщиками.
Так вот кто он такой, этот вчерашний незнакомец! Если бы доктор узнал это вовремя, он спас бы от беды и его и себя.
— Позовите раненого Османа! – приказал бей.
Вошел полицейский, рука которого была забинтована выше локтя. Это был тот, что сорвал куртку с плеч Кралича, и в этот момент в него попала пуля, пущенная другим полицейским. Но Осман – то ли по ошибке, то ли по злому умыслу – утверждал, что его ранил бежавший мятежник.
Осман подошел к доктору.
— Это он и есть, эфенди, – проговорил он.
— Ты с него сорвал куртку? Узнаешь его?
— Он в меня и пулю пустил на Петканчовой улице. Доктор смотрел на полицейского, ошеломленный. Тяжкое да к тому же и ложное обвинение вызвало в нем бурю негодования.
— Полицейский врет без зазрения совести! – крикнул он.
— Выйди, Осман-ага!.. Ну, как, – снова обратился к Соколову бей, и лицо его стало серьезным, – ты отрицаешь все это?
— Ложь и клевета! Я никогда не ношу револьвера, а по Петканчовой улице вчера даже и не проходил.
Онбаши поднес к свече и осмотрел револьвер, взятый во время ареста доктора с его стола, и проговорил многозначительным тоном:
— Четыре пули… а пятую он выпустил.
Бей столь же многозначительно кивнул головой.
— Ошибаетесь! Вчера вечером я не брал с собой револьвера.
— А где ты был вчера вечером, когда все это произошло, – часа в три по турецкому времени?
Для Соколова этот неожиданный вопрос прозвучал как гром среди ясного неба. Доктор густо покраснел от смущения, но ответил уверенным тоном:
— В три часа я был у Марко Иванова – у него ребенок болен.
— Ты пришел к чорбаджи Марко в четыре часа без малого; мы тогда только что вышли от него, – возразил онбаши, встретившийся с доктором у дома Марко.
Доктор молчал, подавленный. Обстоятельства сложились против него. Он чувствовал, что запутывается.
— Лучше ответь нам чистосердечно: где ты был после того, как отдал свою куртку на Хаджи-Шадовой улице, и перед тем, как зашел к чорбаджи Марко? – спросил бей.
Прямой вопрос требовал столь же прямого ответа. Но доктор Соколов молчал. Он не умел скрывать своих чувств, и мучительная внутренняя борьба исказила его черты.
Это смущение, это молчание были красноречивее исповеди. Они дополнили улики, собранные против него. Бей не сомневался в виновности доктора, но все-таки спросил его еще раз:
— Скажи, где ты был в это время?
— Не могу сказать, – тихо, но решительно ответил доктор. Этот ответ поразил всех присутствующих. Нечо, советник, иронически подмигнул Стефчову, как бы желая сказать: «Попался в ловушку, несчастный!»
— Отвечай! Где ты был тогда?
– Этого я никак не могу сказать… Это тайна, и моя совесть – и лекарская и просто человеческая – не позволяет мне открыть ее. Но на Петканчовой улице я не был!
Бей настоятельно требовал ответа и грозил доктору, что молчание приведет к тяжелым для него последствиям. Но доктор уже смотрел спокойно, как человек, сказавший все, что он считал нужным.
— Так ты не хочешь отвечать?
— Я все сказал.
— В таком случае ты этой ночью будешь нашим гостем. – Отведите его в тюрьму! — приказал бей строгим тоном.
Доктор вышел растерянный, ошарашенный всеми этими обвинениями; опровергнуть их было не в его власти, потому что как он сам признался, он ни в коем случае не мог сказать, где он был вчера вечером.
VI. Письмо
Марко спал плохо. События этой ночи отняли у него душевный покой. Он встал раньше обычного и отправился в кофейню Ганко выпить кофе. Ганко только что открыл свое заведение и разжигал печку. Марко был его первым посетителем.
Содержатели кофеен – словоохотливые люди, и Ганко, отпустив несколько острот, которые он неизменно повторял всем посетителям, подавая кофе, поспешил сообщить Марко о происшествии с доктором на Петканчовой улице и о том, к каким последствиям оно привело. Все это Ганко рассказывал с большим воодушевлением, сдабривая свою повесть множеством всяких нелепостей.
У людей с мелкой душой несчастья ближних обычно пробуждают три чувства: во-первых, удивление; во-вторых, внутреннее удовлетворение, – ведь беда свалилась не на их голову; и, в-третьих, скрытое злорадство. Эти темные чувства таятся в самых глубинах человеческой натуры. А у Ганко, кроме того, был зуб на доктора, который однажды потребовал списать с его счета стоимость двенадцати чашек кофе взамен гонорара за визит. Ганко не мог простить доктору этого неслыханного поступка.
Удивлению Марко не было границ. Ведь он вчера вечером разговаривал с доктором, но ни в его лице, ни в словах не заметил никаких следов пережитого волнения. Да Соколов и не стал бы скрывать от Марко такие вещи.
В кофейню вошел онбаши, и Марко воспользовался случаем расспросить у него, как было дело. Из разговора с онбаши Марко понял, что доктор стал жертвой заблуждения полиции, но Кралич ускользнул из ее когтей. Радость озарила его лицо.
— Я голову даю на отсечение, что доктор невиновен! – сказал он.
— Дай бог, – проговорил онбаши, – но не представляю себе, как он сможет оправдаться.
— Смог бы, да не успеет… замучают… Когда бей явится в конак?
— Через час. Он рано приходит.
— Отпустите доктора, я возьму его на поруки; заложу дом и детей, но возьму. Он не виновен ни в чем.
Онбаши посмотрел на него с удивлением.
— В поручителях нет надобности; его уже увели, – сказал он.
— Когда? Куда? – вскричал Марко.
— Ночью мы под конвоем отправили его пешком в К. Марко вспыхнул, не сумев скрыть своего негодования. Онбаши, уважавший Марко, проговорил дружелюбным, но наставительным тоном:
— А вам, чорбаджи Марко, лучше бы не вмешиваться в;>то грязное дело. Зачем это вам нужно? В теперешние времена никто ни за кого не может ручаться.
Допив кофе, онбаши продолжал:
— Через полчаса и я поеду в К. с письмом бея, к которому приложена крамольная литература, найденная у доктора. Если хотите знать, из-за нее-то вся каша и заварилась; это его и погубит… А все остальное… пустяки! Османа ранил не доктор, а кто-то из наших, по ошибке… Это по ране его видно… А впрочем, начальство разберется… Ганко, дай мне какую-нибудь ненужную бумагу, завернуть письмо, чтоб не измялось.
Он вытащил из-за пазухи большой конверт с красной печатью и завернул его в бумагу, взятую у содержателя кофейни. Выкурив еще одну папиросу, онбаши попрощался с Марко и ушел.
Глубоко задумавшись, Марко долго сидел, не двигаясь с места. Ганко, кофейня которого была в то же время и цирюльней, стоя спиной к Марко, принялся мыть голову другому посетителю – Петко Вазуняку.
Немного погодя Марко встал и вышел.
— В добрый час, дядюшка Марко! Что так скоро убегаешь? – крикнул ему вслед Ганко, покрывая голову клиента хлопьями белой мыльной пены. – За доктора волнуешься, что ли? Он сам виноват. Что посеешь, то и пожнешь. Ведь не забрали же они Петко Базуняка? Базуняк, что ты на это скажешь?
Клиент, весь покрытый мыльной пеной, пробурчал в ответ что-то невнятное.
Потрудившись еще, Ганко смыл остатки пены, вытер Базуняку голову и лицо полотенцем сомнительной чистоты и, подав ему надтреснутое зеркало, сказал:
– На здоровье!
Вынося на улицу грязную воду, Ганко столкнулся в дверях с Марко.
— Табакерку забыл, – объяснил Марко, быстро направляясь к лавке, на которой лежала его табакерка.
Тем временем Базуняк, оставив на зеркале монету, вышел из кофейни. Ганко вернулся.
— Слушай, Ганко, скажи пока что. сколько я тебе должен? – обратился к нему Марко. – Надо расплатиться. В конце месяца я ведь всегда рассчитываюсь с тобой.
Ганко показал пальцем на потолок, который был испещрен отметками, сделанными мелом.
— Вот тебе моя приходо-расходная книга, подсчитай и плати, – сказал он.
— Так здесь же нет моей фамилии!
— Я веду счета на французский манер.
— С такой бухгалтерией тебе скоро придется протянуть ноги, – пошутил Марко, вынимая кошелек. – Эге, смотри-ка, онбаши забыл свое письмо, – добавил он, показывая на полочку.
— И правда, его письмо! – вскрикнул удивленный Ганко и вопросительно посмотрел на Марко, словно ожидая, что тот скажет.
— Отошли ему это письмо, да поскорее, – проговорил Марко нахмурившись. – Вот тебе двадцать восемь грошей и один червонец, разорил меня совсем!
Ганко удивленно посмотрел на Марко.
— Странный человек этот Марко. – пробормотал он. – Дома своего не жалеет для медвежатника, а не догадается бросить письмо в огонь. Миг – и нет его…
Но тут вошли новые посетители и, быстро наполнив кофейню клубами дыма, занялись пересудами о несчастье, случившемся с доктором.
VII. Геройство
Солнце поднялось высоко, и лучи его проникли сквозь зеленые виноградные лозы, затенявшие монастырский двор. Ночью здесь в каждом углу мерещились привидения, и двор казался мрачным и жутким, но сейчас в нем было светло, тихо, покойно и весело. Певчие птицы оглашали его радостным чириканьем; прозрачные струи источника журчали мелодично и ласково; с гор веял утренний ветерок, шевеля ветви стройных кипарисов и тополей, и листва их нежно шелестела. Все здесь сейчас казалось каким-то ясным и праздничным. Сумрачные кельи и те смотрели приветливо, а в примыкавших к ним открытых галереях звонко щебетали ласточки, свившие здесь гнезда.
Посреди двора, под лозами, прогуливался величавый старец с белой бородой до пояса, облаченный в длинную фиолетовую рясу, и с непокрытой головой. Это был восьмидесятипятилетний отец Иеротей, величественный памятник минувшего века, уже почти развалина, но развалина еще импозантная и почитаемая. Тихо и мирно доживал он последние дни своей долгой жизни. Каждое утро он прогуливался по двору, дышал свежим горным воздухом и, как ребенок, радовался солнцу и небу, к которому уже держал путь.
Невдалеке, под виноградной лозой – словно для контраста с этим памятником прошлого – стоял с книгой в руках дьякон Викентий. (Он готовился ко вступительному экзамену в русскую семинарию.) Молодостью и надеждой веяло от юношеского лица дьякона, сила и жизнерадостность светились в его мечтательном взгляде. Этому юноше принадлежало будущее, и в будущее он смотрел с такой же верой, с какой старец обращал свои взоры к вечности.
Ничто так не способствует созерцанию, как тишина, царящая за монастырской оградой.
На каменных ступеньках, ведущих в церковь, сидел круглый, как шар, отец Гедеон, увлекшийся наблюдением за индюками, которые прогуливались по двору, распустив хвосты веером. Он мысленно сравнивал их с гордыми евангельскими фарисеями, а их клохтанье вызывало в его памяти образ мудрого царя Соломона, который понимал язык птиц. Углубившись в свои благочестивые размышления, отец Гедеон спокойно ожидал желанного звона к полуденной трапезе и, предвкушая ее, вдыхал приятные запахи кухни.
На пороге кухни, на самом солнцепеке, стоял косоглазый человек, приятель Мунчо. тоже юродивый, живший при монастыре. Он с не менее философским глубокомыслием наблюдал за индюками. Впрочем, слова «наблюдал за индюками» не совсем точны – юродивый видел не только индюшиное семейство, по и многое другое, так как один его глаз смотрел на восток, а другой – на запад.
Тут же стоял в Мунчо, ломая руки, вертя головой и со страхом поглядывая на галерею верхнего этажа. Почему она внушала ему страх, знал он один.
Других обитателей в монастыре не было, если не считать игумена, который сейчас был в отъезде, да нескольких батраков послушников.
Но игумен как раз вернулся – неожиданно для братии. Прискакав на коне, он спешился, бросил поводья косоглазому и хмуро проговорил, обращаясь к Викентию:
— Везу из города плохие вести.
И он во всех подробностях рассказал о том, как Соколов попал в беду.
— Бедный Соколов, – заключил он со вздохом.
Игумен Натанаил был крупный, сильный, подвижной чело век с мужественным лицом и густыми курчавыми волосами Если бы с него сняли рясу, в нем не осталось бы почти ничего монашеского. Он был меткий стрелок, и стены его кельи были увешаны ружьями; он умел лечить огнестрельные раны, умел и наносить их, а ругался артистически. Ему бы не игуменом быть, а воеводой [28]28
Воевода – руководитель повстанческого движения, командир повстанческого отряда.
[Закрыть]на Балканах. Поговаривали, впрочем, что когда-то он действительно был воеводой, но потом ушел в монастырь на покаяние…
— Где отец Гедеон? – спросил игумен, осматриваясь.
— Вот я! – крикнул визгливым голосом отец Гедеон, появляясь на пороге кухни. Он ходил узнать, скоро ли будет готов обед.
— Опять залез на кухню, отец Гедеон! Или не знаешь, что чревоугодие смертный грех?
И Натанаил приказал монаху оседлать осла, съездить в деревню Войнягово и обойти косцов, косивших монастырские луга.
Отец Гедеон был приземист, тучен, пузат, а лицо у него лоснилось, как бурдюк с кунжутным маслом. Те несколько шагов, которые он сделал, чтобы подойти к игумену, вызвали обильный пот на его лице. Он стоял, сложив руки на животе и ему явно не хотелось совершать путешествия по грешному миру.
— Отче игумен, — задыхаясь, проговорил умоляющим голосом отец Гедеон, – отче игумен, не лучше ли избавить вашего покорного брата от этой горькой чаши?
И отец Гедеон низко поклонился.
— Что это еще за горькая чаша? Разве я тебя посылаю пешком? Поедешь верхом на осле; и весь-то труд – одной рукой держать поводья, а другой благословлять, когда будешь проезжать по деревням.
И Натанаил бросил на монаха насмешливый взгляд.
— Отец Натанаил, не о труде толк; ради труда и подвижнической жизни мы и спасаемся в этой святой обители, но не время теперь разъезжать.
— Почему не время? Погода плоха, что ли? В мае месяце полезно прокатиться, – здоровей будешь.
— Времена, отче, времена-то какие! – с жаром воскликнул отец Гедеон. – Сами видите – доктора связали вервием, и, может статься, христианин дойдет до погибели. Агаряне [29]29
Агаряне – то есть мусульмане, считавшиеся потомками Агари, жены библейского пророка Авраама.
[Закрыть]род жестокосердый… А если, упаси бог, на меня наклепают, что я, дескать, народ бунтую, тогда и монастырь пострадает!.. Опасность великая.
Игумен громко расхохотался.
— Ха-ха-ха!.. – неудержимо хохотал он, хватаясь за бока и глядя на тучного отца Гедеона. – Так ты думаешь, турки могут тебя заподозрить? Выходит, отец Гедеон у нас политический деятель! Ха-ха-ха!.. Недаром говорят: заставь лентяя работать, он и тебя научит, как от работы отлынивать! Грешно тебе: рассмешил меня, когда на сердце такое горе. Дьякон Викентий! Дьякон Викентий! Иди сюда, послушай, что говорит Гедеон… Мунчо, ступай позови Викентия, не то я умру от смеха.
И действительно, игумен хохотал так громко и раскатисто, что пробудил эхо во всех соседних галереях.
Выслушав приказание игумена, Мунчо пуще прежнего за вертел головой, и в его выпученных глазах появилось выражение тупого страха.
— Русс-и-я-н! – крикнул он, весь дрожа и показывая паль цем на галерею, на которую незадолго до того поднялся дьякон.
И тут же, опасаясь, как бы его не заставили выполнить приказание, быстро зашагал в противоположную сторону.
— Руссиян? – удивился игумен. – Какой такой «руссиян»?
— Злой дух, ваше преподобие. – пояснил отец Гедеон.
— С каких это пор Мунчо стал таким пугливым? До сих пор он жил, как филин в лесной чаще…
— Воистину, отче Натанаил, некий дух ночной бродит по галереям… Нынче ночью Мунчо прибежал ко мне сам по свой от страха. Говорил, будто видел злого духа в белом одеянии, когда тот вышел из кельи, — той, где окошко застеклено… И еще рассказывал разные разности, прости ему господи! Надо бы окропить святой водой верхнюю галерею.
Мунчо, остановившись в отдалении, со страхом смотрел вверх.
– Что же он видел? – спросил игумен. – Впрочем, пойдем, отче, посмотрим сами, – решил он вдруг, заподозрив, что в келью забрались воры.
– Сохрани боже! – проговорил Гедеон, крестясь. Игумен один отправился на галерею.
Надо сказать, что как раз в ту минуту, когда игумен позвал Викентия, тот входил к Краличу.
— Что нового, отче? – спросил Кралич, заметив, что Ви кентий чем-то встревожен.
— Опасности никакой нет, – поспешил успокоить его дьякон. – Но игумен привез очень неприятную весть: сегодня ночью забрали Соколова и отправили его в К.
— Кто он такой, этот Соколов?
— Доктор, живет в нашем городе, хороший малый. У него в кармане будто бы нашли крамольные листовки… Может, и правда? Я лично знаю одно: он пламенный патриот, – проговорил дьякон и, видимо озабоченный, умолк, но вскоре продолжал: – Еще, говорят, когда вчера за ним погнались стражники, он выстрелил из пистолета и ранил полицейского, а тот сорвал с него куртку… Пропадет бедный доктор… Слава богу, что вам удалось от них ускользнуть… и что в городе о вас вообще ничего не слышно.
Не успел дьякон произнести эти слова, как его собеседник схватился руками за голову и, болезненно охая, заметался по комнате, как безумный. Казалось, его охватило безнадежное отчаяние. Ничего не понимая, дьякон удивленно смотрел на Кралича.
— Что с тобой, душа моя? Ведь, слава богу, тебе ничто не угрожает! – воскликнул Викентий.
Кралич остановился перед ним, – лицо его было искажено душевной мукой, – и крикнул страстно:
— Не угрожает, говоришь? Легко сказать! – И он ударил себя по лбу. – Что смотришь, Викентий? Не понимаешь? Ах, боже мой, я забыл тебе сказать, что эта куртка была на мне. Вчера в городе какой-то любезный молодой человек показал мне, как пройти к Марко, и подарил мне свою куртку, – ведь я был в лохмотьях. Видно, это и был Соколов. Потом эта куртка попала в руки стражника… В ее карман я переложил из рваного кармана своего пиджака газету «Независимость» и листовку, которую мне дали в одной троянской хижине, когда я там ночевал… Мало того, его еще обвинили в том, что он стрелял в полицейского, а я даже не дотрагивался до револьвера! Ах, проклятые! Теперь понимаешь? Этот человек пострадал из-за меня… Я проклят судьбой, – приношу несчастье тем, кто мне делает добро.
— Да, плохо дело, – горестно проговорил Викентий. – А самое грустное, что ему не поможешь… так уж все сошлось.
Кралич повернулся к нему; лицо его пылало.
— Как это не поможешь? Да разве я допущу, чтобы такой великодушный человек и, как ты сам сказал, хороший патриот погиб из-за меня? Это было бы подлостью!
Дьякон молча смотрел на него.
— Нет, сложу голову, но спасу его!
— Но что же можно сделать? Скажи! Я готов на все! – воскликнул Викентий.
— Я сам его спасу.
— Ты?
— Да, я. Я его спасу… Один я должен и один я могу спасти его! – крикнул в исступлении Кралич и снова заметался по келье; лицо его отражало непоколебимую решимость и отвагу.
— Ты что же, хочешь, чтобы мы напали на тюрьму? Викентий смотрел на него изумленный и даже немного испуганный. «Уж не сошел ли он с ума?» – подумал дьякон.
— Как же ты собираешься спасти доктора? – спросил он.
— Ты не догадываешься?
— Нет.
— Пойду и отдамся в руки властей.
— Как? Сам пойдешь и отдашься?
— А что ж, просить других отвести меня? Послушай, Викентий, я честный человек и не хочу покупать себе жизнь ценой чужих страданий. Не за тем я шел сюда чуть не месяц, чтобы сделать подлость. Если я не могу отдать свою жизнь со славой, то могу пожертвовать ею честно… Понял? Если я сегодня же не отдамся в руки турецких властей и не скажу: «Соколов не виновен; я с ним не знаком; куртку сняли с меня, и листовки мои; опасный человек – я, во всем виноват я. и даже в стражника стрелял я, делайте со мной, что хотите», если я так не скажу, доктор Соколов пропал, особенно раз он не мог или не хотел оправдываться… Скажи, разве есть другой выход?
Дьякон молчал. В глубине своей честной души он понимал, что Кралич прав. Чувство справедливости и человечности требовало от него, чтобы он пожертвовал собой, не дожидаясь, пока ему об этом напомнят. Теперь этот человек казался Викентию еще более достойным и обаятельным, чем раньше. Лицо Кралича светилось тем благородным, ясным, как бы неземным светом, каким озаряет человеческое лицо только истинная доблесть. Правдивые, страстные, проникновенные слова Кралича наполнили сердце Викентия каким-то сладостным торжеством. Дьякону хотелось быть на месте Кралича: тогда он сам сказал бы такие слова и выполнил бы свой долг. Он был так растроган, что глаза его затуманились от слез.
— Покажи мне дорогу в К., – попросил Кралич.
В эту минуту за окном появилась большая косматая голова игумена – в пылу разговора молодые люди не услышали его шагов. Кралич вздрогнул и вопросительно посмотрел на дьякона.
Дьякон выскочил за дверь, отошел с игуменом к перилам галереи и долго с жаром говорил ему что-то, размахивая руками и то и дело поглядывая на окно кельи, в которой его нетерпеливо ждал волновавшийся Кралич.
Когда дверь наконец открылась и в келью вошли Викентий и Натанаил, Кралич шагнул навстречу игумену и нагнулся, чтобы приложиться к его руке.
— Не надо, не целуй, недостоин я этого! – воскликнул игумен, прослезившись, и, обняв Кралича, горячо поцеловал его, как отец сына после долгой разлуки.







