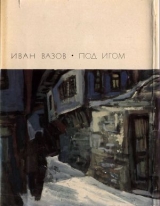
Текст книги "Под игом"
Автор книги: Иван Вазов
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 10 (всего у книги 34 страниц)
XIX. Отклики
Снова наступила тишина. Присутствие Стефчова стесняло завсегдатаев кофейни. Он сел, поздоровался кое с кем и с торжествующим видом стал прислушиваться… Стефчов полагал, что прерванный разговор касался неких пасквилей на Огнянова и Соколова, во множестве разбросанных всюду в прошлую ночь. Но никто и не заикнулся об этом, то ли потому, что о пасквилях ничего не знали, то ли потому, что отнеслись к ним с презрением.
Рассерженный Мичо ушел. За ним еще несколько человек вышли из кофейни.
В это время вошли двое новых посетителей. Это были Огня нов и Соколов. Как только они сели. Хаджи Смион обратился к первому:
– Граф, не покажешь ли к рождеству еще какую-нибудь комедию?
– «Геновева» – не комедия, а трагедия, – поправил его господин Фратю. – Комедией называется смешной спектакль, а трагедией – спектакль, в котором есть трагические, душещипательные сцены… Пьеса, которую мы сыграли, – это трагедия… Моя роль была трагической ролью… – объяснял многознающий господин Фратю.
– Знаю, знаю, сколько я их насмотрелся в Бухаресте! А как хорошо ты сыграл сумасшедшего! Не сглазить бы тебя, Фратю, но я все-таки скажу: ты был совсем сумасшедшим… Очень тебе помогли волосы, – похвалил его Хаджи Смион.
В разговор вмешался Иванчо Йота, который только что вошел.
– Не о театре ли речь ведете? – спросил он. – Я в прошлом году был в театре в К., когда играли… не помню что… ах, да – «Ивана-разбойника».
– «Иванко-убийцу» [70]70
«Иванко-убийца» – известная историко-патриотическая драма «Иванко, убийца царя Асена» (1872) болгарского писателя Васила Друмева.
[Закрыть], – поправил его господин Фратю.
– Ну да, убийцу… Только наша пьеса лучше кончается… Моя Лала всю ночь бредила. Кричит: «Голос! Голос!» – словно какая припадочная, а сама вся дрожит от страха.
Весьма польщенный, господин Фратю горделивым взглядом окинул компанию.
– Да, да, я потому и прошу Графа снова показать нам ко медию… Вот будет хорошо, ей-богу!.. Только песню пускай споют другую, – начал было Хаджи Смион, но вдруг спохватился, что косвенно порицает песню, спетую после спектакля, и в смущении принялся шарить у себя по карманам.
– «Геновева» – не комедия, а трагедия, – повторил господин Фратю строгим тоном.
– Да, да, трагедия… одним словом – театр.
– Ну нет, это была комедия: она вызывала смех, – откликнулся из своего угла Стефчов с ехидной усмешкой.
Огнянов, прервав свою беседу с Соколовым, проговорил:
– Боюсь, Хаджи, как бы меня опять не осрамили… Стефчов не отрывал глаз от газеты, которую держал в руках.
– Кто тебя осрамит? Никто не может тебя осрамить! – пробурчал дед Нистор. – Покажи нам опять «Геновеву» – дети только о ней и говорят. В тот день паша Пенка лежала больная, а теперь только и твердит: «Папа, хочу «Геновеву», «Геновеву» хочу!»
– Хорошо, дед Нистор: да боюсь, не освистали бы меня, – проговорил Огнянов, бросив быстрый взгляд на Стефчова, – ведь это неприятно.
– Особенно, когда свист исходит из навозной кучи, – язвительно добавил Соколов.
Чуть не задохнувшись от злости, Стефчов побагровел, но не решился отложить газету. Он боялся Огнянова и под его презрительным взглядом чувствовал себя очень нехорошо. А глаза Огнянова загорелись угрожающим огнем.
– И я тебя поддержу, дед Нистор, – сказал Чоно Дойчинов, – я тоже хочу посмотреть «Геновеву»… Только Голоса пускай играет Кириак, эта роль больше ему под стать; Фратю, тот хоть и хвастунишка, а божий человек; напрасно его люди ругали.
Стефчов покраснел до ушей от этого простодушного, но ядовитого комплимента, который задел и господина Фратю.
Огнянов и Соколов невольно улыбнулись. Улыбнулся и Хаджи Смион, хоть и сам не знал почему.
Подняв глаза, Стефчов раздраженно посмотрел на Огнянова и Соколова.
– Да, я надеюсь, что Огнянов из Лозенграда скоро покажет нам и трагедию, – сказал он, стараясь говорить спокойно, хотя голос его дрожал от злости. – Он может быть уве рен, что на этот раз никто не будет смеяться – и меньше всего он сам.
Стефчов сделал ударение на слове Лозенград. (Огнянов говорил, что родился в этом городе). Заметив это, Огнянов немного изменился в лице, но отозвался спокойно:
– Когда за кулисами находятся такие опытные манипуляторы, я хочу сказать – шпионы, как Стефчов, не мудрено, если все превращается в трагедию.
И он презрительно посмотрел на Стефчова. Соколов дернул товарища за рукав.
– Не трогай его, а то вонь еще хуже будет, – прошептал он.
– Терпеть не могу подлецов! – проговорил Бойчо достаточно громко, чтобы его услышал Стефчов.
И в эту минуту он увидел, что у открытой двери кофейни стоит Мунчо. Дурачок уставился на Огнянова и дружески улыбался ему, кивая головой. Сейчас лицо у юродивого было необычайно кротким, добрым и счастливым. Бойчо и раньше замечал, что Мунчо всегда смотрит на него пристально и с любовью, но не мог понять, чем объясняется столь сильная привязанность. Сейчас, когда их взгляды встретились, лицо Мунчо расплылось в еще более блаженной улыбке, а глаза заблестели от необъяснимого и бессмысленного восторга. Он вошел в кофейню, не спуская глаз с Огнянова, и, улыбаясь во весь рот, крикнул протяжно:
– Русс-и-ан!.. – и несколько раз провел пальцем по шее, показывая, как отрезают голову.
Все посмотрели на него с удивлением.
Удивлен был и Огнянов, хотя Мунчо не впервые делал ему такие знаки.
– Граф, что тебе сказал Мунчо? – посыпались вопросы.
– Не знаю, – ответил Огнянов, улыбаясь, – он меня очень любит.
Мунчо, как видно, заметил общее недоумение и, чтобы лучше объяснить, почему он восхищается Огняновым, окинул все общество торжествующе-тупым взглядом и, показав пальцем на Огнянова, крикнул еще громче:
– Русс-и-ан!.. – Потом махнул рукой куда-то в сторону севера и стал еще усерднее пилить себе горло указательным пальцем.
Этот жест, повторенный дважды, привел в смущение Огнянова. Он заподозрил, что произошла роковая случайность, и Мунчо каким-то образом узнал о происшествии на мельнице деда Стояна, а может быть, и видел его. Волнуясь, Огнянов взглянул на Стефчова, но быстро успокоился, заметив, что тот отвернулся и шушукается с соседом, не обращая внимания на Мунчо.
Вскоре Стефчов встал, отпихнул Мунчо от двери и вышел, бросив на Огнянова злой и мстительный взгляд.
Он весь кипел от злости. Столько раз уже Огнянов задевал его самолюбие, но отомстить ему никак не удавалось. Стефчову не терпелось отплатить врагу, но, опасаясь открытой борьбы с Бойчо, он действовал исподтишка. Пение революционной песни на спектакле дало ему в руки оружие против Огнянова, но, как мы уже видели, и на этот раз коса нашла на камень. Бей не мог допустить, чтобы Огнянов решился петь революционную песню в присутствии начальства, и потому не поверил Стефчову. А тот решил, что настаивать неблагоразумно. Зато Стефчов разнюхал кое-что другое: три дня назад он был в К. и там случайно узнал от одного лозенградца, что никаких Бойчо и никаких Огоняновых в Лозенграде никогда не было. Стефчов увидел в этом нить, способную привести его к новым открытиям. Судя по всему, под именем Бойчо Огнянов скрывается кто-то другой, и скрываться у него есть причины. Он водит дружбу с доктором Соколовым, чьи мятежные настроения уже давно не секрет. Этих двух людей, вероятно, что-то связывает, но что именно? Нет, тут дело нечисто, это ясно… Так, переходя от одного предположения к другому, Стефчов инстинктивно почувствовал, что Огнянов имеет отношение и к таинственному происшествию на Петканчовой улице, которое до сих пор казалось какой-то мистификацией. Огнянов приехал в Бяла-Черкву как раз тогда, и тогда же тут началось брожение умов, которому сам он, однако, по-видимому, остался чужд. Решив разгадать эту загадку, Кириак взялся за дело со всем упорством и страстностью, с какими способна ненавидеть злая и завистливая душа… Новые роковые обстоятельства пришли ему на помощь в его тайной борьбе против Огнянова.
XX. Тревоги
Тучи сгущались над головой Огнянова. Но он ни о чем почти не подозревал. Всегда уверенный в себе, он после шести месяцев спокойной жизни в Бяла-Черкве сделался совершенно беззаботным человеком. Дела поглощали его целиком, и ему было просто некогда думать о таких пустяках, как личная безопасность. Из всех человеческих чувств страх был наиболее чужд его душе. Нельзя также забывать о той светлой призме, сквозь которую он смотрел на мир, – о его любви к Раде.
Впрочем, сейчас Огнянову стало немного не по себе, и, выйдя из кофейни, он спросил доктора:
– Как ты думаешь, за угрозами Стефчова скрывается что-нибудь серьезное?
– У Стефчова на тебя зуб, и он такой негодяй, что давно уже подложил бы тебе свинью, если б мог. Он не ограничился бы одними разговорами.
– А этот Мунчо? Что означают его выходки? Все это начинает меня бесить. доктор засмеялся.
– Брось! Ну что с него взять?
– Да, конечно, все это чепуха; но Стефчов, Стефчов… уж н е разузнал ли он что-нибудь?
– Что он может узнать? Скорей всего это Хаджи Ровоама наплела ему про нас. Сам знаешь, сплетница и часа не может прожить без вздорных измышлений.
– Так-то так, но она опасная ведьма и способна нюхом учуять то, что другому надо увидеть воочию или услышать своими ушами. Стефчова она науськивает, а Раду тиранит…
– Помнишь, какой она распустила слух? Болтала, будто ты шпион! Говорю тебе, все это вздор.
– Но о тебе она говорила другое – правду говорила… Впрочем, надо признать, что бабьи сплетни – это больше но ее части… Да, ты знаешь, завтра Стефчов засылает сватов…
Доктор изменился в лице.
– К Лалке?
– Да.
– Как ты узнал?
– Мне Рада сказала… Разумеется, это дело рук Хаджи Ровоамы. Сватами будут Хаджи Смион, этот вездесущий хамелеон, и Алафранга.
Доктор не мог с крыть своего волнения. Он зашагал еще быстрее. Огнянов удивленно посмотрел на него.
– Доктор, а ты мне не говорил, что сердце твое несвободно.
– Я люблю Лалку, – хмуро отозвался Соколов.
– Она это знает?
– И она меня любит… или, вернее, я нравлюсь ей больше, чем Стефчов. Не думаю, чтоб ее чувство было очень глубоким.
И доктор невольно покраснел.
– К твоему счастью или несчастью, оно глубже, чем ты думаешь, это я точно знаю, – сказал Огнянов, участливо глядя на друга.
– Откуда ты знаешь? – спросил доктор.
– Слышал от Рады: ведь они подруги. Лалка раскрывает ей всю душу. Ты не представляешь себе, сколько слез она пролила, когда тебя увезли в К., и как радовалась, когда ты освободился. Рада все это видела.
– Она – невинное дитя, – глухо проговорил доктор, – она умрет, если ее отдадут за этого…
– Почему же ты не сватался к ней до сих пор? – участливо спросил Огнянов.
Доктор удивленно посмотрел на него.
– Разве ты не знаешь, что ее отец видеть меня не хочет?
– Тогда укради ее!
– Теперь? Когда мы готовимся к восстанию? Быть может, оно вспыхнет только через два года, но, может быть, и завтра, кто знает. В такие неспокойные времена я и думать не могу о женитьбе… К тому же грех навлекать беду на голову девушки.
– Что правда, то правда, – задумчиво проговорил Огнянов, – потому то и я не женюсь на Раде, хотя мог бы этим избавить бедную сироту от многих тяжких горестей и дать ей счастье… Какое у нее сердце, у этой прелестной девушки!.. Но она убивает себя, бедняжка, связывая свою судьбу с моей.
И лицо Огнянова омрачилось.
Доктор не мог отдать себе вполне ясный отчет в своих чувствах к Лалке. Он сказал, что не решается свататься к ней в это беспокойное время, но это было не совсем верно. Истинная любовь не боится опасностей и не знает преград. Правда, он испытывал нечто похожее на любовь к дочке Юрдана, но пока это было лишь слабое чувство, – не страсть, а расположение, возникшее случайно и не пустившее еще глубоких корней. Человек темпераментный, ведущий рассеянную, веселую жизнь, доктор не был способен горячо привязаться к кому-нибудь одному. Его сердце было поделено между женой бея, – если, конечно, верить молве, – Клеопатрой, Лалкой, революцией и кто знает чем еще. Но сейчас, когда он узнал от Огнянова о чувстве Лалки, сладостно и сильно польстившем его самолюбию, и о грозившей ей беде, сердце его неожиданно сжалось от боли. Ему показалось, что он всегда был влюблен в Лалку и не в силах жить без нее. То ли в нем пробудился эгоизм, – а это Чувство глубоко укоренилось в человеческой натуре, – то ли вспыхнула искренняя и пламенная страсть, но так или иначе он был совершенно подавлен мыслью, что Лалка навсегда потеряна для него. Нельзя ли как-нибудь оттянуть помолвку? Устранить соперника? Спасти Лалку? Эти вопросы можно было без труда прочитать на помрачневшем лице Соколова.
Огнянов понял все. Страдания доктора и судьба Лалки возбудили в нем горячее сочувствие.
– Я вызову его на дуэль, этого шелудивого пса! Я должен его убить!.. Иначе он начнет убивать других! – вспыхнул вдруг Огнянов.
Друзья шли мрачные. Огнянов внезапно остановился.
– Хочешь, я ему скажу, чтобы он и думать о ней не смел? – проговорил он с решительным видом. – Хочешь, дам ему пощечину в кофейне при всех?
– Он проглотит ее, как глотает все прочее. Ведь у него ни стыда, ни совести… Да это и не поможет.
– По крайней мере, я его опозорю.
– Для Юрдана Диамандиева пощечина не позор.
– Но девушка все узнает!
– Лалку не спрашивают, да и сама она преклоняется перед волей отца, – с грустью проговорил доктор и подал руку приятелю.
– Уходишь? Вечером пойдем к попу Ставри?
– Мне что-то не хочется. Иди один.
– Нет, надо пойти. Слово дали. Поп Ставри, конечно, звезд с неба не хватает, но он человек честный… Там, быть может, и придумаем что-нибудь.
– Ну, хорошо, зайди за мной, я буду ждать тебя дома. И друзья разошлись.
Огнянов пошел в школу. В учительской сидел один лишь Мердевенджиев, погруженный в чтение турецкой книги. Огнянов не поздоровался с ним. С первых же дней их знакомства ему было противно смотреть на человека, который в одной руке держал псалтырь, а в другой турецкую хрестоматию – два аттестата, свидетельствующие о том, что умственные способности у него сомнительные. После его письма к Раде неприязнь Огнянова к певчему перешла в отвращение, и оно стало еще сильнее, когда он увидел, как тот заискивает перед Стефчовым. Закурив папиросу, Огнянов, окутанный клубами дыма, быстро шагал взад и вперед по комнате, обдумывая свой разговор с доктором и не обращая внимания на певчего, сонно склонившегося на, книгой. Внезапно он увидел на столе свежий номер газеты «Дунав» [71]71
«Дунав» («Дунай») – газета, издававшаяся в Русе (1864–1876) на болгарском и турецком языках.
[Закрыть]; в Бяла-Черкве ее выписывал один лишь Мердевенджиев за ее сообщения о Турции. Огнянов рассеянно просмотрел сообщения о Болгарии и уже хотел было бросить газету, как вдруг на глаза ему попался заголовок, напечатанный крупными буквами. Пораженный, он прочитал следующее:
«Побег из Диарбекирской крепости. Иван Кралич, родом из Видина, Дунайской области, 28 лет, высокого роста, глаза черные, волосы вьющиеся, лицо смуглое, осужденный за участие в волнениях 1868 г. [72]72
…волнениях 1868 г. – Имеются в виду усилившиеся в 1868 г. действия болгарских повстанческих отрядов.
[Закрыть]на пожизненное заключение в Диарбекирской крепости и бежавший из нее в марте сего года, опять находится во владениях его императорского величества и разыскивается властями, которым по этому случаю даны необходимые указания. Верноподданные султана обязаны под страхом строгой кары за неповиновение сообщить о вышеуказанном беглом преступнике, как только его опознают, и передать его в руки законных властей, дабы он понес заслуженное наказание в соответствии со справедливыми императорскими законами».
При. всей своей выдержке Огнянов не смог сохранить спокойствие в присутствии чужого человека: он изменился в лице, губы его побелели. Слишком уж велика была неожиданность. Он метнул взгляд на Мердевенджиева. Певчий все так же неподвижно сидел за книгой. Он, вероятно, не заметил, как волнуется Огнянов, да вряд ли обратил внимание и на газетную заметку, которая сама по себе не представляла никакого интереса. Эти успокоительные предположения до некоторой степени вернули Огнянову хладнокровие. Первой его мыслью было уничтожить опасную улику.
Поборов отвращение, Огнянов унизился до разговора с певчим.
– Мердевенджиев, – сказал он спокойно, – вы, наверное, уже прочли газету? Дайте ее мне; хотелось бы просмотреть ее дома. В «хронике» много интересного.
– Нет, я еще не читал ее. Но все равно, возьмите, – лениво ответил певчий и снова уткнулся в книгу.
Огнянов вышел, унося с собой этот единственный в Бяла-Черкве номер «Дунава», таивший в себе такую зловещую угрозу.
XXI. Козни
И сегодня, в кофейне, Кириак Стефчов бежал с поля боя, как убегал в других случаях, но на сей раз твердо решив вернуться и с новой силой броситься на противника.
Лютая ненависть к Огнянову, разгоревшаяся после ряда столкновений, заглушила в его душе те немногие ростки добра, что едва пробивались сквозь густой бурьян низких инстинктов.
В кофейне ему на этот раз пришла в голову жестокая мысль погубить своего врага, предав его. А для этого он располагал всеми необходимыми данными и средствами. Стефчов уже давно по мелочам интриговал против Огнянова и клеветал на него, но это не помогало, – Огнянов всегда выходил победителем и еще больше вырастал в глазах людей. В этом Стефчов окончательно убедился на представлении «Геновевы», когда публика вступилась за Огнянова. Будь на месте Стефчова Михалаки Алафранга, он совершил бы предательство со спокойной совестью, уверенный в том, что делает доброе дело. Но Кириак при всей своей испорченности все-таки понимал, как гнусно то, что он задумал, и тем не менее был не в силах удержаться. Бешеная жажда мести сжигала его. И он решил действовать, но так, чтобы люди не догадались, кто предатель.

«Да, фамилия этого бродяги не Огнянов, – думал Стефчов, – и родом он вовсе не из Лозенграда, это первое; во-вторых, на Петканчовой улице гнались за ним, и крамольные листовки принадлежали ему. Хаджи Ровоама права, – доктор Соколов в этот час действительно был у турчанки… На это намекнул и наш Филю, полицейский. Турчанка и листовки припрятала. Но как она ухитрилась? Не знаю. В-третьих… впрочем, скоро мы узнаем то, что в-третьих. И это самое страшное, это его доконает, и он попадет уже не в Диарбекир, а на виселицу… Я уничтожу этого подлеца!»
Стефчов шел в женский монастырь: там он назначил встречу Мердевенджиеву.
– Ты была права, госпожа, – сказал он Хаджи Ровоаме, войдя в ее келью.
– Благослови тебя бог, Кириак, а я-то думала, что маленько ошибаюсь, – шутливо ответила монахиня, прекрасно понимая, о чем идет речь. – Куда ты так спешил? Пыхтишь, как поддувало!
– Поругался с Огняновым…
– Этот чертов сын и нашей простушке Раде голову заморочил… – вскипела монахиня. – Учит ее каким-то крамольным песням… И откуда только взялась эта зараза? До того дошло что старухи и те распевают бунтарские песни… Весь свет задумали перекроить, все хотят разрушить и сжечь!.. Одни собирали всю жизнь, как муравьи, выпрашивали, копили, наживали, а другие вздумали все разом превратить в прах и пепел. И были бы хоть люди как люди! А то ведь сопляки… И наша Рада с ними! Пресвятая богородица, скоро и она будет не лучше Христины, и она будет прятать мятежников, и над ней будут измываться даже цыгане… А что было на днях? Что это за гнусные песни распевали на спектакле? Турки-то спят, что ли?
– Я рассорился с Огняновым и наконец решил стереть его в порошок, – начал Стефчов сердито, но, вспомнив, что на болтливую монахиню нельзя положиться, оборвал речь и сказал: – Впрочем, все это дело полиции, ей и карты в руки… Только прошу вас, госпожа, молчок!
– Ты же знаешь меня…
– Знаю, потому и говорю: молчок!
На крыльце послышались шаги. Стефчов выглянул в окно и очень довольный проговорил:
– Мердевенджиев идет!.. Ну, что скажешь? – спросил он певчего, когда тот быстрыми шагами вошел в комнату.
– Мышка в мышеловке! – ответил Мердевенджиев, разматывая шарф.
– Как? Сам выдал себя?
– Весь побледнел, позеленел и задрожал… Он и есть!
– А что он сказал?
– Попросил у меня газету… Это в первый раз, – раньше он презирал ее не меньше, чем меня…
Стефчов вскочил и всплеснул руками.
– В чем дело? – спросила Хаджи Ровоама, ничего не понимая.
– Неужели он не догадался, что это ловушка? – проговорил Стефчов.
– Нет. Я сделал вид, будто углубился в чтение и ничего не замечаю, а на самом деле видел все. Медведь спит, а ухо держит востро, – добавил Мердевенджиев гордо.
– Браво, Мердевен! И с пасквилями ты справился, – написаны мастерски. Тебе бы редактором быть!
– Так вы уж не оставьте Мердевена… Местечко освобождается… Похлопочите за меня.
– Будь спокоен, похлопочу.
Певчий поблагодарил Стефчова на турецкий манер – приложив руку к груди.
– Я и с Поповым думаю свести счеты… Смотрит на нас, как бык, и к тому же – сторожевой пес Кралича.
– Какого Кралича? – спросила Хаджи Ровоама, удивляясь тому, что первый раз в жизни она чего-то не знает.
Занятый своими мыслями, Стефчов не отвечал ей и рассеянно смотрел в окно.
– Да, а ты знаешь, что вчера попечители приходили в школу? – снова начал Мердевенджиев.
– Кто именно?
– Все… Михалаки предложил уволить Кралича, но остальные встали на его защиту. Марко Иванов больше всех старался… Сделали ему только замечание за песню, и все. Словом, вышел сухим из воды.
– Марко души не чает в этом Краличе, но когда-нибудь он за это поплатится… И что он суется не в свое дело?
– А Мичо?
– Мичо тоже стоит за Огнянова.
– Понятно! Ворон ворону глаз не выклюет. Мичо на каждом шагу поносит правительство, а Марко поносит турецкую веру.
– Покатился горшок, да попал в мешок, – пробормотала Хаджи Ровоама.
– А Григор? А Пинков?
– И они под их дудку пляшут.
– Пусть меня черти возьмут, если я не закрою эту их школу!.. Пусть там кричат только совы да филины ухают! – кричал разъяренный Стефчов, бегая взад и вперед по келье.
– Правильно. Свяжи попа, и приход смирится, – отозвалась монахиня. – Все развратные и бунтовщические песни из этих школ вышли… А кто же все-таки этот Кралич?
– Кралич – это королевич, будущий король Болгарии, – отшутился в ответ Стефчов.
Мердевенджиев взял свой фес и открыл дверь.
– Не забудь, пожалуйста, о моем дельце, Кириак! – попросил он, выходя из комнаты.
Бедняга певчий думал, что все кончится увольнением Огнянова, место которого он мечтал занять.
– Сделаем – своя рука владыка.
Стефчов остался, чтобы поговорить наедине с монахиней о другом важном деле – своем сватовстве к Лалке… В конак он отправился, когда сумерки уже сгустились.
На Пиперковой улице ему повстречался Михалаки Алафранга.
– Ты куда, Кириак?
– Знаешь новость? «Дунав» окончательно сорвал маску с Огнянова и показал его таким, какой он есть! Оказывается, из Диарбекира бежал заключенный, и его всюду разыскивают… Могу поклясться, что это он, Огнянов… Живет под чужим именем.
– Что ты говоришь, Кириак? Так, значит, он опасный человек, из-за него могут пострадать и невинные люди… Недаром я вчера предлагал его выгнать, – такой учитель нам не ко двору… Ты куда идешь? Расскажи обо всем бею, пусть примет меры…
– Не мое это дело, у меня и газеты-то нет, она у Мерде венджиева. Это он все знает… – схитрил Стефчов, стремясь заранее отвести от себя подозрения в предательстве. О певчем он упомянул умышленно, чтобы потом все свалить на него.
– Расскажи, расскажи бею: окажешь большую услугу об ществу, – повторил Михалаки совсем просто и естественно, так же, как сказал бы Стефчову, что на базаре появилась хорошая рыба, и посоветовал бы купить ее. – Ну, а завтра мы с Хаджи Смионом идем к деду Юрдану… Уже можно поздравить тебя.
Дело в шляпе.
И Михалаки пожал руку Стефчову. – Спасибо, спасибо.
Уже настала ночь. Стефчов и Михалаки пошептались еще немного и разошлись в разные стороны.
Стефчов тронулся в путь, напевая турецкую любовную песню. Он шел в конак.







