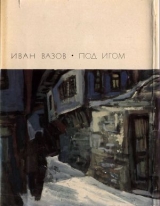
Текст книги "Под игом"
Автор книги: Иван Вазов
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 29 (всего у книги 34 страниц)
XXXVI. Рада
Как только первые залпы с высот возвестили городу, что роковой бой начался, народ, охваченный безумной паникой, пустился бежать в Копривштицу. Путь туда лежал через Вырлиштницу – узкое среднегорское ущелье, из которого вытекает речка того же названия, впадающая на юго-западной окраине Клисуры в Стара-реку.
Приютившая Раду госпожа Муратлийская наскоро собрала наиболее ценные вещи, решив бросить свой дом и вместе с детьми бежать по примеру других. Она зашла к Раде, чтобы взять и ее с собой. Но, невзирая на все ее уговоры, Рада отказалась за ней последовать. Добрая госпожа Муратлийская, обливаясь слезами, на коленях просила Раду бежать с нею. Как могла она покинуть девушку, когда ей грозила такая страшная участь? Турки уже показались на обрывах у города; каждая минута была дорога.
– Иди, иди, тетя Аница, уведи детей… А меня оставь, умоляю тебя! – настаивала Рада, подталкивая свою хозяйку к двери.
Госпожа Муратлийская, с ужасом взглянув на девушку, безнадежно стиснула руки. В окна уже было видно, как турки спускаются в город. Она не знала, что делать.
Видно, только отчаяние могло довести девушку до такого безумного упрямства. Так оно и было: Рада впала в глубочайшее отчаяние.
С той минуты, как произошло то ужасное столкновение между Огняновым и студентом, она все время чувствовала себя убитой, раздавленной тяжестью презрения своего возлюбленного. В первую минуту она была так ошеломлена, что не смогла оправдаться, а больше она не видела Огнянова. Значит, Огнянов доныне остается в ужасном заблуждении, доныне испытывает к ней отвращение и беспредельную ненависть… Если он погибнет в бою, он умрет с проклятием на устах, в жестоких, нестерпимых нравственных муках. Раду эта мысль приводила в ужас. У нее не было ни минуты покоя. Она знала, что могла бы сразу же рассеять его подозрения и успокоить его; могла бы, но не сделала этого, и теперь мучилась угрызениями совести. Этот благородный человек умрет неумиротворенный, с отчаянием в душе, думала она; ведь он для того и пошел в бой, чтобы умереть, – он не боится смерти. И она, Рада, обязана была хотя бы постараться, чтобы он умер спокойно, утешенный сознанием, что он любим, обожаем… А может быть, она обязана вырвать его из когтей смерти – сохранить для себя и для родины. Ведь если бы он верил в ее любовь, он не стал бы искать гибели…
Но все эти дни Огнянов не появлялся в городе. Напрасно Рада пыталась под разными предлогами – и не раз – проникнуть в окопы, чтоб хоть на минуту увидеть Бойчо, – пусть бы даже лишь для того, чтобы встретить его негодующий огненный взгляд; но ее упорно отказывались пустить на укрепления.
Единственным утешением для Рады служили свидания с соседкой – Стайкой, женой Боримечки. Сам Боримечка три раза приходил в город с разными поручениями и, мимоходом забегая к жене, приносил кое-какие сведения об Огнянове. Таким образом, Рада узнала через Стайку, что Бойчо жив и здоров, что он чрезвычайно занят, но – ничего больше… За эти шесть дней, долгих, как вечность, вместе со страданиями Рады возрастала и ее любовь к Бойчо, такому отважному и несчастному. Эта любовь перешла в культ. Бойчо казался ей еще более прекрасным, чем раньше, – его рыцарский образ сиял красотой мужества, окруженный лучезарным ореолом славы, и Рада видела в своем воображении, как там, на этих высотах, он с горькой усмешкой встречает смерть, ни разу не оглянувшись назад, в прошлое, чтобы шепнуть хоть последнее прости той, которая не может жить без него и которую он убил своим презрением… В ночь накануне боя, впервые встретившись с Боримечкой, Рада дала волю своим чувствам и выплакала перед ним свое горе. Добряк Иван утешал ее как мог и обещал незамедлительно передать Огнянову ее письмо, наспех написанное карандашом. Нам уже известно, почему оно было передано Огнянову только в начале боя. Но Рада не получила в ответ ни словечка, ни письменно, ни устно, – и не было предела ее скорби, ее отчаянию… Она чувствовала, что не сможет остаться жить, если Бойчо унесет свое презрение в могилу, к которой она его толкнула; и жизнь, в которой родник любви и счастья высох навсегда, казалась ей теперь ненавистной. Что у нее впереди? Безутешные муки, горькие сожаления, презрение окружающих и безнадежность… На что нужна ей такая жизнь? Да и кому она нужна? На кого сможет она опереться, не подвергая себя унижениям? Бяла-Черква представлялась ей теперь страшной и мрачной, как могила… Вернуться к Хаджи Ровоаме? Снова покориться ей? Или пойти к Марко Иванову? К нему обратиться за покровительством? Но какими глазами будет она смотреть на него? Она умерла бы от стыда перед этим добрейшим человеком, – ведь он, конечно, слышал гнусную клевету и теперь раскаивается в своей доброте. Надо сказать, что Рада в самый день своего отъезда на Бяла-Черквы узнала про мерзкие слухи, позорящие ее честь… Нет, нет, один лишь Бойчо может ее утешить, спасти… Но если он погиб? Правильно делает Муратлийская, стараясь сохранить себе жизнь… У нее есть для кого и для чего жить, потому что есть кому плакать о ней, кому любить ее. А она, Рада? Она не в силах влачить тяжкое бремя своего горя, она слишком слаба. Ей нечего делать в этом печальном мире, с которым ее ничто уже не связывает… А если Бойчо останется в живых? Как жестоко он будет презирать ее, – ведь она не сумела тогда оправдаться, обстоятельства были против нее. Оскорбленное его самолюбие не сможет ее простить. Удар, нанесенный его сердцу, его гордости, был слишком жесток. И Бойчо ни за что на свете не захочет ее видеть. В вопросах чести он непреклонен, – она это хорошо знает. Нет, нет, надо умереть… Сегодня можно умереть легкой, даже славной смертью, погибнуть под развалинами, под благородными развалинами этого героического города. Пускай госпожа Муратлийская уходит – она, Рада, останется здесь, чтобы тут найти смерть!.. Что ж, раз Бойчо не сказал ей, чтоб она жила, не почтил ее ни единым словом, она умрет. И если смерть пощадит его, пусть он узнает, что болгарки тоже не боятся смерти, что Рада была честной девушкой и пожертвовала собой ради своей любви к нему.
Эти и подобные им размышления – плод отчаяния, охватившего эту нежную и впечатлительную душу, сломленную горем, – носились у нее в голове, как тучи, гонимые ветром, когда госпожа Муратлийская с рыданиями умоляла ее бежать вместе. Но Рада была неумолима.
В это время на улице послышались крики. Выглянув в окно, госпожа Муратлийская увидела кучку повстанцев.
— Христо, что слышно там наверху? – спросила она одного из них. – Где сейчас Огнянов? Куда ты так бежишь?
— Гиблое дело! Крышка нам, Аничка, – ответил повстанец, еле переводя дух. – Огнянов, бедняга, остался там… Все к черту полетело!.. Бегите поскорее к Вырлиштнице!
И повстанцы скрылись из виду. Очевидно, Христо еще недавно был на укреплении Огнянова. Рада вскрикнула как безумная. Госпожа Муратлийская, потеряв всякую надежду увести ее с собой, бежала из дома.
И было уже давно пора. Вскоре Рада услышала отчаянные женские вопли на северной окраине города, куда уже ворвались турки. Ошеломленная, подавленная, стояла она у окна и вдруг увидела, как из соседнего переулка выбежали башибузуки с обнаженными ножами в руках, нагнали двух болгар и зарезали их… Рада увидела, как алая кровь хлынула из ран, увидела, как люди упали, увидела смерть в самом страшном ее обличье, и безумный страх овладел ею. Любовь к жизни с непреодолимой силой проснулась в этой молодой девушке, заглушила в ней все другие чувства, сломила всю ее решимость умереть, порожденную отчаянием. Рада бросилась бежать, чтобы спастись от смерти или от той позорной жизни, которую могли бы подарить ей кровожадные сластолюбцы… Она уже отворила дверь, чтобы спуститься по лестнице, как вдруг услышала, что ворота открылись с оглушительным треском; в ту же минуту она сквозь ветви фруктовых деревьев во дворе разглядела вооруженного мужчину. За ним показался еще кто-то, и оба быстро направились к лестнице, на которой Рада стояла как вкопанная. Очнувшись, девушка бросилась назад, в комнату, быстро захлопнула за собой и заперла дверь и, полуживая от ужаса, отбежала в дальний угол, ища, где бы спрятаться. Тотчас же в дверь начали стучать, потом ломиться, и за нею раздался какой-то страшный звериный рык… Дверь не поддавалась, и тот, кто стоял за нею, принялся ее ломать и крушить чем-то вроде топора. Наконец дверь заскрипела, затрещала, и в одном месте образовалась щель, в которую нападавший сунул ружейный ствол, стараясь взломать развороченную створку. Рада услышала, как под напором железа затрещали сухие доски, увидела, как огромная ножища просунулась в дверь… Еще миг, и нападающий ворвется в комнату…
И тут невыразимый ужас охватил Раду, помрачив ей рассудок. Смерть показалась ей стократ желаннее той страшной минуты, что приближалась неумолимо… Девушка бросилась к киоту, зажгла восковую свечу о мигающий пламень лампадки, потом кинулась обратно в угол. Там на столе лежал мешок пороха, забытый повстанцами. Держа свечу в правой руке, Рада указательным пальцем левой принялась ковырять в том месте, где мешок был завязан, чтобы проделать отверстие и поднести пламя к пороху. Это ей быстро удалось.
В этот миг дверь с оглушительным треском рухнула на землю, и в комнату ворвался человек богатырского роста.
Это был Иван Боримечка. Из-за его спины выглядывала Стайка.
Но Рада их не видела. Она поднесла свечу к пороху.
XXXVII. Две реки
А в это самое время Огнянов был уже далеко в горах.
Отступив последним, – когда турки уже взбирались на насыпь укрепления, а другой их отряд стрелял с ближайшей высоты, – окровавленный, черный от порохового дыма, с двумя дырками в одежде, он каким-то чудом избежал вражеских пуль и вырвался из рук неприятеля… Он искал смерти, но инстинкт самосохранения, который в такие минуты действует сильнее всякой сознательной воли, спас его.
Теперь Огнянов стоял в верховьях Вырлиштницы, на левом склоне ущелья, по дну которого протекала река.
По лицу его, покрытому кровью и потом, пороховой копотью и пылью, струились слезы.
Огнянов плакал.
Он стоял с непокрытой головой, взирая на ужасающее зрелище крушения революции.
Внизу, в долине, беспорядочная толпа повстанцев, женщин, детей, охваченная паникой, искала спасения в горах. Вопли и крики несчастных ясно доносились сюда.
Напротив лежала Клисура, объятая пламенем.
Случайно Огнянов бросил взгляд на свою правую руку, запачканную кровью, и понял, что это кровь Кандова. В ту же минуту мысли его от Кандова переметнулись к Раде… Волосы зашевелились у него на голове; он сунул руку в карман, вынул скомканное письмо Рады и развернул его.
Он прочитал следующие строки, написанные карандашом слабой, дрожащей рукой:
«Бойчо!
Ты с презрением отвернулся от меня. Я не могу жить без тебя. Умоляю тебя, ответь мне хоть единым словом… Если прикажешь, я останусь жить… Я невинна… Ответь мне, Бойчо. Я переживаю страшные часы… Если нет, прощай, прощай, обожаемый. Я похороню себя под развалинами Клисуры.
Рада».
Невыразимая скорбь отразилась на лице Огнянова. Он устремил глаза на город. Пожар все разгорался. В разных местах на крышах то и дело вспыхивали все новые и новые его очаги, и пламя, поднимаясь вверх, лизало воздух бледно-алыми языками. Черные клубы дыма расстилались над городом, сливаясь с тучами, покрывавшими небо; сумерки сгустились раньше обычного. Огонь распространялся во все стороны с необычайной быстротой. Его кровавые отблески лежали на обрывах и скалах Рибарицы, отражались в волнах Стара-реки… Поискав глазами двухэтажный дом, в котором жила госпожа Муратлийская, Огнянов вскоре нашел его и с трепетом узнал оба окна комнаты Рады. Этот дом еще не был объят пламенем, но огонь быстро добирался до него – соседние здания уже горели.
– Боже мой! Бедняжка, наверное, она там!.. Ужасно! Ужасно!
И он бросился вниз, в долину. Спустившись, вернее, стремительно скатившись с поросших кустарником обрывов, он побежал назад, к устью реки, к Клисуре.
Вырлиштницкое ущелье было запружено беженцами обоего пола, всех возрастов и состояний. Перепуганная толпа, растянувшаяся вдоль берега реки на всем ее протяжении, сама походила на реку, но текущую в обратном направлении. Панический ужас в какой-нибудь час обезлюдил Клисуру и наводнил людьми это ущелье. Все бежали, все неслись вперед, задыхаясь и не помня себя, как люди, за которыми кто-то гонится по пятам. Одни выбежали из дома в чем были, с пустыми руками, другие несли одеяла, домашнюю утварь, всевозможное тряпье, нередко даже – совсем ненужные вещи, захваченные впопыхах. У многих это доходило до смешного. Вот зажиточный домохозяин, покинув на произвол судьбы свой дом и все добро, тащит под мышкой одни лишь стенные часы, хотя в такое время они ни на что не нужны… Вот вслед за ним женщина несет сито, которое только мешает ей бежать… Иные старухи и девушки бегут босиком по камням, держа обувь в руках, чтобы она не истрепалась в дороге… Огнянов на каждом шагу сталкивался с этими смятенными толпами, порой спотыкался о тела упавших на землю выбившихся из сил женщин; они отчаянно вопили о помощи, но никто их не поднимал. Волосы становились у него дыбом при виде всех этих ужасов, и он, потрясенный, с непокрытой головой, все бежал и бежал к городу с одной мыслью, всецело овладевшей его сознанием, – спасти Раду. Он инстинктивно искал ее глазами и здесь, всматриваясь в обезображенные страхом лица встречных женщин и девушек, и бежал все вперед и впе ред. Но все эти люди были ему теперь чужды; они были как призраки; они для него не существовали. Он даже не пытался понять, отчего бегут эти люди, – он просто не думал о них, так же, как они о нем. И никто не удивлялся, не спрашивал, почему он бежит в город, тогда как все бегут в противоположную сторону… Он не думал, не рассуждал, он знал лишь одно: скорее в город! С каждым его шагом страшные картины становились все чудовищнее. Огибая один утес, Огнянов увидел маленького мальчика, упавшего в реку; обезумевший от страха, обессиленный бегом, окровавленный, он с душераздирающим криком взывал о помощи. Чуть подальше при дороге валялся грудной младенец, посиневший от крика, – быть может, мать бросила его, чтобы легче было бежать. Старухи, мужчины, женщины перепрыгивали через несчастного ребенка, не замечая его, не слыша его плача. Каждый думал только о себе. Страх, этот сильнейший и отвратительнейший вид эгоизма, ожесточает сердце. Позор и тот не отмечает лицо человека такой печатью подлости, как страх. Огнянов невольно нагнулся, поднял младенца и пошел дальше… Под кустом, в стороне от дороги, какая-то женщина прежде времени родила и с лицом, искаженным болью, простирала руки к беженцам. Вопли, детский плач, хриплые крики оглашали ущелье… В довершение всего дождь полил как из ведра. Грозовой ливень обрушился на обессиленных беглецов, а гром отзывался в горах диким эхом. С каждой минутой ненастье приносило все новые беды: с обрывов в реку ринулись мутные потоки, заливая промокших до нитки, окоченевших от холода несчастных беженцев, а дождь хлестал им в лицо. Дети, которых матери тащили за собой, жалобно кричали, едва волоча ноги, и падали под напором воды… Стоны, рыдания звучали все громче и громче…
Скалы, нависшие над ущельем, многократно повторяли эти дикие крики и шумы разбушевавшихся стихий, слившиеся с ревом реки.
Неожиданно Огнянов разглядел сквозь завесу дождя и узнал среди встречного потока людей одну женщину – первую, кого он узнал в этой сутолоке, То была госпожа Муратлийская с грудным ребенком на руках; трое старших детей плелись вслед за ней. Огнянов перебрался через мутный поток и пошел навстречу измученной матери.
— Где Рада? – спросил он.
Женщина раскрыла было рот, но, едва дыша от усталости, не смогла вымолвить ни слова и только указала рукой на город.
— Она у вас? – проговорил Огнянов.
— Там, там, скорое, – едва слышно пробормотала она.
В другое время госпожа Муратлийская, женщина слабого здоровья, едва ли смогла бы выдержать такое путешествие. Глаза ее выкатились от напряжения. Но на помощь мускулам пришла воля… Волю к жизни поддерживали в ней прелестные, как ангелы, дети.
– Куда ты несешь ребенка? – спросила она Огнянова слабым голосом, заглушаемым дождем.
Огнянов удивился. Он только теперь заметил, что подобрал где-то ребенка и тащит его неведомо куда… Только теперь почувствовал он тяжесть этого крохотного существа и услышал его пискливый голосок.
Он растерянно посмотрел на госпожу Муратлийскую.
— Давай его! Давай сюда!..
Взяв у Огнянова ребенка, она прижала его к мокрой груди и, по-прежнему прижимая своего собственного младенца к другой стороне груди, снова тронулась в путь!..
Было уже совсем темно, когда Огнянов добежал до устья реки Вырлиштницы. Отсюда Клисура была видна как на ладони. Дождь погасил пожар; только там и сям еще рдели притаившиеся под крышами огоньки, меча сквозь окна красноватые снопы света на потемневший город… Слышался отдаленный грохот рушившихся домов. Огонь перебегал с одних зданий на соседние. И вдруг Огнянову бросился в глаза новый огромный пожар, вспыхнувший в южной части города. Громадные языки пламени с треском взметывались вверх и миллиардами искр рассыпались в воздухе. Огнянов вспомнил, что в том месте стоял дом госпожи Муратлийской… Да, это он горит… В тот же миг верхний этаж дома обвалился, рухнув в море огня и желтого дыма. Там, наверху, была комната Рады!
Очертя голову, Огнянов бросился бежать по пылающей улице, кишмя кишевшей свирепыми турками, и скрылся в их толпе.
Часть третья
I. Пробуждение
В течение нескольких дней восстание было подавлено повсеместно.
Борьба окончилась полным поражением, паническим страхом.
Революция и… капитуляция.
История дает нам примеры восстаний хоть и неудачных, но овеянных славой; таких трагически бесславных восстаний, как это, она еще не знала.
Апрельское восстание было недоноском, зачатым в упоении пламенной любви и задушенным родной матерью в муках рождения. Оно умерло, не начав жить.
У этого восстания нет даже истории – так оно было кратковременно.
Золотые надежды, глубокая вера, титанические силы, энтузиазм – все это богатство, нажитое веками страданий, мгновенно пошло прахом.
Страшное пробуждение!
А сколько мучеников! Сколько жертв! Сколько смертей и крушений! – И немногие примеры героизма. Но какого героизма!
Перуштица – вторая Сарагосса [109]109
Перуштица – вторая Сарагосса. – Перуштица – большое село в районе Пловдива, в предгорьях Родопского хребта. Население Перуштицы приняло участие в Апрельском восстании. Село подверглось нападению большой орды башибузуков и регулярных турецких войск. Жители Перуштицы выдержали жестокий артиллерийский обстрел и вели уличные бои с превосходящими турецкими силами. Часть руководителей восстания со своими семьями заперлась в сельской церкви и предпочла самоубийство сдаче врагу. 2 мая Перуштица была разграблена и сожжена дотла башибузуками.
[Закрыть].
Но мировая история не знает Перуштицы.
Батак!
Только это название осталось от борьбы, от пожаров, от руин и, облетев всю вселенную, было увековечено в памяти народов. Батак [110]110
Батак – большое село Пловдивского района в западных Родопах. Восстало 21 апреля 1876 г. под началом воеводы П. Гаранова и выдержало бешеный натиск орды башибузуков и окрестного турецкого населения. В жестоких уличных боях 29 апреля большая часть жителей села и сдавшиеся в плен остатки повстанцев были перебиты. Село было сожжено дотла. Кровавая расправа с населением Батака вызвала возмущение всей передовой европейской общественности. Слово «батак» по-болгарски значит: болото, гиблое дело.
[Закрыть]! Это имя – и как собственное и как нарицательное – характеризует всю нашу революцию.
Судьба иной раз создает подобные каламбуры.
В данном случае она стала для нас провидением: это она потрясла нас ужасами Батака, но она же призвала войска Александра II, освободившие Болгарию.
Если бы это движение и его трагические последствия не вызвали Освободительной войны, над ним нависло бы неумолимое осуждение; здравый смысл назвал бы его безумием, народа – позором, история – преступлением. Ибо история, эта старая куртизанка, тоже поклоняется успеху.
Одна лишь поэзия могла бы простить и увенчать лаврами его героев из уважения к тому энтузиазму, который увлек мирных анатолийских портных [111]111
…анатолийских портных… – Анатолия – малоазиатская часть Турции. В данном случае «анатолийские» значит подданные Турецкой империи.
[Закрыть]на среднегорские высоты, – высоты, отныне священные, – с черешневыми пушками…
Поэтическое безумие!
Ибо молодые народы, как и молодые люди, – поэты.
Уже три дня и три ночи скитался Огнянов по Стара-планине. Он продвигался все дальше и дальше на восток, чтобы спуститься в Бяла-Черкву, о которой не имел никаких сведений. От Клисуры до Бяла-Черквы всего шесть часов пути для мирного гражданина, но для мятежника, спасающегося от пули, и шестидесяти мало.
Огнянов днем пробирался сквозь леса и буковые заросли, спал, как зверь, в дуплах деревьев, скрываясь от карательных отрядов, а ночью шел по глухим местам и пустошам, под дождем, во мраке, дрожа от холода, веявшего с покрытых снегом балканских вершин; шел, не выбирая направления, нередко возвращаясь назад, вместо того чтобы идти вперед. Питался он травами, иначе говоря, голодал хуже волка. Просить гостеприимства в изредка попадавшихся горных хижинах он не смел. Двери многих хижин охраняли беспощаднейшие стражи – предательство или страх, этот цербер, чей лай всегда грозит опасностью.
В сумерки, стоя на какой-нибудь горной вершине, Огнянов видел, как на юге багровеет небо. Вначале он принял это странное явление за вечернюю зарю. Но чем больше темнела ночь, тем ярче рдел мутно-багровый свет, тем шире разливался он по небу, напоминая северное сияние, чудом запылавшее на юге.
Это было зарево пожаров, испепелявших цветущие селения.
Зрелище величественное и страшное!
Однажды ночью Огнянов забрел в такое место, откуда между двух горных вершин открывался широкий вид на юг, и с ужасом увидел пожары и на самой Средна-горе. Она походила на вулкан, изрыгающий огонь из двадцати кратеров. Дым стлался голубым туманом по всему небосклону.
Огнянов рвал на себе волосы.
– Погибла Болгария, погибла! – в отчаянии говорил он, глядя на пожары, – Вот плоды всех наших святых усилий. Вот в чем потонули наши гордые надежды – в крови и пламени! Боже, боже! А там, – он махнул рукой в сторону Клисуры, – погибло и мое сердце. Оба мои идеала, оба кумира, которым я поклонялся, рухнули одновременно; один – в бездну панического страха, другой – в позор измены и в могилу. Теперь я – бездушный призрак, блуждающий в безуспешных поисках своей могилы!..
Действительно, он походил если не на призрак, то на скелет.
По всем овечьим загонам кочующих пастухов, по всем болгарским зимовьям был разослан приказ не давать приюта никаким странникам, если они покажутся подозрительными. Но сами болгары шли еще дальше: они прогоняли таких путников и оповещали о них карательные отряды. Нередко жестокость местных жителей доходила до того, что они собственноручно приканчивали пулей какого-нибудь раненого или полуживого от голода повстанца. Две недели назад те же самые люди встречали апостолов как самых дорогих гостей. Легендарная добрая мать юнаков, Стара-планина, теперь стала для них коварной мачехой… Всюду были засады… Ужас и подлость перекинулись из городов и сел в самые глухие ущелья, поселились в буковых лесах и чащах, где некогда скрывались гайдуки.







