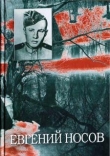Текст книги "Крещение (др. изд.)"
Автор книги: Иван Акулов
Жанры:
Историческая проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 43 (всего у книги 44 страниц)
– Лешаки вы окаянные, нет на вас ни напасти, ни погибели! – начнет костить мальчишек дед Мохрин, а раньше, когда была сила в ногах, гонялся даже за ними: не могла выносить бережливая стариковская душа того, как губит малышня свою обувку. Он и сейчас провожает их руганью и только потом выносит из караулки стремянку, притыкает ее к столбу и поднимается по ней до выключателя. Когда погаснет лампочка, то сразу окажется, что небо–то уже утреннее и отовсюду рассветно подтаяло: синеют улицы, белеют заснеженные крыши домов, и светло дымятся изморозью заборы, ветви акации и тополей, провода, резные карнизы.
В ту ночь пал снежок легкий и теплый. Стужа, державшаяся недели три или четыре, основательно сдала. Перед оттепелью вот и ломало кости у Мохрина. Свои больные ноги старик просто не знал, как и куда положить: он и задирал их выше головы на своей лежанке, и тер шубной полой, и наконец, все перепробовав, выходил на улицу, мел возле магазина – тут немножко и унималась боль. Так же вот, вернувшись однажды в караулку, он вздремнул чуткой птичьей дремотой, а очнулся оттого, что будто кто–то подошел к караулке и сел на скамеечку у стены. Дед Мохрин шаркнул рукавом по заслюнявленной во сне бороде и прислушался: да, кто–то сидел снаружи, совсем знакомо скрипнула скамеечка. Мохрин распахнул двери, а на дворе уже белое утро, и у стены на низкой скамеечке сидит солдат, маленький и узкоплечий, держит на коленях тугой, как взбитая подушка, вещевой мешок.
– Дедушка Мохрин, испугал ты меня.
– Да кто же это? Не признаю чего–то. Колька, дак опять не Колька.
– Ну какой Колька! Шура я, дочь Михаила Мурзина.
– Лександра, что ли?
– Я самая, дедушка. Александра.
– Лександра, Лександра, – уточнил дед Мохрин и зачмокал губами, не веря и удивляясь встрече. – Откуда же ты, Лександрушка? Ведь тут слух был, будто убили тебя.
– Убивали, дедушка, да ожила.
– А моего с концом припечатали… А может, возьмет да так же и объявится? А?
– Объявится, дедушка. Убивают далеко не всех.
– Не всех?
– Не всех.
– Ну дай тебе господь здоровья. Ты бы зашла в тепло.
– Посижу здесь. Спасибо.
– А теперь–то ты как, по ранению же?
– Ноги у меня отекают.
– Ноги ежели, дак это, не доведи господь, хуже всякого ранению. А Елена, Колькина–то матерь, тоже свово ждет. Сулился вроде домой.
Шура обеспокоенно встала и, загораживаясь от деда Мохрина своим мешком, спросила не сразу:
– Что же он, Николай–то?
– Кто знает, Лександрушка, не пишет. В госпитале он теперь, и лечат его, да никак, видно, не могут вылечить.
– Пойду я, дедушка Мохрин. А ты заходи в гости.
– Я зайду. Я зайду, Лександрушка. Я люблю по гостям шастать. Хорошо примете, так и еще загляну. Памятешку, скажи, совсем отшибло: где угостят, туда и сызнова тянет. Не встречали тебя?
Дед Мохрин проводил Шуру до угла, а потом догадливо смотрел ей вслед. Лямки легкого мешка, по всему видать с бельишком, она закинула за одно плечо и шла с вальяжной женской неловкостью. «Эко зад–то оттягивает – навроде как беременная», – удивился дед Мохрин и вспомнил притомленное, расплывшееся лицо Александры, вспомнил, как прятала она свой живот за мешком, хмыкнул уж совсем определенно.
С год уже будет тому, а может, и больше, так же вот шел с поезда матросик с обтесанными скулами, выпитый добела госпитальным покоем, и пустой рукав нес с левой стороны. Рукав был заправлен под широкий флотский ремень. Постучался матросик к Мохрину в караулку, достал из кармана залитую сургучом бутылку, ударил ее дном о пятку валенка и вышиб пробку. Помнится, в караулке запахло едко–хлебным, настоящей неразведенной водкой. Матросик лил водку в рот, как в воронку, крупно и емко глотал. На донышке деду оставил.
– Катай, старик. Припас я эту скляночку для смелости. А то, боюсь, заплачу. – Матросик вытащил из–за пазухи бескозырку с лентами и якорями, расправил ее на колене, надел, разбойно блестя глазами: – Теперь я при форме, дед. Верно, толкуй?
– А вещички где твои? – поинтересовался дед Мохрин, глядя, как матросик силой запихивает в карман свою шапку–ушанку.
– Все мое хозяйство пошло за бутылку. Невелико было оно, хозяйство. Ножичек еще пошел в придачу. Вот ножичек жалко. Бывай здоров, дед. Бывай здоров. – Матросик осадил бескозырку до самых бровей и вышел. Скошенное плечо у него висело ущербно и мертво.
Дед Мохрин почему–то вспомнил безрукого матросика, когда проводил Шуру Мурзину; и без руки – что же теперь. «Зато Лександрушка–то не проста вернулась. Ах ты, ягодка Лександрушка. Мы, мужики, всю жизнь нашу в солдатиков играем, так бабам всю жизнь порожними и ходить? – Дед Мохрин озабоченно пососал остывшую трубку, скудно плюнул на снег. – М-да, к одной быстро липнет: прошла мимо мужика – и взялась; а другая нет, другой вот через фронт пришлось брать свое. Как ты ее ни суди, бабу, а весь белый свет на ней держится. Через фронт так через фронт».
Дед Мохрин запер караулку на замок, подергал его и пошел домой. Десятка шагов не ступил – идет Елена: в плюшевом жакетике, в новой зеленой юбке, какую дед Мохрин на ней и не видывал, а шаль совеем не по старушечьи повязана, высоко. Одно теперь интересует Елену, с того и начал дед Мохрин:
– Едет все народ, Елена. Едет. А твово пока нету. Жди давай. Жданное–то дороже. Лександра с нашей улицы приехала. Ты, поди, не знавала ее…
– Не Мурзина ли?
– Мурзина.
– Да ты что, дед, ай сам видел?
– Говорил с ней. Вот тут она на скамеечке и сидела.
Елена растерянно и беспокойно мигала своими остолбеневшими вдруг глазами.
– Что же она, дед?
– Да ничего девка. Ноги, жалуется, отекают. Потому, видать, ее и списали. И еще бы навроде…
– О Коле она ничего… Ничего она о Коле не спрашивала?
– Спросила. Как же. Домой, мол, сулится?
– Спрашивала, выходит. Ну слава тебе господи, царица небесная. А он, родимый–то, в кажинном письме о ней пишет. Спрашивает. Да ведь она, погоди–ка, убитая была. Полноте уж, Михей Егорович, ее ли ты видел?
– Ты что, Елена, прицепилась ко мне из–за этой Лександры? Прицепилась ты ко мне, как собачонка к нищему, извиняй на слове.
– Да и то правда, Михей Егорович. Ступай–ка, ступай. Да и я побегу – вон хлеб привезли. Ступай–ка, ступай.
Елену будто на руках несли, не чуя ног, на магазинное крылечко вознеслась. Бабы, пришедшие получать хлеб по карточкам, расступились перед ней. Некоторые даже поздоровались, Елена не слышала – скрипел в ушах сухой, но ласковый голос Мохрина.
Так и работала Елена весь день словно в бреду, оглохшая и ослепшая для окружающего мира. Ей все блазнилась Александра с подвитыми кудряшками, которыми она всегда опахивала все вокруг и от которых веяло сладким одеколоном.
Но Шура к Охватовым ни днем ни вечером не пришла – напрасно томилось в деревянном шкафчике собранное для нее Еленой угощение. Елена из своих скудных запасиков муки и масла напекла блинов, зная, что Шура любит блины немного пригоревшие, когда они ломко хрустят на зубах. До ухода в армию Шура частенько и запросто бывала у Елены, забежала и вечером уже перед самым отъездом, вся в слезах, в армейской шапке, которая плохо держалась на ее рассыпающихся волосах. Шура то и дело снимала шапку, встряхивала своими наодеколоненными кудряшками, вновь надевала ее, улыбаясь сквозь слезы. На улице под окнами пересмеивались подружки ее, и по всему было видно, что Шура нетерпеливо довольна своим отъездом и своими подружками.
После первой беременности Шура отяжелела немножко, округлилась, и Елена, глядя на нее, радовалась за сына, что бог послал ему справную невесту. «Теперь вот в солдатчину–то ей не ходить бы. Ой, не ходить, – томилась Елена, опасаясь. – Кругом одно мужичье, а она бабочка видная – от одних глаз грех понесешь…» Но Шуре ничего не сказала, перекрестила молча и оплакала как родную. И потом, когда бы и сколько бы ни вспоминала Шуру, всегда думала о ней не иначе, как с осуждением. С тем вот и дождалась ее возвращения.
Вечером, прибрав и протопив магазин, Елена не вытерпела и отправилась к Мурзиным сама, убежденная, что Шура не пришла в гости с трудной дороги, а может, и хуже того – нездоровится. «А так разве удержали бы ее?» – рассуждала Елена и прикрывала полой узелок с блинами.
Два окна в квартире Мурзиных ярко светились, заледенелые стекла ломали, крошили свет, вспыхивали блестками, тягуче мигали. Третье окно – Шурина горенка – освещалось изнутри слабо, видимо из общей комнаты была отворена дверь. Елена прошла мимо окон, потом вернулась, чутко высматривая в наледи на стеклах прогалину, через которую можно бы заглянуть внутрь. «Может, гостей созвали, а я здравствуйте к вашему застолью», – тоскливо думала Елена, глядя на бельмастое окно Шуриной горенки. Она уже согласна бы вернуться, да ноги несли ее и несли.
Во дворе дома Мурзиных размещался конный двор горкомхоза, и по–зимнему холодно пахло лошадьми, сеном, навозом. На поднятых оглоблях выпряженных саней качался фонарь, а под ним кто–то темный пешней обкалывал лед у колодца. За санями, в глубине двора, переговаривались.
Подойдя к крыльцу, Елена увидела женщину в ватнике, которая собирала с перил какие–то вымороженные постирушки. Дом большой, жильцов в нем много, и Елена без внимания, опустив голову, стала подниматься на крыльцо.
– Елена, ты навроде?
– Сватья Августа! Эк, свету–то у меня в шарах. Лечу. Здравствуй–ко, сватья Августа. С гостенькой тебя. С возвращением. – И растерялась: не больно ли обрадела? – Шура–то, она, думаю, не больна ли?
– Не ко времени ты, – вздохнула задавленно Августа, не назвав Елену, как прежде, по–родственному сватьей, и опередила ее на пороге сенок. – Ты уж вдругорядь, Елена–матушка. Врач к ней пришел.
– Да что хоть, сватья Августа?
– Скажут вот. Сказать должны. – И, сознавая, что не ответила на вопрос Елены, заколесила, не умея лгать: – Мало ли у нас, у баб. Не болезнь, да хуже хвори. Ну врач вот…
– Сватья Августа, ведь она, Шypa–то, обрадуется, что я пришла. Я вот ей блинчиков… – Августа хотела что–то сказать, по Елена не дала и слова вымолвить. – Из одних местов они. Шура с ранеными, а мой–то опять раненый. Уж хоть немножечко–то знает же она. Я, сватья, одним глазочком… Уж как она, бывало, поглядит, сватья Августа, уж поглядит как, ну ровно вот Колюшкин взгляд. А съездила–то она…
– Елена, да ты вроде беспонятная какая. Человек, можно сказать, совсем не в себе. Что уж ты так–то…
– Спасибо на ласковом слове, сватья Августа. Не обессудь тожно. Я, может, и верно, не с пути что… Но хоть гостинец, сватья Августа. Гостинец как хошь. – Елена положила свой узелок на леденелые тряпицы, которые держала Августа коченеющими руками.
Августе не хотелось принимать и гостинец, но, чтобы скорее отвязаться от Елены, не стала перечить, а уловив теплый запах блинов, растрогалась.
– Что мы–то, Елена–матушка? – всхлипнула она затаенно и завыла тоненько. – Мы–то при чем…
Елена опять дважды прошла мимо окон и начала обдумывать слова сватьи Августы: «Мало ли у нас, у баб. Не болезнь, а хуже хвори». «Это неуж? Да околеть мне – что это я грешу?» – осудила себя Елена за дурные мысли о Шуре, однако догадка не только не исчезла, а все больше крепла, когда Елена вспомнила, как растерялась сватья, как зло и виновато путалась, объясняя и не сумев объяснить болезнь дочери.
За дорогу Елена передумала все, и опять ей стало хорошо оттого, что не вязались в ее голове худые мысли о Шуре. И чтобы окончательно рассеять свои сомнения, решила зайти к Мохрину в караулку, повыведать у него, не приметил ли он чего особенного за Шурой Мурзиной. «Чего он, старый, мог приметить? Я это все навыдумала».
А дед Мохрин, завершив очередной обход магазина, приткнулся в углу и слишком поздно заметил Елену. Заправляя полы шубенки, отворачивался, сердито сопел.
– Подгноил зауголье–то, – рассмеялась Елена и прошла мимо.
Уж только через две недели здесь же, в магазине, от баб Елена узнала, что Шура Мурзина вернулась домой «в тягостях» по шестому месяцу.
Запертую изнутри дверь Елене открыла заведующая магазином Ира Туркова, молоденькая девчушечка, полногрудая и с тонкими строгими губами. В руках у Иры были накладные, и она, вернувшись к прилавку, стала читать их, перекидывая разношенные колесики старых счетов. На залощенном подоконнике, обкусывая заусеницы на коротких пальцах, сидел возчик хлеба Тимофей Косарев. Елена прошла в дверь за полки, выставила в складе деревянный щит, закрывавший окошко, надела свой истертый до дыр буханками халат и вернулась в магазин. Косарев, увидев Елену, готовую принимать хлеб, встал с подоконника, громко хлопнул по прилавку своими затвердевшими кожаными рукавицами.
– Ирка, ох нагреешь ты не одну душу, потому как у самой ни людям, ни бумагам нет веры. Принимай, говорю, или я уехал в двадцатый. Хлебушко на морозе быстро легчает, а мне походу вовсе давать перестали. Ежели я буду ждать, пока хлебушко остынет в экспедиции, вам его до вечера не видать.
Ира совсем подвернула губы, в сердитом вздохе тяжело подняла грудь. Ей противен был Косарев, хроменький и коротконогий, низко подпоясанный изопревшим ремнем, противны были Елена, бабы, с постными лицами ждавшие открытия магазина. Иру давно уже изнуряют одиночество и смутная боязнь утерять материнство. Чуть оставшись наедине, она плачет, совсем не утоляя слезами душу. Ей бы с кем–то поговорить, но только не с подругами, которые и без того знают больше, чем она может поделиться с ними.
Осенью в школе, где училась Ира, разместили госпиталь. Ире совсем не по пути, но она ходила и на работу и с работы мимо школы, чтоб хоть мельком увидеть раненых. Когда ей улыбались или махали из окон стриженые, в бинтах и застиранных больничных халатах бойцы, она весь день жила какой–то неясной надеждой, минутами радуясь, а минутами остро мучаясь своей тоской. Однажды утром, проходя мимо высокой чугунной ограды школы, Ира услышала, как кто–то окликнул ее. Она остановилась; по ту сторону ограды, держась белыми, будто бы прополосканными в щелоке руками за чугунный узор, стоял раненый, прижимая локтями к бокам своим новые костыли.
– Катя, родненькая… – Ира подошла к ограде, и боец вдруг заторопился с жалкой улыбкой – Катя, родненькая, брось письмо в почтовый ящик. Я мамаше в Уфу написал, где нахожусь. Ну вот, а через нашу почту пойдет – все вычеркнут.
У бойца крупный с горбатинкой нос, крупные ограненные губы и широкий раздвоенный подбородок. По лицу угадывалось, что это крепкий и сильный человек, но раны измучили его, и потому глядел он своими глазами по – детски беспомощно. У Иры от его глаз сжалось сердце. Она взяла письмо, а боец бережно обнял ее задержавшуюся руку своими захолодевшими на чугуне ладонями и подержал их с мольбой и лавкой.
– Тебя Катей зовут?
– У вас теперь все Кати. Так–то уж и Катей, – не обиделась девушка. – Свое имя есть. Ира.
– Ирочка, ягодка моя, – прицепился раненый к разговорчивой Ире. – Родненькая, приходи вечером к нам сюда. Сверточек белый возьми под руку, и через проходную тебя пропустят как нашу санитарку. А уж если спросят, скажешь, к лейтенанту–де Костикову. Это я, лейтенант–то Костиков. Я ждать буду, Ира.
– Вот так и разбежалась, – тряхнула Ира челочкой и пошла не оглядываясь, уж верно зная, что не сумеет не прийти вечером.
Как в сладком сне жила Ира весь этот день: затуманило ее голову слово «родненькая» – никто еще не называл ее так: «родненькая». «Ласковый–то какой».
Разваливая буханки на свежие с кисловато–сытым запахом четверти, Ира отвешивала суточные пайки и не поднимала глаз от весов, не хотела видеть баб и старух, ругливых в толпе и покорных, льстивых у прилавка.
К вечеру, когда на полках все буханки можно было пересчитать по пальцам, Ира со скрытой радостью объявила:
– Не стойте больше, хлеб весь тут.
Магазин поднял крик, дети откуда–то взялись – заверещали, захныкали. Длинноротая Налимова, в мужнином пальто с перешитыми почти под пазуху пуговицами, прорвалась, прямо к прилавку, отворила свой рот широко и нескромно:
– По знакомству небось половину–то оставила? Знакомство у хлебушка завелось. Вишь, ряшку–то обвеселила. Ведь слышали, бабы, смехом же она сказала, что хлеб весь?
Сварливый старушечий голос поддакнул, беззлобно совсем поддакнул, по привычке кого–нибудь есть поедом:
– Сытая. Небось о мужиках только и заботушки.
– Постыдились бы, девчушечка еще совсем.
– Шапкой не сшибешь, хе–хе.
– Эк, налил опять зенки–то.
А Налимова требовала свое:
– Вынь из–под прилавка! Вынь!
Елена Охватова, пришедшая убирать магазин, только что вымела под прилавком и крошки собрала в мешочек, потому решительно поднялась на Налимову и двумя словами срезала ее:
– Залезай – гляди.
– А я не какая–нибудь, чтобы доглядывать. А карточку мне отоварь.
Скандальный голос Налимовой всю очередь заразил криком: кто–то бранил Иру, кто–то войну и порядки, кто – то за хлястик тянул от прилавка Налимову, чтоб под шумок не получила хлеба без очереди. Налимова люто отмахивалась, как от собаки, но, боясь потерять хлястик мужнего пальто, подалась назад, и тут же перед нею сомкнулись спины, совсем отодвинув ее от прилавка. Налимова, только что широкоротая, с острыми злыми скулами, вдруг присмирела лицом, собрала на губах горечь–улыбку и втихомолку заплакала, засморкалась.
Ира развесила последние булки, собрала еще кому–то куски и обрезки и, как делала всегда, прямо на глазах покупателей сняла халат, бросила на опустевшую нижнюю полку и залезла обеими руками в ящик с грязными, замусоленными рублями и трояками. Боже мой, в каких карманах они только не бывали, какие пальцы не брали и не ощупывали их! Собирая на ладошке пачку из трояков, Ира чувствовала: они так засалены, что из них, как выразилась Елена Охватова, можно варить мыло.
Пока Ира готовила кассу, Охватова вытурила из магазина рассерженных и орущих покупателей, закрыла дверь на крючок и, ослабевшая вдруг, опустилась на подоконник, где обычно утром сидит возчик хлеба Косарев. Ей надо топить печи, мести и мыть полы, а она с наступлением в магазине тишины совсем обессилела и сидит бездумно, не то улыбаясь, не то глотая слезы.
– Ты что сидишь, тетка Елена?
– Да и впрямь, что это я сижу?
– Ты какая–то другая вроде, тетка Елена.
– Другая, девонька. Другая совсем. – Елена хотела пойти растапливать печи, но заговорила, заговорила, помогая себе куцыми, но горячими жестами: – Вот сдается мне, Ира, Николушка мой завтра придет. Все мои мысли и приметы на то падают. И вот сон я видела. Будто это я иду паровым полем, а оно, скажи, все взялось золотой сурепкой и все зыбится, клонится, а то заходит, и так меня всеё залихоманило. Села я будто на межу, легла, и вся моя боль – книзу, книзу, а потом отпустило – и нате, из подола крик. Пробудилась я, и пади мне в голову: да это ведь таким же летом у меня родился он, Колюшка–то, когда засуха была у нас, и, скажи на милость, заглохли у нас в то лето все посевы от сорняка. Осот да сурепка…
– Тетка Елена, я хочу в госпиталь к раненым сходить. Ты халатик–то мой с поясочком постирала?
Елена не сразу поняла, о чем ее спрашивает Ира, а поняв, обиделась, что девушка не слушала ее. «Да что она понимает?»
– Халат, говорю, чистый надо, тетка Елена.
– Не глажен он.
– Принеси какой есть. Да ты поскорей с уборкой. Что–то и не торопишься сегодня.
– Тороплюсь, Ира. Кажется, весь день бегу куда – то, никакого покою не знаю, а дело – правду говоришь, – дело между рук, вроде вот как вода.
– Да ты затопляй, тетка Елена. И мешаешь мне. Обсчитаюсь вот.
Но деньги считать Ире мешали ее собственные мысли, сбивчивые, о лейтенанте Костикове, у которого странное имя Серафим – она прочитала на письме. И это какое–то мудреное имя, и его с горбинкой нос, и его холодные, как лед, показалось ей, всю ее обнявшие руки решили за Иру все.
Было уже часов восемь, когда Ира с рук на руки передала магазин деду Мохрину и пошла домой, но опять – таки окольной дорогой, мимо школы, еще надеясь, что в самый последний момент передумает встречаться с Костиковым или отведет кто–то ее от этого неверного шага.
Стоял слабый морозец, и в теплых белесых сумерках совсем не хрустел снежок, а на отвалах у электростанции вагонетки, опрокидывая огненный шлак, звякали задавленно, мягко.
У старинной чугунной ограды школы Ира, волнуясь, замедлила шаг и, как утром, услышала, что ее окликнули. Думала, показалось, и оглядываться не хотела, да оглянулась.
– Ира. Добрый вечер. Я уж думал… – И радость, и тоска ожидания в голосе Костикова отозвались в душе Иры тоже приятным облегчением. – Родненькая, тут за углом калитка – она, оказывается, не заперта. – Он заскрипел костылями по ту сторону ограды, и Ира вернулась к углу, вошла в калитку. Встретились. Он признательно поглядел на белый сверток в ее руках и, качнувшись к ней на одном костыле, дохнул в щеку здоровым табачным теплом: – Мы тут прогуливаемся, а иногда сидим в санитарных машинах…
– Вы не близко, не близко.
– Родненькая, вы идите за мной – я должен где–то сесть, – сказал он, тоже переходя на «вы». – Я долго ждал вас. – Он тронул ее плечом, приглашая идти с ним, но она опять отстранилась:
– Да не близко–то, не близко.
– Да что вы! Мне, Ира, сесть бы надо. – И он, не ожидая ее и не зная, идет ли она за ним, пошел, волоча левую забинтованную ногу, обвисая на костылях. Она постояла в нерешительности и пошла за ним, приятно вспоминая его табачное тепло на своей щеке.
А Костиков подошел к санитарной машине, сел на железную ступеньку перед кабиной, костыли прислонил к гнутому крылу. Ира отказалась сесть с ним и даже близко к машине не подошла. Стояла в сторонке, вертела подшитой пяткой валенка молчаливый податливый снежок.
Теперь они не знали, о чем говорить.
– Вы бы о письме спросили. Может, я его выбросила.
– Вы хорошая. Разве я мог другой доверить?
– Откуда–то и хорошая.
– Ирочка, родненькая, ну подойдите поближе. Родненькая. Ну!
– Я и так слышу.
– Костыли эти проклятые…
То, что он назвал ее хорошей, взволновало ее, и она хотела, чтобы он еще сказал что–то такое же.
– Как же вы могли мне доверить?
– Боже мой, Ирочка, да я человека на пушечный выстрел различаю. Мне тут в госпитале ни одна сестричка не нравится… Йодом да хлоркой ото всех пахнет, а вы другая.
– Чем же я другая–то? Врете вы все.
– Да ведь мы с вами встретились и разошлись, зачем же мне врать. Говорю, что есть. Прошли вы мимо, и не мог я вас не приметить. – Говорил лейтенант искренне, и она чувствовала это.
– Мне уже пора идти.
– Дайте хоть руку – холодно ведь вам.
– Мне уже пора идти, – слово в слово повторила она.
– А что бы вам не сказать прямо, что противны вам мои костыли? Конечно. Только не надо лгать. И жалеть тоже. У меня, может, и ногу к черту отпилят да привяжут полено. Тогда вы небось уж совсем не подойдете. Конечно…
– Да что это вы? – растерялась вдруг Ира, прижала свои рукавички к груди и сделала шаг к машине, но тут же отступила: от здания школы кто–то валко шел, направляясь к калитке, и еще издали начал ругаться не то женским, не то мужским сиплым голосом:
– Калитку опеть отчинили.
И только тут лейтенант вспомнил, что калитка осталась распахнутой настежь, стал подниматься, взял костыли и не сразу приловчился к ним воспаленными подмышками. Ира успела выйти за калитку и стояла по ту сторону ограды, отвернувшись, а хромой, нестроевой службы боец возился с ржавым замком и ворчал простуженным голосом:
– Ходют здеся, а ну как сам Марк Павлович: разнесет – вот и вся любовя.
Лейтенант торопился и потому шел медленно, боялся, что Ира уйдет не дождавшись; но она не ушла, отуманенная обидно–горькой и по–молодому обнадеживающей слезой.
У него с непривычки болели плечи, да и ногу он, видимо, потревожил; налег грудью на узоры ограды, отдышался сперва.
– Вы на меня обиделись? Родненькая, я не хотел обидеть вас. Конечно, спасибо, что пришли. А мы увидимся еще? – спросил он и, разглядев ее открытые навстречу глаза, мокрые от слез, проникся к ней признательной лаской, заговорил горячо, совсем не понимая своих слов: – А вы завтра придете опять? Придите пораньше…
– Раньше–то я не могу, – в тон ему сказала она и подошла к ограде. Лейтенант по ее варежке скользнул пальцами в Ирин узкий рукав, обжег ей холодом всю руку, а по плечу и спине у нее хлынул зябкий жар. Она опять испугалась и отняла свою руку, жалея лейтенанта и чувствуя вдруг перед ним какую–то неосознанную вину.
– Я приду завтра. Может, и пораньше. А теперь уж мне некогда.
Он жестко и памятно сдавил ее пальцы и забыл о боли в своей ноге. Но когда ковылял к школе, то чувствовал себя совсем разбитым, а в тамбуре почти лег на стертые ступеньки, далеко разбросав костыли по цементному полу. Хромой боец, обрубавший топором наледь в дверях, осудил его:
– Рано ты, молодец удалый, на обнюх–то вышел. И ждать жданки съедены. Эх–ма!
А Костиков отдохнул немного, собрал свои костыли и загрохал по коридору, полный нового, горячего любопытства к завтрашнему дню, который не замкнется болью, нежными сестрами и пугающими мыслями о костылях.
Но на другой день Ира часа полтора прогуливалась вдоль ограды и не встретилась с лейтенантом. Не было его и в следующие дни, а недели через полторы высторожила хромого бойца, и тот сказал ей, что дела у Костикова плохи и его отправили в Свердловск на повторную операцию. Ира шла домой и обливалась слезами, жалея родненького лейтенанта, жалея себя, будто обманутую кем–то, казалось ей, на всю жизнь.
Все события жизни вкованы одно в другое, как звенья одной бесконечной цепи. После разговора с хромым бойцом Ира не спала всю долгую ночь, кусала в отчаянии пальцы, что не запомнила домашний адрес лейтенанта, утверждалась в намерении съездить к нему в Свердловск, но где она будет искать его там? Вертела Ира горячую подушку под щекой, примачивала одеколоном опухшие подглазья и уснула нечаянно только тогда, когда надо было уже вставать.
Почти на час позднее прибежала на работу. Возчик хлеба Тимофей Косарев даже с головки саней не слез возле запертого магазина. Остановился, правда, черешком хлыстика пощелкал по голенищам обсоюженных валенок и под ругань баб, собравшихся на крыльце, тронул лошадь. В щели зеленого фанерного ящика валил хлебный пар; на карнизиках гнутой крышки оседала белая изморозь.
Бабы готовы были наброситься на Иру у пустых прилавков, если бы не татарин Садыков. Гафару Садыкову перевалило за призывной возраст, но он крепок, бодр, не курит, не пьет водки и всем этим гордится перед бабами. На мягком, с жирной кожей лице его не растет борода, и, как бы скрывая свой мужской изъян, Садыков вечно таит улыбку в пухлых растянутых губах, будто обо всех знает что–то неловкое, тоже изъянное. Он пришел в вытертой заячьей шапке и в черном оборчатом полушубке с низкой талией, протиснулся в магазин, нашел в запутанной очереди последнего и взгромоздился на прилавок, как–то расплывшись по нему весь.
– Сиди, толстомясый, пока Охватова не турнула, – сказали бабы незлобиво и позавидовали его жене Кариме, которой легко живется за спиной мужа, потому она и беременеет каждый год, хотя ей уж за сорок.
Гафар не охоч до работы и будет сидеть хоть полдня или весь день, опревая в меховой своей одежине. Направляясь в магазин, он достал из почтового ящика, прибитого к воротам, газету «Уральский рабочий» и сунул ее в карман. Сейчас он прочтет ее от передовицы до объявлений. Как только Садыков зашуршал газетой, говор в магазине покачнулся, пошел на убыль, только у переднего прилавка по–прежнему перекипал шум, но и там зашикали друг на друга. В городе с нехваткой электроэнергии радиоузел работал с большими перебоями, и люди повсеместно ловили каждую весточку с фронта. Гафар со значительной медлительностью развернул газету и, увидев важное сообщение, заерзал по прилавку, даже шапку сдернул с низколобой плоской головы. Но перед тем как читать, хорошо сознавая, что все внимание людей принадлежит ему, сказал с осуждающей улыбкой:
– Больше всего женщину старит злость и ругань. – Татарин насупился, совсем заважничал: – Нехорошо, бабы. Любить надо дыруг дыруга.
– Хватит учить–то. Слез бы с прилавка–то. Вымостился.
– Читай–ка, Гафарушка. Читай. Ну ее к лешему, она тут всем надоела.
Садыков снисходительно улыбнулся и стал читать сводку, сильно и твердо сжимая слова:
– «От Советского информбюро. Из вечернего сообщения.
В течение минувших суток наши войска в районе Сталинграда и на Центральном фронте, преодолевая сопротивление противника, продолжали наступление на прежних направлениях.
В районе города Сталинграда наши войска вели наступательные бои и продолжали уничтожать окруженную группировку противника. Попытки фашистов вырваться из котла полностью провалились.
Северо–западнее Сталинграда наши войска продвигались вперед и заняли десятки населенных пунктов.
За время наступления под Сталинградом и на Центральном фронте наши войска взяли в плен 174 тысячи солдат и офицеров противника и уничтожили 169 тысяч».
Гафар Садыков почти спустил с плеч жаркую шубу. На груди и плечах черная сатиновая рубаха лоснилась от пота. Багровое, разопревшее лицо его обвисло, но для баб был он сейчас добрым пророком.
В другое время Елена Охватова потурила бы его, расплывшегося по прилавку в своей одежонке, – черт знает где его не носило, – но на этот раз плаксивыми глазами глядела на плоскую голову мужика, на его маленькие желтые ручки, державшие газету. А Гафар Садыков читал дальше, значительно подняв побитые брови:
В непогоду серою шинелью,
В дождь и в бурю укрываюсь я.
На привале мягкою постелью
Служит мне походная моя.
Бабы слезно засморкались, зашмыгали носами. Притихли. Елена Охватова будто уж в тумане совсем увидела, как задрожали реснички у Иры Турковой, которая, казалось, была всегда равнодушна ко всему, что творилось по ту сторону прилавка. «Милая ты моя, – всхлипнула Охватова, вспомнив своего Николая, потом Шуру Мурзину, сторожа Михея: редкого не осиротила война, а в горе человек мягче, беседливей. – Теперь все станут добрее друг к другу. Горя–то, батюшки, на сто лет вперед зажито. Милая ты моя», – думала Охватова, все глядя на Иру и чувствуя в груди какую–то теплоту.
А вечером в каморку к Елене ни с того ни с сего пришла сама Ира. С порога, не сняв даже рукавичек, приминая розовым подбородком длинный мех лисы–огневки, радостью облила хозяйку:
– По пятницам – уж такой, видать, поезд – всегда много приезжает раненых. Я пойду завтра к поезду и погляжу Николая.
– Ай ретивое, Ира, что сказало?
– Тебя жалко, тетка Елена, может, я вещунья.
И убежала. Елена до прихода Иры вязала носки из пряжи, в замешательстве сунула рукоделье куда–то. Дивясь над собой и поругиваясь, искала его, а в душе все шептало и шептало затвержденное: «Милая ты моя. Милая ты моя».