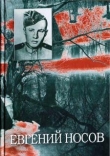Текст книги "Крещение (др. изд.)"
Автор книги: Иван Акулов
Жанры:
Историческая проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 41 (всего у книги 44 страниц)
– Жгут они наши тапки, – сказал генерал. – В чем дело?
– Да уж жгут. Два сорок. Огонь!
– А вы как, ведь полезут?! – это было главное, что хотел узнать генерал от артиллеристов.
– Ближе подойдут – влепим, товарищ генерал. А на удалении не та оптика. И скорость снаряда… Три сорок два. Огонь!
– А как настроение?
– Два ноль–ноль. Нелетная погода – живем пока.
Уходя с позиции, генерал слышал бодрящийся голос раненого солдата, по–своему выговаривавшего звук «в»:
– По дешевке отоварю, каширинцы.
«И ни единого бодрого словечка, – думал Березов, влезая в броневик. – Как это он сказал тогда на Елецком аэродроме, этот Заварухин? А ведь дельное сказал. Дельное, черт возьми: «Я иногда сознаю себя так, будто я – это и есть вся людская масса. И не просто частица, крупиночка, нет, а цельное со всеми, нерасторжимое. И понимаю, и чувствую всех как себя, как одного человека».
В полосе наступления морской пехоты Березов приказал водителю повернуть к горевшему танку. Броневик, подпрыгивая на взрывных выбросах и воронках, помчался по открытому месту. На изорванной земле, в сизых и фосфорно–желтых налетах гари валялись убитые в черных поверх сапог брюках и в обычных армейских гимнастерках под блестящими флотскими ремнями. Вокруг были рассыпаны патроны, растребушены вещевые мешки с письмами домашних и махоркой.
Сейчас на эту сторону дороги немецкие снаряды падали редко, и Березов подъехал к самым тополям – их искалеченные стволы источали с детства знакомую горечь, а жесткие, в зазубринах, листья с белой изнанкой по–живому еще звенели на сбитых ветвях.
В мелкой канаве сидели командиры из морской бригады и, когда подошел генерал, стали указывать ему в сторону немцев: от леса навстречу нашей пехоте и танкам шли немецкие приземистые и квадратные танки, которые, казалось, гребут под себя своими широко поставленными гусеницами всю землю до самой маленькой былинки.
– Цепи не отводить! – спокойно сказал Березов и, случайно наткнувшись рукой на расстегнутый ворот гимнастерки, спокойными пальцами застегнул его. – Цени не отводить!
– Теперь и поздно, – отозвался кто–то из командиров.
* * *
Весь день шли тяжелые бои. Отразив паши атаки, немцы ценой огромных потерь сами прорвались в направлении Лапы, Крутое и отрезали пути отхода к Олыму Камской дивизии и бригаде морской пехоты. Введенный в сражение один из корпусов танковой армии помог нашим частям не только ликвидировать угрозу окружения, но и остановил, смял наступающие полки фашистов перед Олымом. Пока шли предмостные бои на берегах степной речки, южнее моторизованные части немцев вырвались к Землянску.
В войсках Ударной армии, переправившихся через Олым, не оказалось командира бригады морской пехоты и генерала Березова. О них никто и ничего толком ие мог сказать.
Когда вечером Заварухину передали ненужный уже приказ, найденный в сбитом самолете, полковник не мог остановить подступивших слез и долго сидел в одиночестве, захватив рукою глаза, внезапно опустошенный и бессильный. Незадолго перед этим от него вышел боец Урусов и оставил после себя на столе полковника фуражку, в которой лежали ордена и комсомольский билет майора Филипенко.
XIX
Третьего июля вечером передовые части немцев вышли к Дону. Неширокая, с пологими берегами река, облитая потускневшей медью остывающего, почти севшего солнца, дохнула теплой влажностью, прибрежной зеленью и распаренным песком. Река как река. Ее совсем нельзя было назвать большой: таких рек перейдено немало, и немецкие солдаты глядели на нее, словно недоумевая, зачем надо было стоически рваться к ней как к рубежу славы, победы и перемены всей жизни.
Пока солдаты по привычке настороженно обегали глазами берега, кусты, промоины, запади и реку, какой–то нетерпеливый и длинноволосый ефрейтор сдернул с головы каску и, размахивая ею, как котелком, побежал к реке, с разбегу забрел в воду и залил сапоги. На берегу утомленные солдаты вдруг осмелели, с веселыми, восторженными криками стали вылезать из укрытий и подбадривать и без того, вероятно, лихого юношу, который зачерпнет сейчас воды из глубинной русской реки и станет пить, с радостной щедростью проливая мимо почти все, что зачерпнет. От тихой воды в кротких, но мудрых красках вечера, от фигуры молодого солдата, еще не сложившегося мужчины с длинной спиной и узкими бедрами, от того, что он, вызывающе раздвинув ноги, твердо стоял по колено в неведомой, но тихой реке, веяло добытым покоем и жданной покорностью.
А ефрейтор поднес к губам полную каску, но вдруг уронил ее и так, держа перед лицом свои опустевшие ладони, опрокинулся в воду – с той стороны докатился звук одиночного выстрела. Каска не захлебнулась – ее подхватило течением и понесло.
Противоположный берег затаенно молчал. Немцы опять припали к земле и с хищной осторожностью начали вглядываться в затуманенную заречную даль. После короткого и преждевременного восторга каждый напряженно почувствовал неодолимость враждебных просторов и горячее желание уйти на родину, чтобы не знать больше этих обманчивых смертельных радостей.
В этот же, казалось, победный день начальник штаба группы армий «Б» генерал Зонденшерн с надежной оказией послал личное письмецо своему кузену Францу Гальдеру, начальнику штаба сухопутных войск вермахта.
Вот оно:
«Горшечное. 3 июля 1942 года.
Дорогой Франц!
Наш выход к Дону вряд ли можно назвать победой в лучшем понимании. Последние бои мы вели на равнинных просторах, где есть неограниченные возможности применять подвижные войска, чего мы так заветно ждали, но русские учли уроки прошлого и изменили свою тактику. Для них стало важнее сохранить войска, чем оборонять каждую пядь земли. Но так как темпы нашего продвижения оставались сравнительно высокими, русским не удавалось полностью оторваться от преследования; мы вели беспрерывные фронтальные бои, в которых, разумеется, понесли невероятные потери. Фюрер требует от нас успешных ударов на юг, но мы не можем этого сделать – мы поставим перед гибелью все свои силы! Ты, Франц, должен убедить фюрера, что надо взять Воронеж и стать в жесткую оборону, чтобы надежно прикрыть действия Паулюса. Сами мы без дополнительных войск и техники наступать на юг не в силах.
С уверением в искренности. Хайль Гитлер. Твой Э. 3».
Франц Гальдер хотел, но уже не мог помочь своему кузену, так как фюрер знал, что командующий группой армий «Б» фельдмаршал фон Бок на донском предполье допустил ту самую ошибку, от которой он, фюрер, предостерегал своих генералов на полтавском совещании и теперь не мог простить ее старому полководцу. Ошибка Бока состояла в следующем.
Действуя по выверенному шаблону, Бок все время стремился охватить и окружить советские войска в крупных оперативных масштабах; не считаясь с обстановкой, он дерзостно забрасывал свои подвижные части как можно дальше в глубь нашей обороны, но не мог добиться решающего успеха, а его войска вышли к Дону обескровленными, израсходовав весь боезапас наступательного духа. Даже моторизованная дивизия «Великая Германия», которую Гитлер приказывал фон Боку беречь пуще глаза для наступления на юг за Доном, почти вся легла костьми на Олыме.
Невозместимый расход фашистских войск на дальних и ближних подступах к Дону произошел потому, что командиры Красной Армии, такие, как полковник Заварухин, определявшие тактический ход войны, не просто рвались в бой очертя голову, а всеми силами постигали и постигли сложное искусство маневра, когда за победу брались не только отбитые у врага земли, а полное истребление врага при малых своих потерях.
* * *
Разгневанный Гитлер отстранил от должности фельдмаршала фон Бока, а пока шла смена командования, перегруппировка и подтягивание сил, фашистские войска на Дону замешкались, потеряли темп наступления.
Пользуясь заминкой фашистов, Ставка Верховного Главнокомандования Красной Армии незамедлительно приняла решение: силами танковой армии из района Ельца нанести внезапный фланговый удар по северному фасу фашистской группы армий «Б» и отсечь все, что рвется на Воронеж.
Этот план обещал доказуемый успех, потому что: во – первых, все фашистские войска, включая и оперативные резервы, были связаны неослабевающими боями; во–вторых, в силу стремительного продвижения на восток подвижные части фашистов оторвались от тыловых коммуникаций и растянулись; в-третьих, фланги наступающих оставались незакрепленными в ходе боев и были сравнительно легко уязвимы. И наконец, последнее. Танковая армия, дислоцировавшаяся в районе Ельца, могла быстро, своим ходом, выйти на рубежи атак и достигнуть известной внезапности.
В кабинете Верховного, где обсуждался окончательный план операции, больше всех, пожалуй, тревожился за успех танкового удара начальник Генерального штаба генерал–полковник Василевский. Он чувствовал, что момент ввода в сражение танковых войск упущен, но, как и все, хотел верить в победу. Кроме того, сводная строевая записка Танковой армии и Брянского фронта, лежавшая в папке Василевского, удерживала генерала от унылых предположений. В самом деле, на перехвате к Воронежу можно было сразу использовать против немцев до восьмисот танков, из которых около пятисот были новейшей конструкции Т-34 и КВ. За год войны никогда еще не удавалось для одного удара создать такой могучий бронированный таран.
Но сомнения не покинули Василевского и после совещания. И вечером, идя к Верховному с очередным докладом, генерал решил высказать свои опасения за исход операции.
Танковая армия в ходе последних боев могла успешно решить сложные оперативные задачи и резко изменить обстановку в нашу пользу, по командование Брянского фронта не сумело обеспечить быстрый ввод в бой таких небывало крупных подвижных сил. А сейчас, когда нет стабильной обороны, когда пехотные части понесли в боях большие потери, общевойсковые командиры не смогут на любом рубеже поддержать танкистов, закрепить и развить их успех. Для того чтобы добиться полного взаимодействия пехоты и танков, самое малое нужен недельный срок, в течение которого Генеральный штаб поможет Брянскому фронту. Вот об этом и собирался говорить
Василевский с Верховным, хотя и знал нетерпимость Сталина ко всяким проволочкам с наступательными операциями.
Василевский грузно и мягко ступал по бесконечной ковровой дорожке, по которой, казалось, никто и никогда не ходит. Здесь, на этаже, где работает Сталин, все было так расписано и организовано, что люди почти не встречались друг с другом, и в тихом, безлюдном коридоре всегда можно было сосредоточиться и собраться с мыслями.
«И вообще, – размышлял Василевский, – на фронт с каждым днем прибывает все больше и больше техники, а воюем по–пехотному: винтовочку в руки и – под новый кустик. И методы и размахи у наших военачальников пехотные. Да нет уж, теперь извини–подвинься и выходи на поле, чтоб тебя не сдвинули…»
Василевский прошел мимо открытых дверей, где всегда сидел полковник охраны, не имевший привычки ни перед кем вставать.
В кабинете Сталина за длинным столом сидел Ворошилов и в развернутой перед ним папке читал какие–то листки. Истонченные губы маршала были строго поджаты, легкие, как паутинка, седые волосы, расчесанные на пробор, распушились, сам маршал, всегда подтянутый и аккуратный до последнего ноготка, выглядел мятым и нездоровым стариком. Верховный, стоя за своим столом, разговаривал по телефону – по белой трубке аппарата Василевский определил, что на другом конце провода штаб Тимошенко. Горевшая на столе лампа под зеленым абажуром бросала на веки Сталина темные тени, и тени эти не стали светлей, когда Верховный, закончив разговор по телефону, вышел из–за стола.
– Почему Голиков не спешит с контрударом, товарищ Василевский? – спросил Сталин и прошел мимо генерала, не поглядев на него, вероятно, не интересовался тем, что ответит начальник Генштаба, и в самом деле, тут же заговорил сам, четко, через паузы произнося каждое слово: – Если мы еще хоть на сутки отложим удар из–под Ельца, немцы возьмут в плен и Голикова, и его штаб, а маршал Тимошенко будет под Саратовом. Мы считаем, товарищ Василевский, вам надо немедленно вылететь в Елец и взять на себя все вопросы координации усилий Брянского фронта и Танковой армии. Голиков не сможет сам организовать контрудар, упустит время и откроет немцам дорогу на Тамбов.
Ворошилов прервал чтение листков и тоже внимательно стал слушать Сталина.
– Наши командующие забывают, – Сталин заботился выговаривать каждое слово, и оттого речь его становилась более акцентной и замедленной, – они забывают, что каждый новый клочок советской земли, захваченной немцами, делает их сильнее и ослабляет нашу обороноспособность. Мы не можем отступать дальше. Надо прекратить всякое отступление под всякими видами. Кажется, действительно, пришла пора поставить вопрос ребром: командиры и политработники, чья часть отступлением без приказа запятнала свои знамена, не должны ждать снисхождения от Родины. Тот, кто дрогнул на поле боя, вместо того чтобы стоять насмерть, будет проклят народом как отступник, который отдает свой народ под ярмо немецких угнетателей.
Сталин заметно разволновался и, молча ступая по ковровой дорожке на всю подошву мягких сапожек, неспокойно перекладывал из руки в руку свою холодную трубку. Ворошилов и Василевский следили за ним. Вдруг Сталин, не дойдя до конца дорожки перед дверьми, докуда обычно прохаживал, остановился, постоял немного, словно прислушивался к чему–то, и пошел обратно. Темно–густые медлительные глаза его, прикрытые тяжелыми веками, светились напряженным, но холодным светом. Ворошилов понял, что сейчас Сталин скажет самое важное.
– Немцы воюют не лучше нас, – продолжал Сталин, дважды в молчаливом раздумье промерив свой кабинет некрупным шагом. – Немцы воюют не лучше нас – это признал весь мир и признают сами немцы. Но у немцев больше организованности, больше порядка. Крепче скованы все звенья военной машины. Почему? Потому что у немцев высокая дисциплина. И нам надо поучиться у них этой дисциплине. Учился же Петр Великий у шведов и бил их потом. Товарищ Ворошилов, надо в деталях обсудить письмо фронтовых товарищей. Еще неделю назад у нас не было такой необходимости. А теперь такая необходимость налицо. Давайте подумаем над этим вопросом. Мы в самом деле забыли Ленина. Помните, писал он, обращаясь к Красной Армии: «Кто… не поддерживает изо всех сил порядка и дисциплины в ней, тот предатель и изменник… того надо истреблять беспощадно».
Сталин успокоился, прошел к своему креслу и сел. Отодвинул на край столешницы газеты и поднял глаза на Василевского – тот положил перед Верховным папку с документами.
Сталин читал документы, делал в них пометки толстым красным карандашом, но Ворошилов знал, что Верховный умеет одновременно читать и слушать, и начал говорить:
– Конечно, товарищ Сталин, в основе нашей дисциплины будет по–прежнему оставаться высокая классовая сознательность, но, учитывая, что большинство наших новых формирований собирается на скорую руку, люди не успевают приглядеться друг к другу, командиры, бывает, ведут в бой части и подразделения, глубоко не зная их моральных качеств и степени стойкости. В такой обстановке порой поднимают голос трусы, паникеры. Люди теряют веру в свои силы, никто не считает себя виноватым за сданные рубежи и проигранные сражения. И надо беспощадной рукой останавливать трусов, а сдавших рубежи принуждать возвращать отданное врагу. Перед суровой и справедливой рукой Родины будут все в ответе, от рядового до маршала, поднимется организованность в войсках, а вскоре и отпадет необходимость применять этот суровый закон войны. Да, да, товарищ Сталин, я за эти меры.
Ворошилов вдруг умолк и поджал губы, увидев, что Сталин нахмурился, вероятно стараясь сосредоточить все свое внимание на очередном документе. Затем Сталин снова просматривал бумаги быстро и бегло, потому что каждая из них, как правило, была уже раньше обговорена и согласована с ним в той или иной степени. Над последним документом он опять нахмурился, поднял левое плечо. Но вот красный карандаш всей гранью спокойно лег на стол. Верховный начал закуривать. Василевский закрыл сафьяновую папку. Ворошилов встал. Раскурив трубку, Сталин вяло помахал горевшей спичкой, не потушив ее, задул, поднеся к губам.
– Я подготовлю свое заключение, – сказал Ворошилов, бережно держа свою папку в обеих руках, палец к пальцу.
– Когда вы, товарищ Василевский, можете выехать в Елец? – глядя на Ворошилова, спросил Сталин.
– Через два часа, товарищ Сталин.
– Имейте в виду, Ставка весьма обеспокоена положением дел и на центральном участке фронта, потому время пребывания у Голикова для вас ограничено.
– Да, товарищ Сталин, я это знаю.
– До свидания, товарищ Василевский.
Генерал вышел, заботливо прикрыв за собой дверь.
Сталин, не вынимая из зубов трубку, раздумчиво попыхивал, тяжело облокотившись на кромку стола.
– Не обидим ли мы, товарищ Ворошилов, этим своим приказом нашу армию?
Ворошилов, приглашенный тоном Верховного для беседы и совета, сел.
– В русской армии, товарищ Сталин, всегда была суровая дисциплина. – Ворошилов настойчиво выискивал глазами взгляд Верховного, выразительно положив на свою папку белую пухлую ладонь.
– Где страх, там конец военному искусству, – горько усмехнулся Сталин. – Мы прибегаем к тонкому, если хотите, обоюдоострому инструменту, – медленно и внушительно вновь заговорил Сталин, короткими, но выразительными жестами прямой руки подчеркивая каждое слово свое. – Сможем ли мы так же тонко пользоваться этим инструментом? Начало войны показало, как мы были не правы, исключив из нашей стратегии отход. – Сталин подошел к своему столу, взял с его дальнего левого угла книгу в толстом старинном переплете, по закладке открыл нужную страницу и стал читать, не особенно пристально вглядываясь в строки – вероятно, он уже не первый раз обращался к ним: – «С потерянием Москвы не потеряна еще Россия. И первой обязанностью постановляет он сберечь армию, приблизиться к тем войскам, которые идут к ней на подкрепление, и самим уступлением Москвы приготовить неприятелю неизбежную гибель, и потому намерен, пройдя Москву, отступить по Рязанской дороге. Так, я вижу, что мне придется поплатиться за все, но жертвую собою для блага Отечества и приказываю отступать». – Сталин закрыл книгу, оставив указательный палец между страниц, помолчал и, подняв глаза на маршала, спросил: – А не отойди Михаил Илларионович с Бородина?
– Мы, товарищ Сталин, оставили немцам более пятидесяти миллионов человек, и вряд ли урок Кутузова применим к условиям нынешней войны.
– Но маневр, товарищ Ворошилов?
– Маневр бесспорен.
– Да, да, – соглашаясь с какими–то своими мыслями, Сталин кивнул головой, положил книгу на прежнее место. – Да, да. Надо издать хороший, грамотный, если хотите, публицистический приказ, который носил бы столь же политический, сколько и военный характер. Приказ: «Ни шагу назад!»
– Думаю, товарищ Сталин, это и есть то самое, что мы ищем, – с искренним воодушевлением сказал Ворошилов.
– Все так. Все так… Словом, надо готовить этот вопрос. Безотлагательно.
Когда ушел Ворошилов, Сталин зачем–то, вероятно бессознательно, проверил, плотно ли закрыта дверь, и стал ходить от дверей в самый дальний угол кабинета, огибая свой стол. Он с мучительной настойчивостью думал о том, что каждый новый день приносит вести одну хуже другой. Положение на фронтах отчаянное: на восток отходит все южное крыло, не сегодня–завтра немцы возобновят атаки на Москву и Ленинград.
Сталин срезал свой путь к столу наискось широкой ковровой дорожки, позвонил; вошел, заботливо прикрыв за собою створку дверей, Поскребышев, всегда молчаливый, тихий и старательный, всегда с бледным лицом человека, мало бывающего на свежем воздухе.
– Который сейчас час, товарищ Поскребышев?
– Без двадцати минут полночь, товарищ Сталин.
– Прошу пригласить всех членов Комитета Обороны. Да, и распорядитесь, товарищ Поскребышев, подать нам чаю и бутербродов.
Когда вышел Поскребышев, куранты на Спасской башне пробили без четверти двенадцать. Сталин опустился в свое кресло и в раздумье закрыл глаза, сжав в маленьком кулаке свой подбородок. В его потерявшей покой душе, утомленной постоянным внешним спокойствием, поднималось множество мыслей, и среди них настойчивей других обнадеживающе светилась одна, которой он с утешением верил: «Народ и армия поймут все – иного имени, кроме Родины, для них на земле нету».
Танковая армия стояла в тылу на стыке двух фронтов – Западного и Брянского. Местоположение ее было продиктовано тем обстоятельством, что все еще было неясно, куда немцы развернут свое летнее генеральное наступление, о котором кричали все газеты мира.
Генерал Василевский с полуслова понял Верховного – Танковая армия должна помочь Брянскому фронту, оставаясь резервом Главного Командования, потому что положение на центральном участке фронта все еще напряженное и угрожающее. Из этого Василевский сделал еще один, правильный вывод: без разрешения Ставки с северного участка фронта нельзя взять ни одного артиллерийского полка, ни одной эскадрильи.
Вернувшись от Сталина, Василевский распорядился экстренно передать по телеграфу командованию Брянского фронта и Танковой армии задачу на контрудар, а сам, запросив у работников штаба карты и необходимые документы, стал укладываться. Уже перед самым выездом на аэродром позвонил в приемную Поскребышеву узнать, нет ли каких напутствий от Верховного. Поскребышев, о котором в шутку поговаривали, что у него слово по рублю, сухо, рублеными фразами передал:
– Верховного, товарищ Василевский, остро интересует необходимость принятия особых мер для стабилизации фронтов в свете письма фронтовиков. По возвращении будьте готовы к докладу Верховному и по этому вопросу. До свидания.
– До свидания.
С этим и вышел к машине.
* * *
Голикова по–прежнему не было в штабе фронта – он находился в Воронеже и был целиком занят его обороной.
Начальник штаба фронта генерал Бояринов имел слабую связь с отходящими войсками, а Танковая армия, по существу не подчиненная фронту, жила своей жизнью. С приездом Василевского генерал Бояринов вдруг оживился, воспрял духом и толково, вразумительно доложил, где и как лучше использовать танковые корпуса.
После короткой беседы в штабе фронта Василевский и Бояринов выехали на командный пункт Лазарева, командира танковой армии. В селе Карпы Лазарев, молодой генерал с удалыми глазами и бодрым голосом, в новеньком комбинезоне под широким комсоставским ремнем, встретил высокое начальство отдающим лихостью докладом, суть которого сводилась к тому, что танкисты вверенной ему армии готовы выполнить любую задачу. При обсуждении же операции в деталях обнаружилось то, чего боялся Василевский с самого начала: фронт не мог обеспечить выдвижение, развертывание и наступление танковых корпусов и бригад артиллерийским и авиационным сопровождением. Все, что имелось у фронта, Голиков затребовал под Воронеж. Перетягивать технику сейчас уже не было времени, да и нельзя оголять защиту города. И выходило, что танкисты на всю операцию оставались один на один со всеми видами вражеского вооружения. Но Лазарева это нимало не смущало: он по–удалому сверкал фарфоровыми белками лихих глаз и предлагал рассредоточить армию до стрелковых рот и сопровождать пехоту огнем и колесами, не отрываясь от пехотных цепей.
Василевский понимал, что, давая согласие на распыление танковых сил, он повторяет крупную ошибку того же Брянского фронта, но иного выхода не было: применять танки в едином кулаке без прочного авиационного прикрытия куда хуже и безнадежней. К тому же боевая решимость командарма совпадала с настроением танкистов, и начальник Генштаба после осмотра корпусов относительно успокоился.
В ночь на пятое июля танковые части были двинуты к исходным рубежам, чтобы нанести удар но северному фасу немецкой обороны в направлении Землянск, Хохол и отсечь фашистские коммуникации, питавшие переправы через Дон.
Колонны танков, бензовозов, ремонтных и подсобных машин шли по всем дорогам в низовьях Кшени и Олыма. Движение большой массы техники, конечно, не могла скрыть редкая темнота короткой июльской ночи, и воздушные разведчики немцев сразу же навели на наши войска штурмовую авиацию. Под ее интенсивными ударами выдвижение танкистов на рубежи атак задержалось почти на сутки, и момент внезапности был упущен. Первые броневые атаки немцы встретили почти организованным огнем противотанковой артиллерии и повсеместно удержали свои позиции. Только на правом берегу Олыма, в районе села Голымино, наши танковые и пехотные части продвинулись к югу от двадцати до тридцати километров. Версты были пройдены и небольшие, но именно здесь наши войска обломали стальные немецкие клинья, нацеленные с юга на Москву. Рубежи, на которые вышли стрелковые части под прикрытием танков, остались на всю войну неприступными для немцев!
Когда генералу Василевскому доложили, что под Голымино отличилась Камская дивизия полковника Заварухина, генерал пожелал увидеться с ним лично. Василевский всегда питал слабость к боевым командирам дивизионного звена, зная, что именно на плечи этих фронтовых тружеников ложатся все исходные тактических приемов и черновая работа при реализации оперативных замыслов. Во время выездов в действующую армию генерал никогда не упускал случая встретиться и поговорить с командирами полков или дивизий, находя в этих общениях надежную связь с жизнью войск и боевой действительностью. Но на этот раз предвиделся трудный разговор: он, начальник Генерального штаба, должен прямо сказать комдиву, к какому исключительному шагу готовится руководство страной и Красной Армией, чтобы безусловно прекратить дальнейшее отступление. Как это будет понято и принято в войсках? Шаг воистину неслыханный для Красной Армии, где вся дисциплина и весь порядок основаны на пролетарской сознательности. Эти вопросы жгуче волновали Василевского и не могли не волновать; он знал, он чувствовал, что и Сталин с нелегким сердцем шел на крутые меры.
Василевский со свойственной ему внутренней сдержанностью и тактом немного побаивался предстоящего разговора с комдивом и вместе с тем ждал его, надеясь разрешить многие свои сомнения.
Подъехал он к Голымино поздним вечером. Село стояло на горе, и в свете далекого воспаленного неба густо чернели сады. Возле них и остановились генеральские машины.
Дальше через болотце надо было идти пешком. В зелени садов укрылись ремонтники танков, и под кувалдами глухо звенела литая измученная сталь, тарахтел движок, свистя и задыхаясь, астматически дышал насос, кто–то разболтанной пилой швыркал по железу. Под плетнем на низенькой скамеечке сидели двое, совсем слившись, и девичий голос открыто и щекотно смеялся.
– Все вместе да вместе, платья шили парные – ну сестры одно что. А потом платье ли, косынку ли на ней увижу – золотом осыпь – такую не надену.
Тот, кто слушал девичий голос, громко, с мокрым всхлипом чихнул и обрадовался:
– Вишь, правда какая.
И умолкли, пережидая, когда пройдут люди, спускающиеся на гнилые, втоптанные в грязь слеги.
* * *
Полковник Заварухин и майор, командир танковой бригады, сидели в хате над картой, захватанной мазутными пальцами танкиста. Под низким потолком горела лампа с жестяным абажуром, заправленная нечистым бензином с солью, однако то и дело пыхала, на карту сыпалась сажа. За печкой стриг и стриг что–то, будто маленькими ножничками чикал, домовитый сверчок. В открытую дверь пахло коровником и молодой травой – ее принесли солдаты и расстилали в сенках за дверьми. Кто – то из них ползал по чердаку, и в щели прокопченного потолка текли струйки пересохшей земли.
– А ну слезьте, кто там еще! – крикнул Заварухин, подходя к порогу, и стал закрывать дверь, которую из темноты чья–то крепкая рука упрямо потянула назад. Полковник уж совсем сердито дернул было за кованую скобу и тут же отпустил ее: на порог шагнул плотный, крупного склада генерал, а в сенках, как тени, виднелись еще двое, но они, прикрыв дверь снаружи, в хату не вошли.
– Начальник Генерального штаба, – сказал Василевский усталым голосом и так же просто подал Заварухину руку, будто век был знаком с ним.
– Командир Камской дивизии… – немного смешался полковник, а генерал походя, по глазасто оглядел просторную хату, кивнул на лампу:
– Что, полковник, даже и осветиться уж нечем? Или не до того? Не до того, брат, не до того. Все в бегах, а?
– Разрешите идти, товарищ генерал? – спросил майор–танкист.
– Ступай, ступай, – согласился генерал. – Как же вы при таком свете, полковник?
Заварухин виновато глядел на коптевшую лампу, чувствуя, как жарко взмокают спина и плечи. А генерал, покашливая и хмурясь, залез за скрипучий крестьянский стол, с неудовольствием пошатал его, взявшись за края столешницы.
– Откуда отступаете, полковник? Садитесь только.
Заварухин присел на колченогую, прожженную под самоваром скамейку, поднял глаза на генерала и велел себе смотреть твердо и прямо: «Я делал все правильно и потому сохранил свою дивизию…»
– Отходит дивизия из–за реки Кшень.
– И еще думаете отступать? И далеко ли? Когда же землю–то родную освобождать думаете, ась? Как вы, полковник Заварухин, думаете обо всей этой материи?
Генерал сделал выжидающую паузу.
Полковник уронил плечи и, одеваясь мертвенной бледностью, не выдержал взгляда генерала. Бои за каждую дорогу и речонку, выходы из смертных клещей, гибель обозов, потерянный счет убитым и искалеченным, муки самой жизни и бессилия – все это, пережитое в немыслимых страданиях, оказалось, ничего не стоит. Да и не может стоить, потому что отданная врагу земля не перестала быть родною, и за то, что ее топчут сейчас чужие сапоги, она не простит. Даже не верилось, что подвиги, страхи, смерти, которыми ошеломленно жила дивизия, ее сегодняшний успех так обесценены, и у Заварухина для оправдания и защиты не находилось слов.
А генерал, широко облокотившись, наклонился к полковнику:
– Если и дальше так… доблестно воевать, вам не будет стыдно, полковник, перед своими бойцами?
Заварухин с откровенным недоумением поглядел на генерала и по его близкому напряженному лицу понял больше, чем было сказано. Ему вспомнилась атака немецких танков в открытой степи за Кшенью. При вражеском обстреле из танковых пушек и пулеметов наши бойцы своим телом закрывали бутылки с горючей смесью, чтоб их не разбило шальным осколком или пулей… И все – таки разбивало, бойцы горели, а надвигавшиеся танки нечем и некому было жечь.
– Не будет вам стыдно, спрашиваю, полковник?
– В том, что происходит, товарищ генерал, повинны все, от мала до велика, – со скрытой обидой и гневом проговорил полковник и, обретя над собою власть, решил высказаться до конца. – Вот вы, товарищ генерал, спрашиваете меня, стыдно ли мне? Хм. Стыдно ли? Позвольте быть по–партийному откровенным. Стыдно. Да. Стыдно за всех, кто в военном мундире. Мы ведь отступаем, товарищ генерал, от Черного моря и до Воронежа. Отступаем второй год, можно сказать. Ведь с первых же дней войны стало ясно, что от наших войск надо требовать большей стойкости. А мы часто оправдывали отступление внезапностью, эвакуацией тылов и прочими важными причинами. Я военный и не хочу, чтоб меня оправдывали в том, что меня бьют немцы, а Отечество в неслыханной опасности. Мы же, товарищ генерал, по солдатскому уставу знаем, что лишь стойкие части способны добыть победу и в сравнении с другими несут меньшие потери. Не были же сданы врагу Москва, Ленинград, Тула, потому что их обороняли стойкие части. А вооружены они тем же оружием, что и прочие войска. Мы же здесь, внизу, отмериваем немцам куски земли.