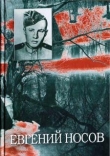Текст книги "Крещение (др. изд.)"
Автор книги: Иван Акулов
Жанры:
Историческая проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 39 (всего у книги 44 страниц)
– У меня не заверещишь.
Охватову сделалось жалко потерявшегося новичка, в груди неожиданно, но сильно дрогнула и зазвенела тугая забытая струна, и под влиянием давнего этого живучего чувства он зло подумал о пехотинцах: «Да что же вы за народ, черт вас возьми? Что за народ вы, коли не можете защитить своего товарища? Пехота…» – скомкал свою мысль Охватов и сказал солдатам:
– Что же вы товарища–то отдали? Или у каждого есть слёзная слабость?
– Видите ли, товарищ лейтенант, – сказал взводный, деликатно пожав плечами, – мы не готовились воевать вот так, на особицу. Думали, пойдем вперед всем фронтом, а сидеть и ждать, знаете, жутковато. Да и люди не обстреляны, товарищ лейтенант.
– А друг за друга надо все–таки стоять. Рукосуев! – крикнул Охватов и, догнав разведчика, миролюбиво сказал ему: – Ты что, Арканя, не знаешь, куда деть злость? Потерпи немножко.
То, что Рукосуев решительно обошелся с пехотинцами, Охватову понравилось: кто его знает, какой он будет, бой, и лучше приструнить людей, чем разжалобиться к ним.
– Тяжко на душе, вот меня и мутит. А эти в такую отчаянную минуту очки теряют, в слезы. А еще и боя не было. У кого же он защиты–то ищет? У моих сестер? У моей безногой матери? Коля, родной мой, – Рукосуев тоже назвал Охватова по имени и затрясся, – я знаю здешние места: если не удержимся тут – до самого Дона немец погонит. Нет, ты меня за руку не хватай! Не хватай, говорю!..
– Да ты иди успокойся и не куролесь: на твоих руках еще Тонька. Должен же за нее кто–то отвечать. А ты ступай в свой взвод и забудь, что за спиной есть дороги. Верно, что распатронились.
– Вот это слова, насчет Тоньки–то! Вот это слова! – немножко повеселел Рукосуев и направился к Тоньке, которая уже убрала и зеркало, и лепестки шиповника и не улыбалась.
– Недокур показался! – закричал от своего окопчика Пряжкин и, встав на колени, навесил над глазами ладонь.
Когда Недокур и двое ходивших с ним в разведку стали спускаться с дальнего увала, закрывавшего собою весь западный небосвод, можно было разглядеть, что они торопятся, а иногда и бегут, тяжело и неподатливо.
Вся оборона ожила, стала перекликаться. Потянулись к дороге, высказывая свои соображения:
– Порадуют сейчас.
– Да уж гляди.
– Последний–то, должно, совсем задохся.
– Мотоциклетку ба…
– А у меня была: пока жинка яишенку бьет, я в город по вино сгоняю. Только рубаха пузырится.
Встретились и отошли в сторонку. От Недокура так резко и густо разило горячим потом, что над ним, как над лошадью, с голодным жужжаньем вились оводы. В морщинки на шее набилась и намокла пыль, на пилотке чуть выше среза белела соль. Сняв вещевой мешок с автоматными дисками и гранатами, Недокур бросил его на дорогу:
– А это что за орава?
– Нам в помощь.
– Так они что, на толкучке? Вот же немец. Обороны–то нету больше. Смял немец все танками. Вон уж где.
Охватов хотел скомандовать по окопам, но бойцы сами побежали занимать свои места: их, видимо, предупредили недокуровские разведчики о близкой опасности.
– Значит, в прикрытии мы?
– А еще что?
– Всю оборону немцы смяли. На хуторе майор какой–то зацепился с полуротой за постройки, да вряд ли надолго. Мы уж думали, и не дотянем. А нас, выходит, в прикрытие?
– Воздух! – в несколько голосов забазланила оборона, и поднялась лихорадочная беготня, суета, крик.
А с запада, нависая над дорогой и полем, рассыпанным косяком приближались штурмовики, гудели с тем подвывом, по которому бойцы безошибочно угадывали фашистские самолеты.
– Двенадцать, – успели сосчитать.
Над лощиной самолеты зачем–то снизились, и те, кто еще имел выдержку наблюдать за ними с высотки, видели, как туго и неярко отразилось солнце в плексигласе их колпаков. Через окопчики бесплотно махнули простертые тени, все время нараставший вой моторов заметно опал, и солдаты уже готовы были поверить, что смерть, как и утром, пронесло, но вдруг всю высотку встряхнуло, ударило глубинной судорогой, и забарабанили взрывы один по другому, вперемежку, слитно. Разорванный воздух, дым, пыль, срезанная осколками трава и сами осколки – все это ударило по окопчикам, и редкий не покаялся в лени, чуя, как запохаживал по спинам смертный ветерок.
Три раза обернулись немцы над высоткой, осыпая ее мелкими бомбами и кропя из скорострельных пулеметов.
При очередном развороте они вдруг ушли на восток, и наступила быстрая тишина, которой трудно было поверить. Из завалившихся и оплывших укрытий небойко начали вылезать встрепанные солдаты, не узнавая ни друг друга, ни растерзанной и обожженной вокруг земли, ни искалеченных кустов шиповника.
Когда уж все были наверху, четыре самолета совсем бесшумно вернулись из–за лесистой балки и снова начали стрелять и бросать мелкие бомбы на высотку. Бывалые солдаты расторопно нырнули в свои окопчики и затаились, а новички поддались страху – кинулись по полю. За первыми побежали другие, и скоро все поле ожило от обороны до балки. Немецкие летчики снизили свои машины и расстреливали, как подвижные мишени, обезумевших и беспомощных людей, заботясь о том, чтобы с каждым заходом скосить как можно больше.
Налет для обороны был губителен: больше всего, конечно, пострадали пехотинцы.
Повторись еще такая воздушная атака, и немецкая пехота может строем пройти через убитую высоту.
XVI
Казалось, распахнутыми ярусами, затопив все небо и землю могучим рокотом, летели связи тяжелых бомбардировщиков. Где–то там, далеко на западе, они взяли высоту, направление, уставные интервалы и здесь, над увалами, проплывали сосредоточенно и стройно, может быть уже видя свои цели в дымах Касторного или Воронежа. Оттого что вражеские самолеты так спокойно и выверенно шли разрушать наши тылы, у солдат было ощущение, что нигде уже не осталось надежной земли.
Было жарко. Травы пылали от зноя. Чем–то до крайности растревоженные, ожесточенно гудели большие поганые мухи. На солнце быстро вяла и подсыхала поваленная осколками трава.
Пехотинцы хоронили убитых в сухой общей могиле. Среди убитых был и тот, что потерял свои очки.
– Себя, по существу, оплакал, – сказал взводный и, держа в кулаке наплечный ремень сумки, с явным сочувствием добавил: – Должно быть, дьявольская интуиция была у человека.
Охватов поглядел на меловое лицо убитого и увидел на его переносице черный надавыш от дужки очков, а молодые, не обмятые житьем губы все еще плакали.
Дальше всех убежал. Разумеется, интуитивно чувствовал.
– Не бегал бы – и жив остался.
– Не обстреляны, товарищ лейтенант. И вы, полагаю, поначалу метались.
Сержант сказал правду, и Охватов не нашел ответа,
осердился:
– Ты иди–ка лучше займись обороной. Час сроку, чтоб восстановить окопы. В полный рост чтобы были. Иди, иди, жив будешь, на это дело наглядишься. – Охватов кивнул на могилу, куда солдаты укладывали убитых один к одному, заворачивая им на лица подолы гимнастерок.
В мелкой придорожной канаве, страдая от болей и жажды, с синими, бескровными лицами лежали и сидели раненые.
Закатав рукава, гологоловая и расторопная Тонька споро рвала бинты, стягивала с полуживых рук и ног одежду, обувь, слушала стоны и матерщину, ползала на своих круглых коленях по земле, то и дело вытирая пот уголком марли, сунутой в нагрудный карман.
– Поругайся, поматерись – тут все свои, – со знанием истины авторитетно разрешала Тонька, а руки ее без видимого сострадания и бережи брались за раны, пугали неосторожностью, но именно под твердыми и решительными пальцами унималась боль, и солдаты с благоговением глядели на Тоньку, потому что она – единственный человечек в этот чудовищно жестокий час – разумно хотела помочь им.
– Голубушка! – стонал тамбовский солдат прищемленно и тихо. – Должна, поди, остановиться – изойду так–то.
Солдат был ранен в грудь и неумело обмотал рану рубашкой, располосованной гимнастеркой, однако все это намокло и сочилось кровью. Сам он захмелел и отупел от потери крови, только чувствовал, как давит его к земле жаркое солнце, и не ложился, боясь лечь и умереть. Когда мимо проходил лейтенант Охватов, тамбовский, бодрясь и торопясь, заговорил:
– У меня винтовка двенадцать тридцать три ноль три, с полуторным прицелом, ежели…
Охватов подумал, что это был исправный по службе солдат, и хотел сказать ему что–то утешительное и ободряющее, но подошла Тонька, испачканная кровью, некрасивая и деятельная:
– Как же я с ними, товарищ лейтенант? Много тяжелых.
– Кто может, пусть уходят в тыл. Тяжелых заберем при отходе.
Ничем не помог командир, – да и чем он мог помочь? – но сказал четко, определенно, будто все решил как надо. Тамбовский, с ранением в грудь, услышал слова лейтенанта и стал подниматься, выпучивая от боли и напряжения глаза, и вдруг повалился на спину, сухо ударился головой о приклад своей винтовки номер 123303, уходящие бутылочно–мутные глаза его мертво остановились.
«Только бы не так», – чего–то испугался Охватов и тут же забыл об этом, потому что из обороны закричали, что дозорные на увале дали две зеленые ракеты: значит, на дороге с запада кто–то замечен.
И действительно, скоро на гребне увала показались люди, гусеничный трактор с орудием на прицепе, повозки и опять люди.
Трактор уж почти спустился в лощину, а солдаты все шли и шли из–за увала. Может, от пыли, поднятой ими, или от нагретого воздуха солдаты казались серыми, как и ослепленная солнцем дорога.
Вдруг на увале, прямо в негустых рядах идущих, упал снаряд, и через несколько секунд до обороны докатился звук разрыва. И следующие снаряды прилетали с удивительной точностью: вероятно, артиллерийский наблюдатель хорошо видел и дорогу, и идущих по ней. Солдаты врассыпную потекли вниз, в лощину, – здесь их огонь не доставал.
– Уходят! Братцы, это что же такое! – истошно завопил Рукосуев и, подбежав к окопу бронебойщика, пал за ружье. Сам бронебойщик, на ощупь скобливший подбородок безопасной бритвой, глазом не успел моргнуть – Рукосуев выстрелил. Это был первый выстрел в обороне, и его слышали все, недоумевая, кто это и куда стрелял.
А трактор вдруг пошел боком, боком и, загородив дорогу, остановился.
– По изменникам Родины! – скрипел зубами Рукосуев и, отбиваясь от наседавшего бронебойщика, сделал еще три выстрела. Ошеломленное понизовье местами залегло, замешалось.
На выстрелы прибежал Охватов, бросился в окоп, отбил у Рукосуева ружье, а самого бойца, остервеневшего и махавшего кулаками, они с бронебойщиком выбросили из окопа. И в тот жe миг близко на дороге разорвался дальнобойный снаряд. Рукосуев вдруг подломился на своих крепких ногах, лег на землю и начал подгребать к себе что–то плывущее у него из рук, уже перемешанное с глиной, но все еще живое, светло–розовое.
– Напрасно это мы его, – вздохнул бронебойщик. – Не то мы сделали. Не то.
Наверх поднимались отходившие и были до того измучены и утомлены, что тут же у обороны ложились, прося бинт, воды или курева. Они не могли даже возмущаться, что по ним стреляли. И только малорослый, но командирского вида человек в синих комсоставских брюках и невыгоревшей – значит, суконной – пилотке кричал что–то, размахивая пистолетом. «Вишь ты! – глядя на его воинственную фигурку, осердился Охватов. – Отходишь, и помалкивай в тряпочку. А то еще права качать станет…»
– Кто тут стрелял? Я спрашиваю, командует кто?
Это был пожилой командир, сухопарый, с тонкими ногами, перехваченными в икрах зауженными голенищами. Воинственная легкая и голенастая фигурка его была очень знакома, но самого человека Охватов не мог узнать.
– Кто командует? – шагая вдоль обороны, кричал командир, раскачивая отяжеленной пистолетом рукой. Охватов вроде бы слышал когда–то этот несильный голос, но не хотел узнавать его, а разглядывал Рукосуева и ничего не мог сделать с подступившими к горлу слезами.
Лейтенант не любил, часто не понимал Рукосуева, но ценил его, верил ему и в чем–то даже готов был походить на него. Рукосуеву нравилось, да он и умел, подавлять людей и, может быть, потому не имел друзей. В вылазках был бесстрашен, упрям, настойчив в выполнении задания, во имя чего ни капли не берег себя и уж совсем ни во что не ставил жизнь своих товарищей. Разведчики втайне даже побаивались ходить с ним в одной группе, хотя он никогда не оставлял в беде напарника. Храбрый до полной безответственности, Рукосуев иногда перед самым выходом в поиск непреклонно заявлял:
– Стреляй – не пойду. У этого проклятого Недокура опять вся рожа красными пятнами взялась.
– Ну не пойдет он, – уговаривал Охватов.
– Да не в нем дело. Просто ослабление духа. Никак ты этого не поймешь.
Рукосуев был груб, похабен и в то же время трогательно и заботливо любил своих сестер, а Тоньку носил на руках и лаской привязал к себе, хотя и был много старше ее. Он совсем не пил вина, но в вылазках при случае прихватывал, а потом угощал разведчиков и жестоко пушил их за то, что они мало знают песен и не любят петь. В такие минуты он откровенно, с трезвой и потому страшной настойчивостью говорил:
– Не я командую вами! Ах, не я! Я бы вам всучил щетинку.
Охватов глядел на Рукосуева, который уже вне сознания все еще сжимал кулаки и со скрипом жевал землю своими изломанными зубами.
– Ты тут командуешь? – спросил подполковник, дулом пистолета поворачивая к себе Охватова – тот повернулся и некоторое время слепым взором глядел на командира, не понимая его вопросов. – Ты знаешь, что бывает за такие штучки?
– Ошалел вот один. – Охватов пошевелил автоматом в сторону окопчика, и подполковник все понял, но потока злости своей не мог остановить.
– Ты командир или у тебя всяк себе командир?
– Я, товарищ подполковник, докладываю вам, что ошалел вот один, у него сестры и больная мать в Воронеже.
Подполковник вдруг остолбенел, и маленькое свирепое личико его обмякло, и он, не веря и удивляясь, спросил:
– Да ведь ты Охватов?
– Я, товарищ подполковник, – узнав своего бывшего комбата майора Афанасьева, промолвил Охватов и прерывисто, со всхлипом вздохнул – хотел обрадоваться встрече и не мог, хотел обнять Афанасьева, как отца, и побоялся, хотел заплакать от вины и отчаяния, но все это подавил в себе, горько и растерянно улыбаясь.
Подполковник зачем–то пристально посмотрел на убитого солдата, на его крупную голову в сальных, черных волосах и не то спросил, не то утвердил:
– Все еще пьем чашу крестных мук. А ты, видать, садовая головушка, в заслоне? Жаль, а чем я тебе помогу? Вот без малого на весь полк три патрона. – Афанасьев похлопал по кобуре и подал руку Охватову: – Давай держись. Бог даст, увидимся. Я о тебе хорошо помню. – Подполковник крепким шагом пошел к дороге, но вдруг обернулся и спросил: – Ольга–то Коровина – как? Я знал, что так оно и будет. Жертвенности много было в ее лице.
– А у меня? – с невольной тревогой вырвалось у Охватова и, чтобы придать вопросу шутливый тон, улыбнулся тускло и неловко.
– На тебе, Охватов, вся Россия держится. Береги себя, елико возможно. Встать! Шагом марш!
Афанасьев опять пошел, и Охватову показалось странным, что они ни о чем не поговорили, крикнул вслед:
– Что же вы ничего–то не сказали, товарищ подполковник? – И побежал, догнал Афанасьева, пошел рядом, заглядывая ему в лицо.
– «Не сказал», «не сказал». Верно ты говоришь, ничего не сказал. Горько на сердце – вот и сказ весь. – Афанасьев зачем–то опасливо огляделся. – Не первый день воюешь, чувствовать должен: в мешок немец взял, видать, всю армию, а вот затянул ли устье – этого не скажу.
– Может, и нам сняться? – стыдясь, спросил Охватов и тут же оправдался: – Позиция плевая. На макушке.
– Уж это ты реши сам. Не я ставил – не мне и снимать. На мой взгляд, тебе ждать надо немца и… Устье немец не завяжет – не прошлый год.
– И на том спасибо, товарищ подполковник.
– Какое уж там спасибо. За что спасибо–то? Что оставляю одного?
– Да я вообще. Рад я, что вы живы, увидел вас.
– Ну, стало быть, еще увидимся. К флангам прислушивайся. Тоже ведь чести мало, если обложат, как зверя. Держись давай.
Бойцы Афанасьева поднялись, пошли, и подполковник смешался с ними. Запылили. Три подводы с ранеными выбрались на увал, и ездовые, нарвавшие зеленой травы в лощине, на ходу из рук кормили лошадей.
Раненые и совсем ослабевшие шли, цепляясь за оглобли и борта повозок. В общем потоке были и безоружные, а иные несли свои винтовки на плече как дубину, и оттого вся колонна мало походила на войско. Шли распояской, безрубашные, перевязанные по телу, несли на привязи руки, хромали, шли черные от злобы и солнца.
Охватов вернулся к обороне. Не желая того сам, вышел опять на Рукосуева, увидел возле него Тоньку и с осознанным страданием вспомнил все. Тонька, припав к плечу солдата, горько плакала, стянув на лицо со своей маленькой стриженой головки зеленый платок.
Из низины по опустевшей дороге через силу крупно шагал рослый и кривоногий грузин, который довесил винтовку себе на шею и держался за нее обеими руками, толсто и неумело перевязанными в локтях исполосованной гимнастеркой.
«Будем стоять насмерть», – подумал Охватов и, направляясь к пехотинцам, с ненавистью к немцам и палящему солнцу подтвердил свою мысль вслух:
– Будем держаться здесь до смерти.
А в голове где–то сами собой жили и повторялись слова Афанасьева: «крестные муки», «крестные муки».
– Гляньте–ка! – перепуганно указал большеротый пехотинец и оборвал внутреннюю работу в Охватове. На увале, закрывающем запад, появились мотоциклисты. Распихивая их в стороны, по дороге один за другим подошли три легких танка. Остановились.
В обороне нервно защелкали затворы.
XVII
Штабы дивизий и армии при неожиданно быстром перемещении боевых порядков не могли наладить устойчивой взаимной связи, а после сильных бомбардировок штаба и командного пункта генерал Березов окончательно потерял управление войсками. Обстановка менялась так стремительно, что офицеры связи искали и чаще всего не находили штабов частей и соединений.
Генерала Березова больше всего тревожил правый фланг, откуда была снята Камская дивизия и куда немцы наносили свой главный удар. Почти в полном неведении, изнервничавшись и потеряв терпение, Березов решил сам ехать к северному крылу. Он взял полуторку, находя ее удобней легковой машины: она и проходимей, не привлекает к себе особого внимания немецких летчиков, а в кузов можно посадить радиста и охрану. Так и сделал.
Машина, еще совсем новая, пахла краской и молодой резиной, но кабина из–за нехватки железа была затянута брезентом, который при езде хлопал, надувался и пропускал пыль.
На Сужме, неширокой, но глубокой речушке, пришлось ожидать, когда саперы закончат ремонт мостика, вчистую снесенного бомбой. Поблизости не было леса, и саперы на себе таскали бревна из деревни. На бревнах болтались обрывки обоев, клочья старой пакли. Другой переправы поблизости не было, и, чтобы ускорить дело, генерал дал саперам свою машину на одну ездку. Сам сел в тени куста, развернул карту и стал определять местоположение правофланговых частей. Автоматчики из охраны быстро разделись и упали в воду. Уже не одну неделю стояла глухая жара, а вода в Сужме была холодная, и солдаты поджимали локти, сдержанно крякали, окатили чересчур осторожного и захохотали; один из них так увлекся брызганием, что заржал на всю речку; генерал неодобрительно поглядел на автоматчиков, а в душе позавидовал их ребяческой беспечности, подумав о том, что не помнит, когда сам от души смеялся. А умел в свое время и пошутить, и посмеяться был мастер, да потом запретил сам себе даже улыбаться: генерал. Молод был – подгонял себя под высокий чин.
Солдаты увидели лицо генерала, смолкли, вспомнив, кто они, где они и что ждет их через час–два, присмирели, стали одеваться молчком.
За кустом, под которым сидел генерал, саперы крутили точило и правили на нем топоры – наждак шершаво и сочно лизал железо, позванивал им.
Саперы вели несколько странное рассуждение, состязаясь в скрытой иронии:
– Этот, как его, опять топор утопил.
– Дыть ладно, хоть сам не утоп. А топор всплывет.
– На низу выловят, коли не набухнет.
– Вода студеная, где набухнуть. У нас озеро Куям на родниках, так ведь ломы не тонут.
– Ну–ну. У нас тоже весной мальчишки на рельсах плавают.
– Железо – небось не качнет. А то нас, помню, ох как качнуло, ох качнуло, подумаю, теперь дерет по коже, будто волки лижут, ей–богу. Нас ведь по первой–то военной воде не вывезли, и ждали мы нынешней водополицы. А пароход пришел – нас всех да на него. Насобиралось со всего–то Ошима тыщи три, а может, и того больше – кто считал. Посадили. Народищу на берегу – только что в реку не сыплются. Вся тайга выперла. Ревмя ревет. А уж как стали отваливать – завыли и на пароходе. А капитан–то парохода – наш рожак, с Ошима, – возьми да придумай для землячков прощальный круг. Как стал он разворачиваться–то, мы с одного борта да на другой. Да каждому ближе к борту охота, чтобы родных в последний раз увидеть. Как ссыпались все–то три тыщи, лесной их забери, на один бок – он, пароходик–то милый, неспособный к этому делу, и повалился. И повалился вот прямо. Выпадывать зачали. Какие послабже, сами наладились сигать…
– А оружия с собой не было? Винтовок, пулеметов…
– Да какое оружие у рекрутов? К чему оно?
– На пулемете, скажем, выплыть бы можно.
– Нет, не было. Кто же знал такую притчу. Знать бы. Знать, я б наковаленку прихватил. Есть у меня, зря ржавеет под амбаром.
Разговор как–то неожиданно оборвался, и затрещали кусты. Автоматчики, гревшиеся на песке у воды, бросились под невысокий обрывчик, запинаясь за обломки старого моста. Из–за шума кустов и топота генерал не сразу услышал гул приближающихся самолетов, а когда услышал, искать укрытие было уже поздно. Приласкался к земле, обнял ее, но все равно неуютно лежалось, весь на виду, и первый раз в жизни показался себе обременительно длинным, большим ни к чему, а дальше уж одно к одному: отравился вдруг унизительной обидой, что был одинок и беспомощен, что недопонимал чего–то в происходящих событиях. С утра сегодня почувствовал, что жестоко обманулся в своих ожиданиях, хотя и не имел на это права.
Самолеты, вероятно, были порожние и прошли так низко, что, казалось, зашумела листва от их винтов, однако все этим и кончилось.
Саперы снова затрещали кустами и начали крутить точило. От них потянуло дымом махорки, железной гарью, будто из кузницы.
– Все небо под себя подгребли, – судачливо заговорил один.
– Дыть только б небо. И землю.
– Пусть хапает. Землей и обожрется. Кутузов землей же француза обкормил. У каждого народа свое – у нас земля. Дать ему, чтоб заглотнул, а не проглотил. Вот и пусть заглотнет.
– Заглотнул уж, пожалуй.
– А ведь походит, слушай. Вот к зиме и лобанить его.
– К зиме. К зиме самая пора – портиться не станет. – Сапер весело захохотал. А генерал пыхнул крутым гневом, потому что, живя постоянной заботой об освобождении родной земли и зная, какой ценой приходится отбивать каждый метр ее, генерал не понял простодушного и мудрого смеха солдат, которые напоминали охотников, хорошо и надежно обложивших зверя и теперь как бы выжидающих удачной поры, чтоб залобанить его наповал.
Березов скомкал свою карту, сунул ее в планшет.
Вернулась с бревнами машина и угрожающе просела в топкий, затянутый жирной зеленью берег – все бросились вытаскивать ее, побежал и сам генерал, забыв о саперах, что точили топоры, а потом пожалел: надо бы хоть посмотреть на них. Но они вместе с другими катали бревна и были все одинаковы, в обмотках, мокрые, грязные, сосредоточенно–довольные дружной и спорой работой.
Когда по живому настилу переехали речку, генерал все–таки подозвал к себе командира саперного отделения и отемяшил его выговором:
– Плохо воспитываете своих людей. Очень плохо.
* * *
Степная дорога была пустынна, потому что вражеская авиация загнала всякое движение в овраги и перелески. В канавах на обочине да и прямо в колее валялись разбитые автомашины и повозки, снарядные ящики, артиллерийские стаканы, сожженный автобус с подвешенными и обгорелыми носилками, рваные мешки с крупой и сахаром, мятый самовар, трупы коней, окровавленная вата. Иногда в сторонке белел бинтами солдат – может, отдыхал, а может, уснул с концом.
Потом дорога осталась без телеграфных столбов, совсем задичала, видимо, отошла от торных путей. Генерал сверялся с картой, но местность была бедна ориентирами, становилась совсем неузнаваема. Раза два генерал останавливал машину, выходил на дорогу и прислушивался – мрачнел, то и дело нервно хлопал планшетом, закрывая и открывая его. Гром на западе вставал до неба и по бокам опадал с глубоким захлестом. Березов знал: чем ближе передовая, тем угрожающе подступившими кажутся ее гремящие фланги, они как бы затекают в глубину нашей обороны и справа и слева, пугая охватом. Так оно было и сейчас, и генерал старался не обращать внимания на это, однако не мог избавиться от нараставшей тревоги.
На одном из увалов дорогу преградили бойцы: с оружием, значит, шли к передовой – и просили подвезти. Шофер вопросительно глянул на генерала, готовый посадить ребят, но генерал будто не заметил ни солдат, ни их взмахов, ни вопросительного шоферского взгляда. Однако едва успели проскочить мимо, как тут же сзади разразилась дикая автоматная стрельба; пули завизжали над самой кабиной, и генерал приказал остановиться.
Еще скрипели тормоза, а дверцу кабины со стороны шофера уже распахнули, и потный белобрысый лейтенант закричал на шофера:
– Куда едешь, ты, разиня?
Березов узнал лейтенанта Охватова, и Охватов, глянув в глубину кабины, узнал генерала, изумился и испугался за него:
– Немцы же, товарищ генерал.
– Какие еще немцы? Какие немцы?
– Танки фашистские, – паническим шепотом сказал шофер, и Березов сразу поверил и сразу увидел впереди на увале немецкие машины.
– Разворачивай!
– Шофер схватился за рычаг скоростей, но Охватов остановил его:
– Ни с места! Вы, товарищ генерал, выйдите из машины – при развороте немец разнесет ее. Это он вас туда бы, к себе, допустил целехоньким.
Генералу было неловко и не хотелось выполнять данный как приказ совет лейтенанта, и уж совсем было обидным слово «целехоньким», но иного выхода не было, взялся за неразработанную ручку на дверце, а шофер все норовил включить скорость, и под кабиной скрежетало, обламывалось вроде. Наконец генерал открыл дверцу и вышел на дорогу.
Машина сорвалась с места, автоматчики едва успели переметнуться через борт – один упал, другой на него, – оба скатились в канаву.
Охватов сразу увел генерала за кусты шиповника, а на дорогу, где только что стояла машина, упал легкий снаряд. Второй брызнул насыпным бруствером окопчика перед лицом пехотинца, и пехотинец обвял, осел в своей ячейке под издырявленной пилоткой. Шофер почти развернул машину, когда у переднего колеса лопнул третий снаряд, и все разом смолкло, только что–то исходно шипело и вытекало из машины.
После короткой паузы по обороне стали жарить все три танка.
Снаряды летели с резким и стремительно–сильным звуком, но рвались тихо, будто за кустами солдаты выбивали свои пыльные шинели.
Охватов не знал, как вести себя при генерале; надо бы лечь на землю: обстрел густел, и нельзя было оставлять генерала на высотке.
– По–за кустами, товарищ генерал, к канаве, еще успеете. Уходить надо.
– А вы что на самом пупке? Кто вас тут поставил?
– В заслоне мы, товарищ генерал. Майор Филипенко поставил. Командир полка.
– Знаю вашего командира полка: хороший, боевой командир. – В кустах рядом разорвался снаряд, и осколок чиркнул по щеке генерала; тот запоздало ойкнул, заслонился ладонью. Не сразу нашел карман. Зажав щеку носовым платком, совсем простым и душевным голосом попросил: – Выведи в тыл, лейтенант, и подержитесь немного. Какая чертовщина вышла.
Охватов побежал к канаве, генерал – за ним. Когда
Охватов припадал к земле, пережидая свист очередного снаряда, генерал ненастойчиво, по–свойски торопил:
– Давай, давай – бог не выдаст, свинья не съест. Какая чертовщина, однако.
За перевалом высоты, уйдя с глаз немцев, генерал неаккуратно лег на скос канавы и, бледный, осунувшийся, с небольшой точеной головкой – фуражки на нем не было, – совсем ровней показался Охватову, который участливо глядел на генерала.
Тот перехватил эту жалость в глазах лейтенанта и опять просто повинился:
– Влопался я было. И так бывает. Не этому учился последнее время. Обходов, помнится?
– Охватов, товарищ генерал.
– Обход, охват… Давай, значит. – И генерал вдруг обнял Охватова за плечи: – Спасибо тебе.
Березов пошел по канаве, а Охватов вернулся к обороне. Уже за изломом дороги, на виду у немцев, в копанце наткнулся на генеральских автоматчиков – шугнул их, чтобы не оставляли генерала. «Где он их взял, таких? Вот этим и всыпать нелишне. И генерала своего, черти, бросили».
Машина была в огне. Убитый шофер запутался ногами в рычагах и, вывалившись из кабины на подножку, горел. Немецкие танки, сторонясь дороги, сползали с увала, стреляли из пушек. Мотоциклисты наверху ждали чего–то, рассыпая разноцветные ракеты.
Охватов побежал к петеэровцу, лег рядом с ним.
– Тонька что–то притихла, товарищ лейтенант. Не того ли уж ее? – сказал боец.
– Да ты о чем думаешь? – гневно удивился Охватов, но бронебойщик рассудительно ответил:
– Стрелять не время, товарищ лейтенант, а патроны, они не винтовочные – каждый на счету. Этот шалопутный и так сжег четыре штуки. Тонька, говорю, одна среди нас – вот и поглядываю.
– Ты вот лучше ударь, к трактору–то который подходит. По борту норови. Близко уж.
– К чему торопиться–то? Если б убегали. А коли сюда идут, так совсем ближе будут. Помешкать надо. Ушли бы вы от меня. Ну ладно ли учить под руку, товарищ лейтенант? – При обращении бронебойщик смягчился и виновато заискал что–то, охлопывая себя по карманам.
Из низины словно тихим дуновением явственно донесло разболтанный железный бряк. Мотоциклисты, поняв, что в обороне нет пушек, тоже стали спускаться. Над коляской одной из машин трепыхалось и опадало темное знамя на коротком древке.
В угор танки пошли напористее, на глазах страшно приближаясь. Засвистели, завизжали рои пуль – это стреляли с мотоциклов.
Зачастила дробно и беспорядочно оборона. Кратко, но весомо харкнуло бронебойное ружье. Вырвавшийся вперед и ближний к дороге танк остановился. Почему–то сбавили скорость и два других, но поравнялись с ним. И вдруг как по команде все три опять двинулись в гору, теперь уж совсем быстро в последнем броске. Гусеницы вздымали и далеко рассеивали охапки пыли, уже было видно, как она под ветерком густо перекипала, свивалась в тугие жгуты, которые временами накрывали машины вместе с башнями и пушками.
Рычание, пальба и лязг приближающихся танков, какое–то пронзительное трясение земли мешали сосредоточиться, мешали сделать что–то единственно верное и спасительное.