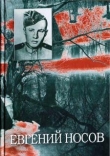Текст книги "Крещение (др. изд.)"
Автор книги: Иван Акулов
Жанры:
Историческая проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 26 (всего у книги 44 страниц)
Утро было пасмурное. Над снегами, под низким небом, стыла хрупкая тишина. Белый туман затопил все окрестности, и морозец отмяк. Устало и как–то озабоченно думал Охватов о капитане Филипенко, который обидно менялся на глазах: «Ну с нашим братом, бойцами, суров, жесток – это понятно: железная рука должна быть у командира. С уговорами да увещаниями пол-России немцу отдали… Но Ольгу–то как можно было бросить?.. А что ж делать, черт побери, если все на волоске висели. Все… И все же зверь ты, зверь! – снова ожесточился Охватов, не находя оправдания комбату. – Уйду я от него в роту».
Охватов вернул пулеметчикам волокушу и берегом пошел к деревне. Внизу, на реке, во весь рост спокойно ходили саперы, ставили мины, зарывая их в снег. В маленьком ободранном катерке, встывшем в лед, кто–то тренькал на балалайке и пел грубым, расхлябанными голосом:
Эх, Настасья ты, Настасья, Отворяй–ка ворота…
Охватову понравилось, что по реке, громко разговаривая, ходят саперы, а на катере дымится печурка и поют хорошую песню. «Вот так и быть должно. Наше все это, все это пропитано русским духом – по–хозяйски тут надо», – определенно и потому успокаиваясь, подумал Охватов, и обида на Филипенко улеглась, приутихла, но не исчезла и не погасла совсем.
Филипенко и политрук Савельев стояли у стены того разрушенного дома, под которым был немецкий дзот. Они смотрели, как бойцы выволакивали из дзота убитых немцев и уносили их в промоину, куда прежде крестьяне сваливали мусор и где буйно росла глухая крапива и нелюдимый репейник.
На пятнистой плащ–накидке тащил немца по земляным ступенькам боец с язвой желудка: был он пьяноват и кричал сам на себя, дурачась перед товарищами:
– Давай, сивка–бурка! Давай!
Увидев комбата, остолбенел, выронил из рук копцы палатки.
– Эй ты! – закричали ему снизу. – Чего стал?
Но боец стоял, не двигаясь, только вытер рукавицей вдруг вспотевший лоб.
– Ко мне! – приказал Филипенко и, пошевелив плечами под полушубком, двинул левой щекой.
Боец пошел к комбату, и уже ни во взгляде, ни в движениях его не заметно было больше ни растерянности, ни страха.
– Как твоя фамилия?
– Журочкин, товарищ капитан.
– Не убили тебя, Журочкин?
– Как видите.
– А дальше?
– Как прикажете, – отвечал Журочкин, смело и точно выцеливая взгляд комбата, и эта смелость, с какой глядел провинившийся боец, понравилась Филипенко.
– Чтоб это было последний раз.
– Есть, товарищ капитан, чтоб было последний раз.
– Иди.
Журочкин совсем осмелел от радости.
– Только уж, товарищ капитан, кто старое ворохнет…
Комбат так глянул на бойца, что тот мигом повернулся и побежал к своим товарищам, которые издали наблюдали за ним.
– Шельма, – сказал Филипенко Савельеву.
Подошел Охватов, хотел стать в сторонке.
– Ты где же был, Охватов? – спросил Филипенко, не повернувшись к нему и даже не глядя в его сторону, и обида на человеческую жестокость, мучившая Охватова все утро, прорвалась в нем неудержимо:
– Вы не дали Урусову вынести Ольгу Максимовну, и она… вот там, в ложке.
– Ты что сказал, а? – Филипенко шагнул к Охватову. – Ты что сказал?
– Вы ее бросили, товарищ капитан! – подхлестнутый свирепостью комбата, не отступал и Охватов. – Бросили!
– Да я тебя, мерзавец!.. – Филипенко схватил кобуру, но политрук Савельев крепко взял его за руку и успокоил:
– Да ты, никак, разгорячился! Не узнаю, что с тобой? Сержант Охватов, марш в свою роту. Быстро! Передай ротному, чтоб дал тебе отделение. Больше будет проку.
Часам к одиннадцати поднялся ветер. Он сбил туманец, разметал его, и проглянуло солнце, нежданно высокое и теплое. Со стороны Мценска, из–за реки, быстро нарастая, катился рокот: шли немецкие самолеты. Развернувшись в большое колесо, они низко пронеслись над Благовкой, кладбищем и оврагом, присмотрелись и начали бомбить. Сразу померкло солнце, и тяжелые дымы закрыли землю. Бойцы, рывшие окопы по берегу, скатились вниз и отсиделись под крутояром.
Охватова бомбежка застала в часовенке, где он с бойцами своей пятой роты грелся у костра, разведенного прямо на каменном полу. Возле часовенки упало пять или шесть бомб, но метровые стены только глухими вздохами отзывались на взрывы, да в толще их что–то постреливало и лопалось. Одна бомба ухнула на кирпичную паперть, сорвала с петель массивную дверь и так дунула на костер, что головешки, угли и зола обсыпали всех бойцов, полетели через окна, а бойцы, плюясь и чихая, отбивались от искр и углей, попавших на лица, под шинель, за шиворот.
Воздушная атака длилась минут пятнадцать, но потери от нее были незначительны, потому что бомбили немцы вслепую, не зная еще расположения русских. После бомбежки с нервным замиранием ждали артналета и контратаки, но передовые посты под берегом и на льду молчали. Беспокойство все больше и больше овладевало бойцами…
XXIV
Недели через полторы Камскую дивизию сняли с передовой и за два пеших перехода отвели на северо–восток для отдыха и укомплектования. Штаб дивизии разместился в селе Порховом, а полки – в близлежащих деревнях, на редкость сохранившихся от войны. Полк Заварухина, потерявший под Благовкой большую половину своего состава, стоял в небольшой деревушке Пильне, из которой в ясную погоду даже простым глазом можно было видеть Мценск и реку Зушу, разделившую его пополам. Над городом всегда висела сизая дымка, и уж только одно это придавало ему непостижимую загадочность.
Бойцы, свободные от занятий и нарядов, частенько выходили за околицу Пильни и, стоя на вытаявшем сыровато–теплом взлобке, подолгу глядели на закатную сторону, где в широченной долине реки лежали равнинные осевшие снега, чернели овраги, перелески и, приноравливаясь к петлям реки, вихляли две обороны: по эту сторону – наша, по ту – немецкая. Долина была хорошо видна и от немцев, с Замценских высот, и потому можно было часами глядеть в низину и не обнаружить там ни одной живой души: все таилось, все пряталось, а жизнь закипала с наступлением темноты. В сумерки оживали все дороги и тропы: к передовой везли кухни, по мокрому погибающему снегу тянули сани со снарядами, хлебом, мотками колючей проволоки, махоркой и обувью, а в тыл уезжали раненые бойцы и командиры, утомленные опасностью и лишениями окопной жизни. Иногда по последним километрам живых рельсов Тульско—Орловской железной дороги втихую, крадучись, без огней и дыма, выкатывался бронепоезд, торопливо стрелял по городу и так же торопливо скрывался. Ночами вся долина расцветала скоротечными огнями. Рвались мины и снаряды огонь; били зенитки – огонь; текучим огнем струились пулеметные трассы; горели ракеты, и там, где они висели, было от них светло, а издали, от Пильни, – просто так, жалкий огонек. Однажды наш ночной самолет – «кукурузник», на языке немецких солдат «рус–фанера», поджег в городе склад горючего, и с темной земли рванулось такое пламя, что огнем пыхнули облака и высокая боковина неблизкого элеватора; пламя буйствовало всю ночь, не утихая, а к утру его стали прошивать какие–то ярко–синие струи; одни утверждали, что это рвались бронебойные снаряды, а по словам других – немцы применили какое–то противопожарное средство. Последние, пожалуй, были правы, потому что огонь стал опадать и на рассвете потух совсем.
А еще через день бойцы Камской дивизии наблюдали из Пильни бой, какие именовались в сводках боями местного значения. Как стало известно потом, два наших полка ходили в атаку с целью захвата безымянных высоток, господствовавших над местностью. Утром бойцы ворвались во вражеские траншеи, а к вечеру под ударами с воздуха, взятые в обхват автоматчиками, отошли на исходные позиции с потерями.
Издали же для вооруженного биноклем глаза это побоище казалось совсем пустяковым: негусто рвались мины и снаряды, да и сами взрывы были игрушечными – брызнет снежком, и закудрявится над полем белый барашек порохового дыма. Уж на что страшна бомбежка и та от Пильни гляделась почти равнодушно, только взрывы от бомб были темные и почему–то вздымались, всплывали к небу замедленно, и это задевало душу робостью. И еще. Самолеты на виражах ярко вспыхивали в лучах заходящего солнца, но моторов их совсем не было слышно, и только иногда срывался с круга доведенный до самого предела вой, и те, кто бывал под бомбежкой, одевались мертвым румянцем.
– Разрешите глянуть, товарищ старшина, – попросил Охватов.
Артиллерист, бравый усатый старшина, вначале вроде бы не хотел давать, но потом снял с широкой дубленой груди бинокль и подал сержанту.
– Прямо глаза бы не глядели. Взять бы да к чертовой матери смахнуть всю эту бессмысленную кровавую грязь с земного шара.
– Ничего не вижу, – сказал Охватов.
– Ничего и не увидишь. Надо же настроить его. Вот эти втулочки поворачивай, сперва на правом глазу, потом на левом. Да левый–то пока закрой. Вот так. Наш командир дивизиона, удалая головушка, совсем, напримерно, не может видеть бой со стороны. Уйду–де в пехоту, к этим великомученикам. Конечно, там нелегко, а глядеть каково! Ох, я нагляделся. Вон куда гляди, в излучину, правее темного леса: там самый–то бой. Видишь что – нибудь?
– Перебегают с места на место, и все.
– Милый ты мой, весь бой состоит из перебежек. Пехота бегает, а ее бьют. Как всю выбьют – и бою конец. Сам–то ты, видать, не бывал еще в таких передрягах? Не бывал. То и видно. А боязно небось, сознайся?
– Охватов! Сержант Охватов, тебя командир роты! – Это прибежал ротный писарь Пряжкин, бледнолицый и большеротый боец с длинными напуганными ресницами. Родом Пряжкин орловский, окончил педучилище, а вместо «идти» говорит «идтить», да и вообще любит смягчать глаголы, и выходит у него: «они идуть» или «он зоветь».
– Что же ты, Охватов, такой мешкотный? Ротный тебя ждать должен?
Охватов и в самом деле не торопился уходить, немножко расстроенный тем, что старшина принял его за необстрелянного салагу. «А вот была бы хоть медаль, черт бы ее побери, – думал Охватов, – расстегнул бы я свою шинельку ненароком и прошел бы мимо, чтобы удивился усатый: вот тебе и не бывал в передрягах!»
– Ты, Охватов, идтить собираешься?
– «Идтить», «идтить», – огрызнулся Охватов и, отдав бинокль старшине, пошел за писарем. Пряжкин – боец стройный, крепко перехваченный ремнем, отчего короткая шинель сидит на нем колоколом: ходит он спокойно, по–девичьи откинув голову и не двигая руками. Охватов поглядел на него и повеселел: – Слушай, Пряжкин. Эй ты, писарь! Ты что такой, а?
– Какой?
– Да как тебе сказать, ну молодой, красивый, писаришь в роте – значит, грамотешка есть, а говоришь чудно: вот взял где–то слово «мешкотный». Что это за слово? Мешковатый, что ли? Или утром сегодня я спрашиваю тебя: «Почта есть, Пряжкин?» А ты мне: «Нетути». Слово русское, а говоришь ты его с какой–то прицепкой. Зачем?
Пряжкин расплылся вдруг в большеротой улыбке, весело захлопал своими испуганными ресницами:
– А ты, Охватов, странный парень, как я погляжу. Странный. Обратил внимание на мою речь. Удивительно мне это и приятно, Охватов. – У Пряжкина даже заалели щеки. – Мешкотный, Охватов, хорошее русское слово, от слова «мешкать». Слышал такое – «мешкать»?
– Ну как же.
– Мешкать, годить – ты только вдумайся, слова–то какие! А у нас взяли да причислили их к просторечным и лишили прав гражданства. Более того, Охватов, людей–то, что пользуются этими русскими, я бы сказал, глубинно – корневыми словами, причислили к второсортным.
– Кто же, Пряжкин, занимается таким вредным делом?
– Есть такие, кому немила родная речь. Это, Охватов, в двух словах не объяснишь. А ты, видать, интересный парень.
– Был бы интересный. Если бы не война, я бы учился дальше, – соврал Охватов, потому что дома никогда не жалел, что бросил учебу, и никогда не собирался возвращаться к ней, хотя в вечернюю школу и приглашали не один и не два раза. – После войны стариками вернемся, если вернемся.
– А ты что окончил, Охватов? Да, это мало. Знаешь, Охватов, совсем мало.
– Сам вижу.
– Ты, Охватов, заходи ко мне. Или я к тебе зайду. Вон ротный – иди доложись.
– Ты, сержант Охватов, слесарь? – спросил своим сиплым женским голосом командир роты лейтенант Корнюшкин.
– Так точно, слесарь.
– А по жести можешь?
– Слесарь–жестянщик же я.
– Ну, Охватов, сам бог тебя послал нам. Пойдем. А тепло уж совсем, верно? Дожили до тепла. Сломали зимушку–зиму. – Лейтенант расстегнул верхний крючок на своей серо–дерюжной шинели, отвернул борта: – Пополнение ждем, сержант, из Средней Азии. После дороги их кипятком не отпаришь. Да и сами–то мы не лучше. Будем строить баню. Баню и дезкамеру. Нужны трубы. Метров семь–восемь, а может, и десять. К утру ты должен их сделать. Материал? Найди. Прояви солдатскую находчивость.
В отвесном берегу оврага бойцы рыли два котлована – землю кидали под берег. Работали без шинелей, враспояску, от гимнастерок валил пар.
– Видишь, как работают? – спросил лейтенант у Охватова. – Одно слово – баня. Вот и ты постарайся.
Молотком Охватов разжился в своей хате, у старшины роты взял ножницы для резки проволоки – других не было. Потом ходил по деревне, искал железо и нашел крепкое, оцинкованное, на каменном домике, в котором жил командир полка Заварухин. Днем пост у квартиры полковника снимали, и Охватов, заранее подготовившись к разговору с ординарцем Минаковым, вошел прямо в дом. Минаков в безрукавке сидел за столом и чистил свой автомат. Наклонив лоб, поглядел поверх стекол на вошедшего, не узнал, распорядился:
– Назад, товарищ сержант. Нельзя сюды.
– Минаков, да ты меня не узнал?
Минаков, не привыкший к деликатному пенсне, не сразу снял его, а сняв, не сразу проморгался, но на лице его уже появилась улыбка.
– Грибашкин, ежели не вклепался?
– Охватов я, друг Урусова.
– Охватов, родной ты наш. Не узнал ведь я. Жить долго будешь. Да проходи, садись прямо на ящики. У нас и стол из ящиков. Ах ты родной наш. Ну, Охватов, Охватов. – Минаков засуетился на радостях, снял со стены вещевой мешок, добыл из него хлеба, селедки, сала. Налил в кружечку водки.
– Да ведь я не за этим, товарищ Минаков.
– Знаю, что не за этим. Уж ты извиняй, к столу не приглашаю – вдруг хозяин нагрянет. Он не любит этого. Давай держи. Об Урусове я не спрашиваю: худо дело у мужика. Ну, держи давай, держи.
– За здоровье Ильи Никаноровича…
– Он мне сказал, Охватов–де меня вытащил. Только и сказал два слова. А ведь ему, Охватов, тридцать три годика. Как Христу. В эти лета мужик только еще становится мужиком. И на вот тебе. Я проводил его до самого медсанбата, и, веришь ли, вот неохота сделалось мне жить. Прошусь у своего хозяина на передовую – не пускает, однако: привык ко мне.
– Баню мы строим, Минаков, – выпив водку до последней капельки, сказал Охватов и, подышав в рукав шинели, вздрогнул от озноба, а потом приятно ощутил, как под ложечкой, будто в загнетке, зашаяло, затеплилось и ударило по рукам и ногам, глаза туманцем застелило. Хорошо сделалось Охватову, он даже забыл, о чем говорить начал, убористо взялся за еду и ел все враз: и хлеб, и селедку, и сало.
– Что–то ты про баню начал? Баню надо, Охватов. Нy погибает тело. Ведь это шуточное ли дело – с декабря месяца не мывались толком.
– Баню делаем, а железа на трубы нету. Ты разреши, пока нет полковника, спять с крыши листика два – три. Сдохнем без бани.
– Сдохнем вчистую, – согласился Минаков.
– А дом, он что? Он ничего. Он и без трех листиков не рухнет.
– Да что мне, Охватов. По мне, хоть весь его раздень. А что полковник скажет? Не поглянется ведь ему, уж это–то я знаю. Закатает он тебя под арест.
– Закатает – туда и дорога.
– Ой ты?
– Чего уж там, Минаков, все едино. Весной вот напахнуло. Дома, бывало, как появятся первые проталины, ботинки достанешь, чистить их начнешь, будто в гости позвали. Душа поет. Ребятишки на свежей земельке, у заборов, в чику жарят. Свяжешься с ними – всю мелочь выгребут, подлецы. Бери, пацанва, весна скоро!.. Так я возьму пару листиков. Пополнение вот получим и – снова и бой. Уж до чего хочется в баньке побывать! Спасибо тебе, Минаков, за угощение. Я тебя, Минаков, за эту доброту с веником попарю. Ты, если боишься полковника, возьми да уйди куда–нибудь на полчасика. Ничего он не узнает – я со стороны сада сниму.
Минаков согласился и даже встал на караул.
Охватов был немножко знаком с кровельным делом, потому быстро перещелкал ножницами жестяные клямары, которые держали железо на обрешетке, и в четверть часа спустил на землю косяк кровли. Дальше все пошло как по маслу.
К глухой стене своей хаты, под вишневыми деревьями, приткнул верстак, и весело загремела жесть, зазвенела старая, проржавевшая ось, на которой Охватов гнул и сводил швы.
С первыми ударами всполошилась вся деревня: не то набат, не то тревога, не то сбор играют. Прибежал посыльный из штаба полка – глаза навыпучку:
– Кто приказал шум производить?
Но Охватов даже ухом не повел. Ходил и ходил молотком по жести, и послушно гнулась она, свертывалась в трубу. Обитое от грязи железо новело, шов выходил ровный с заплечиком, а Охватов оглядывал трубу, как и положено мастеру, неторопливо, степенно, целился через нее в небо и ставил наконец к стене одну возле другой, как крупнокалиберные артиллерийские стаканы.
В деревне среди бойцов только и разговоров было о бане. Возле дома, где работал Охватов, перебывал едва ли не весь полк, а какой–то маленький боец, черный и с подвижными плечами, все притирался к Охватову, угощал табаком и хвалил.
– Мастак ты, парень. Где–то ты вот научился же? И ловко–то как. Ловко. Перекури это дело.
У Охватова рукава шинели подвернуты, полы заправлены под ремень; сам он весь отдан делу, но похвалу слышит. А чернявый, цыганского обличья, льнет:
– Перекури, парень, а то запалишь печенку.
Охватов перебросил с руки на руку очередную трубу,
подмигнул чернявому:
– Вот так, смолю и к стенке ставлю. А я ведь знаю, что тебе надо. Котелок сделать.
– Ей–богу! Ой какой ты славный. Ты редкозубый. Видишь, зубы редкие у тебя – значит, характером добрый ты. А котелочек сделай мне. На двоих у нас котелок, а меня с души воротит кушать с ним: рот мокрый, зубы гнилые… Я тебе сахару дам порций десяток – это же не баран начихал. Кури мой табак на здоровье.
После труб Охватов из куска покрепче свернул котелок с проволочной окантовкой и дужкой. Чернявый бил смуглыми пружинистыми пальцами по дну своего нового котелка, приплясывал на радостях:
– Ой, парень, по тебе невесту можно найти только у нас в Молдавии. Поедем к нам в Молдавию. Мишку Байцана вся Молдавия знает. Вот гляди… – Мишка положил на ладонь коробок спичек, повернул ладонь книзу – коробок исчез. – Нет, ты скажи, редкозубый, поедешь или не поедешь?
– Да ведь Молдавия твоя под немцем еще…
– К лету освободим. У меня там мать, отец, дочка…
– К лету, Миша, Молдавии нам не освободить.
– Я знаю, – покорно согласился Байцан и померк.
Только теперь Охватов заметил, что у Байцана много
морщин под глазами и со старческой скорбью западают углы рта.
– Ну ладно, Миша. Все равно наше дело правое.
– И победа будет за нами, – повеселел Байцан и, белозубо улыбаясь, сказал: – Хороший ты парень. Я еще приду к тебе и научу делать фокусы, Ловкость рук – и никакого мошенства.
XXV
Вечером, стыкая трубы в дезкамере, Охватов увидел на ремне напарника, немолодого бойца, свой недавно сделанный котелок.
– Откуда он у тебя?
– Котелок–то?
– Котелок–то.
– Немцы из дальнобойной три снаряда бросили – пристрелку, очевидно, провели, – а по дороге с котелком в руках шел цыганок из нашей роты… Котелочек–то уж больно хороший – не пропадать же добру.
– Да ведь я только что с ним разговаривал. После обеда уже.
– От смерти не посторонишься, – вздохнул боец. – А цыганок этот ох и дошлый был: как начнет выкидывать фокусы – спасу нет. И фронта боялся. Ой как боялся! Все крутился возле комиссаров, нельзя ли куда в клуб приткнуться. Уйдет, бывало, выхлопатывать себе местечко, а мы катим его почем зря за трусость и малодушие. Да и что, в самом деле, один – на склад, другой – в клуб, а воевать? Словом, несем Мишку Байцана – пыль столбом. Кажется, подвернись он под горячую руку – морду набьют. Но вот придет Мишка, выкинет фокус – и все забывается, нету на него злости. Думаешь, черт возьми, да охота человеку жить. Охота. Но…
– А вы знаете, что у Мишки вся семья в оккупации? – с вызовом спросил Охватов. – Может, он потому и жить рвался, что хотел семью на свободе увидеть.
– В бой бы надо рваться за семью–то, я так полагаю.
– Мало ли полагаешь. Человеку обстреляться надо, попривыкнуть. Может, тот же Мишка храбрей бы храброго сделался. На фронте поменьше о себе думать надо, Это не сразу приходит.
– А может, и в самом деле, жить теперь надо по пословице – надвое: и довеку и до вечера. Мишка вот хотел жить довеку…
Боец кончает обкладывать железную бочку кирпичом и, сознавая, что управится скорее Охватова, не торопится: кирпичи хорошо подгоняет, швы выравнивает, а сверху несильно, но настойчиво поколачивает деревянной ручкой молотка. У него широкий угластый лоб, широкий подбородок и крупные некрасивые губы. Кожа на лице гладкая, по–ребячьи нежная. Охватов не любит его за эту кожу и почему–то не верит ему, а свою жестяную работу ставит несравненно выше печного дела и оттого смотрит на бойца с явным превосходством. Но когда тот сказал, что жить надо надвое, Охватов приятно поразился мудростью его слов. Подвесив к потолку очередное колено трубы, он изумленно смотрел на бойца, сгибом руки заламывая шапку и вытирая вспотевший лоб.
– Ты это мудро сказал, о жизни–то.
– Не я сказал – народ. А народ всегда мудро говорит. И знаешь, что интересного во всем этом деле? Кстати, тебя как зовут? А меня Козырев. Ты «Угрюм–реку» не читал? Не читал. Ну бог с ней. Так вот, дорогой Коля, во всей этой петрушке меня больше всего удивляет одно обстоятельство: тот, кто живет довеку, не дотягивает и до вечера. – Козырев ополоснул руки в ведре, в которое макал кирпичи, вытер их о свои обмотки, подошел к Охватову – Ты, Коля, отдохни немного, а я расскажу тебе.
– Вот и будем точить лясы. Так, что ли? – хмуро и недружелюбно прервал Охватов Козырева и опять невзлюбил его.
– Ну ладно, ты работай, а я буду рассказывать. Я в запасном полку был писарем строевого отдела. И мы с капитаном отправили маршевую роту не в ту дивизию. Нас обоих по шапке. Я рядовой, со мной проще: в маршевую и – на передовую. А капитана крутили, вертели – Да с нами же, во главе маршевой. Пока шли до передовой, у капитана штаны не стали держаться: боялся смерти. В полк прибыли – его вместе с нами в окопы, ротным. Приполз он к нам – краше в гроб кладут. А на передовой тишина. Покой. За день выстрела три услышишь, и то много. Наша солдатня совсем распоясалась: суп на бруствере стали варить. Оправляться – опять наверх, белым местом к немцу. Мы капитана начали вводить в обстановку, рассказывать, где, что, как. Капитан только через неделю решился выглянуть из–за бруствера, вот так. – Козырев прикрылся ладошкой до самых ресниц. – Выглянул, а пуля тут как тут. По височку чирк его. Только и успел наш капитан сказать: «Напиши, Козырев, жене, сберегательная книжка в обложке двадцать третьего тома…» А чьего тома, не сказал. Не успел. Тоже человек рассчитывал жить довеку. Верно?
Козырев рассказывал живо, помогал себе жестами, выпучивал или прикрывал глаза, двигал бровями, и Охватов заслушался его, забыв, что у бойца гладкая, нежная кожа, потому что жил этот человек не такой жизнью, в какой родился и вырос он, Колька Охватов.
– Мне думается, – продолжал Козырев, берясь за свой измазанный глиною молоток, – мне думается, что ты, Коля, уже хорошо успел повоевать. Как, не ошибаюсь?
– С отступления еще начал, – не без гордости сказал Охватов.
– А мог бы ты, Коля, поговорить с ротным, чтобы меня перевели в твое отделение?
– Зачем?
– Я посмотрел на тебя, Коля, и меня потянуло к тебе. Мы, разумеется, разные по годам и по жизненному опыту люди. Я старше едва ли не вдвое, но у тебя есть великое преимущество: ты, видать, смел, обстрелян – ну, словом, пообтерт войной. А у меня три недели тихой окопной жизни – вот и весь боевой опыт, потому я с гордостью и надеждой гляжу на смелых и бывалых ребят. Возле них я, как говорится, сумею жить надвое: и до вечера и довеку. А наш взвод, ты знаешь, – все новички.
Охватов был польщен словами Козырева, но виду не подал. Помолчал, подгоняя выводную трубу на последнем колене, потом спросил, не отрывая скошенных глаз от своей работы:
– Значит, в друзья ко мне хочешь?
– Ну, в друзья не в друзья. Я – рядовой, ты – сержант.
– А откуда же ты взял, что я и смел, и обстрелян, и все такое прочее? Может, на самом–то деле я трус.
– Ну, не скажи. Человек виден не только в делах, но и в том, как он по земле ходит. Даже как дышит. Я, Коля, кандидат экономических наук и в людях немного разбираюсь. Что могу, то не утаиваю. Вот каменку вызвался смастерить, и, по–моему, получилась каменка. – Козырев улыбнулся.
Охватов не знал, что это такое – кандидат, и спрашивать не стал, постеснялся, но на Козырева посмотрел с теплым вниманием.
– Мне предлагали еще в Саратове на курсы политсостава – я не согласился. Ну что это такое, посуди сам, человеку сорок, а он лейтенант. Наполеон в двадцать семь маршальские жезлы раздавал.
– Бьют не по годам, а по ребрам.
– Так оно, конечно.
– Я попрошу командира роты, чтобы тебя перевели в наш взвод, а отделение сам выбирай, – уже совсем охотно согласился Охватов и не заметил, что назвал Козырева на «вы»: – У вас все готово?
– Да вот затереть осталось, и можно пускать дым.
– Пойду докладывать. – Охватов хлопнул руками, сбивая железную пыль с ладоней, легко встряхнул плечами, а выйдя наружу, весело закричал бойцам, что кипятили воду в прокаленных бочках: – Орлы, давай дров, чтоб пар столбом, дым коромыслом!
В овражке, меж кустов краснотала, где снег набух вешней, талой водой, Охватов умылся, вымыл свои сапоги, почистил шинель и, весь какой–то обновленный, согретый сделанным делом, полез наверх, опять что–то крича бойца-м.
«Вот так и надо, – радуясь определенности своих мыслей, думал Козырев и, макая в ведро тряпицу, затирал бока и ребра каменки. – В брюхе солома, а шапка с заломом. Но кто научил его этому счастливому душевному равновесию? Знает ли он, что у него есть только одна, теперешняя, жизнь, что больше нет никакой другой жизни. Видимо, надо много пережить и ко всему притерпеться, чтоб не думать о завтрашнем дне, чтобы забыть свое прошлое, забыть других и, наконец, себя. День да ночь – сутки прочь, но жить, жить и жить. Только жить! Не доел, так доспал. Или наоборот. Только бы суметь не бояться смерти. Только бы привыкнуть к разрывам мин и снарядов. Да, легко сказать – привыкнуть…»
Козырева так расстроили последние мысли, что он не мог больше работать с тем наслаждением, каким заразил его Охватов. Он опять сполоснул в ведерке руки, промокнул их о свои обмотки и, стоя в дверях, задумчиво глядел, как боец принес толовых брикетов, залитых гудроном, и начал совать их в топку.
– Ты это что? Ты это что делаешь? – заорал вдруг Козырев, поняв, что боец набивает топку взрывчаткой.
Боец с узкой и длинной спиной стоял на одном колене перед каменкой и спокойно, заглядывая в топку, говорил:
– Чего блажишь, как баба? Тол рвется от детонации. А огонь ему за милую душу. Глянь–ко…
Боец подпалил пропитанную соляркой бумагу и сунул в топку – из мокрого зева выбросило тугую охапку огня, дыма, искр. Козырев, ожидая страшного взрыва, кубарем скатился в овражек и побежал по красноталу, начерпал в ботинки, а бойцы, кипятившие воду, хохотали над ним: они с утра подбрасывали в огонь куски желтого тола, добытого из деревянных противотанковых мин, которые вытаивали по всему полю за овражком. Тол походил на прессованный гороховый суп–пюре и жарко горел дымным мятежным пламенем.
Когда Козырев вернулся, из труб бани и дезкамеры валило так много и такого густого дыма, что издали казалось, будто в овражке поднимает пары эскадра боевых кораблей.
Пришедший осматривать баню командир роты лейтенант Корнюшкин рассердился на бойцов и приказал им не топить больше толом: немцы могли в любую минуту открыть огонь по дыму, могла появиться и вражеская авиация.
– А ты что это мокрый по колено? – обратил внимание Корнюшкин на Козырева.
– Затирка, товарищ лейтенант, то да се – работа с водой.
– В первый взвод перейдешь, Козырев. Просился?
– Так точно, товарищ лейтенант.
– Только доложи взводному. А завтра пойдешь с другими еще на семинар агитаторов в дивизию. Уговори вон сержанта Охватова, чтобы шел с тобой. Все малограмотным прикидывается, а трубы погляди какие сделал. Где железо взял, Охватов?
– Нашел.
Лейтенант пристально поглядел на Охватова припухшими глазами, помял в кулаке свой розовый пухлый подбородок и весело махнул рукой:
– Ладно, авось сойдет. А сейчас собирайте всех, кто строил баню, и первым заходом.
Охватов сразу же сбегал к Минакову и позвал его в баню. Минаков ждал этого – у него уже был приготовлен веник из веток дуба с прошлогодними жесткими листьями. Шел Минаков, немного сутулясь, широким неспешным шагом, а под рукой нес свой дубовый веник и казался со стороны не бойцом, а простым деревенским мужиком, который скоротал трудную неделю, перепотел, изломался в работе и вот ступает в баню, наперед расслабленный и размягший, а голотелая баба его уже насдавала на каменку, и от горячего пара трещат, пощелкивают кирпичи, потолок, стены, оконце все улилось горячей слезой, и на полке в пару не видно бабу, только свешиваются на приступок белые мягкие ноги ее…
Толом и соляркой бойцы так накалили новую баню, что в ней нельзя было стоять во весь рост – обжигало уши и закладывало дыхание от перегретого пара. Охватовские трубы горели белым накалом, а понизу, по холодному полу, несло стужей, но, когда окатили плахи кипятком, и с ног взяло теплом. Охватов давно не видел себя нагим и был страшно удивлен своей костлявостью: из–под землисто–серой и шелушащейся кожи выпирали ребра и мосластые колени. Такими же, с цепью позвонков и острыми лопатками, были и другие. От жары и пара у каждого занималось сердце, и отвыкшая от тепла кожа до омертвения боялась кипятка, становилась знобкой, шершавой, как терка. Писарь роты Пряжкин приволок с собой деревянную шайку, и Минаков, увидев ее, удивленно и ласково заворковал, будто знакомого встретил:
– А, шайка, шаечка, шаюшечка…
Из нее мылись трое: Пряжкин, Охватов и Минаков. А возле печки, в ведре с кипятком, распаривался веник, и баня наполнилась заварным запахом молодого дубка. Минаков черпал большими пригоршнями воду, лил ее себе на голову, грудь, плечи и все удивлялся, что истер всю старшинскую норму мыла, а пены не видел.