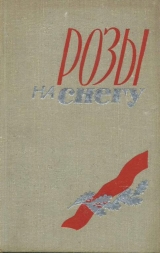
Текст книги "Розы на снегу"
Автор книги: Иван Гончаров
Соавторы: Александр Бычков,Виктор Федоров,Иван Жилин,Людмила Бурцова,Николай Масолов,Евгений Никитин,Иван Пономарев,Виктор Мариничев,Елизавета Веселова,Василий Топильский
Жанры:
Прочие приключения
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 9 (всего у книги 24 страниц)
НЕ СЛОМЛЕННЫЕ БУРЕЙ
Поздней осенью «чкаловцы» покинули пределы Невельского и Пустошкинского районов. С каждым новым днем гитлеровцы усиливали репрессии. По деревням рыскали агенты тайной полевой полиции, выискивая подпольщиков и помощников партизан. Было расстреляно несколько человек.
Лена и ее подруги до поры затаились, и их никто не трогал. Но однажды среди бела дня в дом Подрезовых ввалились немецкие солдаты. Один из них вскинул автомат и на ломаном русском языке спросил Лену:
– Ты за кого – за Гитлера или Сталина?
«Видно, что-то узнали. Все равно пропадать», – подумала с тоской девушка и гордо ответила:
– Я за Советскую Родину!
Стоит и чувствует: озноб по коже пошел и руки дрожат – ничего с ними поделать не может. А солдаты оружие на лавку сложили и… давай хохотать.
Пригляделась Лена – так это же переодетые «чкаловцы»! Обрадовалась, но и руганула как следует. А потом заплакала. Растерялись бойцы:
– Так мы же пошутили…
А тут и командир их, политрук Пенкин, в дом вошел.
– Чего ревешь? – спрашивает.
Досталось бы на орехи «шутникам», да Лена не выдала их, сказала, что плачет от радости. После одна из подруг Женя Сергеенкова подсмеивалась:
– Тоже мне конспиратор. Когда меня так спросили, я схитрила. Сказала: «Я за красивых мальцов!»
«Чкаловцы» были теперь бойцами рейдирующей партизанской бригады разведотдела штаба Северо-Западного фронта. В старые места завернули с целью разведки. И опять Подрезова и ее подруги стали наведываться в гости к «тетям» в большие села, бывать на базарах. А потом на кладбище, в рощах и других мало посещаемых зимой местах, в «почтовых ящиках» – в дуплах деревьев, под камнями – появлялись коротенькие записки для разведчиков бригады. Попадись с таким «письмецом» гитлеровцу – не миновать виселицы…
В конце лета 1942 года в родных краях Подрезовой прочно обосновалась 2-я бригада калининских партизан, начал действовать Пустошкинский подпольный райком ВКП(б). Срочно потребовалось организовать распространение сводок Совинформбюро, которые райкомовцы принимали по радио. Секретарь райкома Яков Васильевич Васильев предложил:
– Поручим это дело Елене Подрезовой. По всем отзывам надежный товарищ. И опыт уже есть.
Через день в Ерастовке заработал «взвод писарей». Ранним утром в доме Подрезовых собирались подруги Лены и мальчишки-подростки. «Адъютант» комвзвода Миша Коротышев лихо докладывал Лене:
– Товарищ командир, взвод готов к выполнению боевого задания!
Собравшиеся рассаживались, вынимали карандаши. Лена диктовала. «Рукописная типография» начинала рабочий день. Писали, позабыв про сон, про еду. В короткий срок усилиями Лены и Тамары Подрезовых, Жени и Лизы Сергеенковых, Тани Князевой, Ольги Комоедовой и других «бойцов» из «взвода писарей» было написано более трех тысяч экземпляров листовок.
Январь сорок третьего принес в невельские и пустошкинские деревни радость: советские воины выбили гитлеровцев из крупного, стратегически важного железнодорожного узла – города Великие Луки. Фронт приближался к Невелю. Гитлеровцы неистовствовали в прифронтовой зоне: сжигали целые деревни, расстреливали и старых и малых. Усилили активность и партизаны. Подпольный райком партии призвал население подняться на вооруженную борьбу против оккупантов. С этой целью решено было провести собрание-митинг молодежи тридцати деревень.
И оно состоялось, единственное в своем роде в летописи Великой Отечественной. В морозный ясный день в селе Морозове под защитой партизан собралось около трехсот юношей и девушек. После доклада секретаря подпольного райкома партии о задачах молодежи были выступления с мест. Горячо говорила Лена Подрезова:
– Вот уже третий день слышим мы по утрам гром. А ведь сейчас не май, а январь, студеный, морозный. Утренний гром – это голос нашей армии, голос наших братьев. Это призыв к нашей совести, чести…
И призыв был услышан. Старики, девушки, подростки брали в руки оружие и шли под партизанские знамена. А у Лены основной «специальностью» стала разведка. В 1943 году ей удалось к разведывательной сети бригады подключить многих надежных людей.
Удивлялись прихожане церкви в Неведро, видя среди набожно молящихся бывшую учительницу. Шептали старухи:
– Ишь времена наступили. Учителька и та лоб крестит. Спаси и помилуй нас, господи.
А Лена, еще раз осенив себя крестным знамением, неторопливо покидала новый «почтовый ящик». В кармане ее кофты лежали донесения разведчиков в стане врага, записки связников…
У Елены Александровны Минченковой (Подрезовой), учительницы школы в городе Пустошка, сохранился дневник военных лет. Маленькая книжечка.
С трепетом листаю пожелтевшие странички. Короткие, торопливые записи:
«23.8.43. Утро началось по-обыкновенному. И вдруг налетели озверевшие псы. Бросали бомбы. Зажгли деревню. Все горит. Народ обстреливали, звери кровавые».
«1.9.43. Как болит сердце, ведь уже 1 сентября. Учебный год… Подлый враг еще сопротивляется. Отправили раненых. Вечером слушали баян».
«9.9.43. Убили в Тимонове Мишу Юстюженко. Как жаль храброго разведчика. Раненный в ногу, он до конца отстреливался. Дорого поплатился враг за твою жизнь».
А вот запись в два слова:
«Убили Тамару…»
Больше в тот день Лена не смогла ничего записать. Весть о гибели в бою младшей сестренки сразила, лишила сил.
Последняя запись сделана в дни радостной встречи частей наступающей Советской Армии, когда юноши-партизаны стали солдатами.
«20.11.43. Утро. Жаль расставаться с ребятами, слезы текут из глаз. Ведь это наши братья. Мы выросли в единой дружной семье. Были радости, и было немало горя… Да, хорошие ребята – Коля Жигач, Алексей, Виктор Кулешневский, Шатныгин, Панков. Последние рукопожатия. Они уходили, и мы говорили им: «Бейте еще лучше врага, чем били, до полного уничтожения его».
Сейчас уже 12 часов ночи. Счастливой жизнью мы будем жить. Штаб спит. А я сижу и переживаю».
* * *
Падают, кружатся золотые листья. Ветер несет их по аллее. Второклассники собирают из них яркие букетики.
Прозвенел звонок. Снова все на своих местах за партами. В класс входит Елена Александровна – первая учительница мальчишек и девчонок.
– Ребята, посмотрите на эту картинку. Что вы видите на ней? – спрашивает она, показывая репродукцию картины Левитана «Золотая осень».
Хором отвечают:
– Это – осень!
– Каковы ее приметы?
Поднимаются десятки детских рук. А Вова Феоктистов поднял сразу обе.
– Листья опадают, – говорит Лариса Осипова. – Вон их сколько, желтых, под деревьями.
Сережа Юринов заметил, что небо на репродукции «какое-то темное». Мягкий, чуть слышный голос Светы Мельниковой добавляет:
– Трава желтая, озимь зеленеет.
– А чем заняты осенью в деревне люди? – задает вопрос учительница.
И опять много рук.
Елена Александровна учит своих питомцев видеть, любить и беречь окружающий мир, который ее старшие товарищи и она сама отстояли в лихую годину.
Николай Масолов
ПОГАСИТЬ НИКТО НЕ ВЛАСТЕН
«Слыхали ли вы, как кричат цапли, гнездящиеся по берегам озера Маленец?
Внимали ли тишине заречных далей, открывающихся с крутого берега Сороти?
Сидели ли на «скамье Онегина» в старом Тригорском парке?»
На эти вопросы мудрого ваятеля Сергея Ивановича Конёнкова, посетившего на склоне лет пушкинский край, те, о ком наш рассказ, могли бы ответить:
– Да! Слыхали!
– Да! Внимали!
– Да! Сидели!
И еще бы они могли сказать, что сделали все, что сумели, чтобы будущее поколение могло прийти к могиле великого поэта – на холм, с которого вся Россия видна.
НОЧНАЯ КАНОНАДА
В последний день июня 1941 года над грядой Синичьих холмов появился фашистский самолет. Покружив над поселком, летчик спикировал на Святогорский монастырь. Одна из бомб угодила в купол собора. Обломки кровли упали на могилу поэта.
А вскоре у поселка показались красноармейцы. Они уходили от голубой Сороти, навязывая врагу тяжелые бои. Последняя полубатарея, прикрывая отход товарищей, стреляла по гитлеровцам до тех пор, пока орудия и расчеты не были смяты гусеницами фашистских танков. Случилось это под вечер 13 июля…
Потом наступила тишина – гнетущая, натянутая, как стальная пружина. В поселке обосновались те, кто в исполнение чудовищного нацистского плана освоения захваченных земель должен был насаждать «новый порядок» на берегах Сороти.
– Руссиш капут! – гоготала солдатня военной комендатуры, оскверняя русскую святыню – Пушкинский холм.
– Пушкин – дикарь. Ницше – бог, – философствовали за бутылками шнапса гитлеровцы рангом повыше.
И вдруг… Темной осенней ночью рядом с поселком раздалась пулеметная трель. Затем ухнула пушка. Вторая. Третья.
Нервы гитлеровцев не выдержали. Они открыли беспорядочную стрельбу из автоматов и пулеметов. Всполошились и команды, расквартированные в Михайловском, Колоканове, Подкрестье. Всю ночь палили оккупанты, пугая неведомого противника и подбадривая себя.
Утром в поселке только и разговоров было, что про ночную канонаду.
– Из окружения пробились наши, целый полк, – говорили одни.
– Партизанский отряд пытался ворваться в поселок, – утверждали другие.
Но офицеры комендатуры быстро установили истину: кто-то в полночь забрался в подбитые советские танки, стоявшие на летном поле бывшего аэродрома, и выстрелил из трех пушек. Начались обыски, но виновников найти не удалось.
Происшествие насторожило коменданта. Была усилена патрульная служба. Гестаповец Вильгельм Шварц поучал сотрудников комендатуры:
– Нужно беспощадно карать жителей за малейшее проявление неуважения к новому порядку. Но одновременно следует отвлекать их от политики. Постарше пусть идут в божий храм. Штаб охранных войск в ближайшие дни направит в наше распоряжение священнослужителя из Риги. А те, кто помоложе, – пусть по воскресным дням танцуют, играют в карты, читают.
Когда это распоряжение разъяснялось местным властям – старшине поселка, начальнику гражданской полиции и их помощникам, один из фашистских прихвостней воскликнул:
– Мудро, очень мудро, господин комендант! Да! Да! Пусть лучше сопляки читают Пушкина, чем лазят по танкам.
– Дурак, – осадил его майор Зингер. – Пушкин читать запрещаю. Он не любил строгий порядок.
В следующий воскресный день на горе Закат играл духовой оркестр, а в киосках почти бесплатно продавались иллюстрированные журналы с картинками о победах германского оружия и газетные листки на русском языке с кощунственным названием «За Родину».
«ЧЕМ СИЛЬНЫ МЫ?..»
Был в Пушкинских Горах еще один человек, которого не меньше, чем Шварца и Зингера, встревожила ночная стрельба из подбитых танков. Виктор Дорофеев сразу догадался, чьих это рук дело. Дорофеев за год до начала войны окончил девять классов средней школы, носившей имя Александра Сергеевича Пушкина. Продолжать учение юноша не смог, работать тоже. Туберкулез тяжелой формы приковал его к постели.
Высокого светловолосого парня с впалыми бледными щеками знали хорошо в поселке. Сердобольные женщины жалели его, товарищи в присутствии Виктора старались о болезнях не говорить. Секретарь школьного комитета комсомола Дорофеев не переносил жалости к себе. Энергичный, всегда полный интересных задумок, веселый, общительный Виктор был заводилой в кругу молодежи.
Болезнь в первые дни войны дала новую вспышку, и Виктор с трудом поднимался с постели. О службе в армии, хотя бы в тыловых частях, он даже мечтать не мог, а горячее сердце комсомольца звало к действию. Особенно тяжело было по вечерам: ни света, ни радио. Мать склонялась над сыном, шептала:
– Потерпи, Витенька, потерпи, милый. Вот намедни обещали мне барсучьего сала принести. Попьешь с медом – полегчает.
– Спасибо, мама. Спасибо, родная, – все буду пить, что скажешь, лишь бы сил набраться. Они мне ох как нужны…
После ночной канонады Дорофеев попросил младшего брата:
– У меня к тебе, Женя, дело есть. Важное. Ты как-то говорил мне, что видел Кошелева, который обычно у нас на школьных вечерах на баяне играл. Верно это?

Виктор Дорофеев.
– Точно, видел, – подтвердил Женька.
– Ну так вот, разыщи во что бы то ни стало его и попроси к нам зайти. Затем найди Лешу Иванова и Малиновского Толю, скажи: брат обижается, – забыли, мол. Пусть завтра под вечер забегут в подкидного сыграть. Ребята они надежные.
Сообразительный Женька радостно блеснул глазами:
– Есть, товарищ секретарь, собрать надежных ребят!
Степан Петрович Кошелев зашел в тот же день. Хотя он был и намного старше Дорофеева, но относился к нему как к равному. Виктор уважал баяниста за дружбу со школьниками, знал, что для некоторых ребят с нелегкой судьбой Степан Петрович был добрым советчиком.
– Зачем звал? – без обиняков спросил Кошелев, входя в комнату к Виктору.
– Соскучился. Сиднем сижу, а ты по белу свету бродишь – авось слышал что-либо правдивое да хорошее.
– А ты угадал, – лукаво улыбнулся гость. – Не так уж и дела наши плохи, как брешут фрицы.
– Откуда знаешь? – насторожился Виктор.
– А со мной Москва нет-нет да и заговорит.
– Так, значит, не сдал?
– Значит, не сдал. Только жердь, что антенну держала, в печке сжег.
– Молодец! Какой ты молодец, Степан Петрович! – Глаза Дорофеева радостно сверкнули. – Теперь дело пойдет.
– Какое такое дело?
– Борьба подпольная с фашистами. Не на жизнь, а на смерть.
Собрались ребята открыто – за картами, благо игра в них поощрялась блюстителями «нового порядка». Открыв козырную шестерку, Дорофеев, улыбаясь, проговорил:
– Ко мне пришла. Мне и начинать игру. Начну с ругани. Стрельба из танков – баловство, а с оружием баловаться нельзя. Во-первых, своих пострелять могли, а во-вторых, как говорится, и просто пропасть не за понюх табака. Ну да ладно, что было – то было. А сейчас давайте о серьезном деле поговорим.
– А что может быть серьезнее, чем стрелять фашистов? – вскипел Малиновский.
– Не горячись, Толя. Виноваты мы. Стрелять тоже с умом надо, – отпарировал Алексей Иванов.
– Самое главное сейчас, – продолжал Дорофеев, – у наших людей дух поднимать, правду им рассказывать. Помните у Пушкина?
…Чем сильны мы, Басманов?
Не войском, нет…
А мнением. Да! Мнением
народным.
– Фашисты кричат: пал Ленинград, в гавани Кронштадта бросили якоря немецкие корабли. А вот послушайте: вчера в сводке Совинформбюро сообщалось, что артиллерия Кронштадта обрушила мощный огонь на врага…
Читая сводку, Дорофеев вдруг заметил, как товарищи его побросали карты и встали.
– Вы что? – поднял он глаза и понял: есть боевое ядро подпольной организации…
По воскресным дням с горы Закат неслись звуки бравурных маршей и полек. Благовестил по субботам соборный колокол, сзывая прихожан в храм божий. Правил церковную службу моложавый, статный рижанин с сильным бархатным голосом. Но мало кто из пушкиногорцев и осевших в поселке беженцев появлялся на танцевальной площадке. Не мог похвастать обилием паствы и попик, смахивающий на переодетого военного.
Зато людно было в базарные дни у досок с распоряжениями оккупационных властей, где белели наклеенные поверх серых казенных бумаг листки из школьных тетрадей. На них печатными буквами кратко излагались сообщения Совинформбюро. Солдаты охранных войск и полицаи не успевали соскабливать эти листки и разгонять крестьян, жадно вчитывающихся в весточку о родной армии, о Москве и Ленинграде. Люди разбегались, но, покидая поселок, вдруг обнаруживали у себя на телегах листовки с призывами саботировать мероприятия оккупантов, не верить их брехне.
Бесновался комендант, грозился перевешать всех помощников партизанского комиссара, проникавших со сводками в поселок. И невдомек было ищейкам из тайной полевой полиции, придумавшим «комиссара» в оправдание своих неудач в поисках подпольного центра, что расположен этот самый центр у них под носом. Небольшой деревянный домик Дорофеевых примостился у подножия холма, вдоль которого тянулась старинная монастырская стена. Здесь, у постели больного Дорофеева, составлялись и редактировались листовки. Сюда поодиночке в сумерках пробирались Степан Кошелев, Алексей Иванов, Анатолий Малиновский, Борис Алмазов, Алексей Захаров, Геннадий Петров, Николай Хмелев.
Все вместе собирались редко. Соблюдали конспирацию. Каждый приносил с собой колоду карт, мелкие деньги. Прихватывали фашистские газеты на русском языке, иногда самогон. На повороте к дому Дорофеевых ребят тихонько окликал кто-либо из руководящей тройки – Иванов или Кошелев, иногда младший Дорофеев, отчаянно храбрый парнишка, связной подпольной организации. Звучал в темноте вопрос-пароль. «Кто идет к Пушкину?» – и приглушенный ответ-пароль: «Дубровский», «Годунов», «Русалка».
Александр Сергеевич Пушкин незримо присутствовал на каждом тайном сборе патриотов, благословляя «племя младое, незнакомое» на подвиг.
В РОЖДЕСТВЕНСКИЙ ВЕЧЕР
Метелью скулит злой декабрьский ветер. Приглушенно звучат церковные колокола. А с амвона Успенского собора святотатствует отец Владимир:
– Смиритесь, люди добрые. Помазанник божий Гитлер дарует нам землю, свободу. Его войска уже очищают от большевиков Москву. Сдастся на милость великого вождя Европы и голодный Петроград…
Надо ж такое! Ведь «тут русский дух, тут Русью пахнет». И здесь отпевают Россию.
Подавленные стоят прихожане.
Кто-то вполголоса роняет:
– На то, видно, воля божья.
И вдруг откуда-то сверху звонкий мальчишеский голос:
– Не верьте! Врет Иуда! Не верьте!
Соборное эхо разносит: «Иуда!», «Не верьте!». Слова бьются в окна собора, поразительно напоминающие бойницы, точно хотят вылететь наружу и пронестись набатным призывом над Синичьими холмами.
Проповедь сорвана. Прихожане расходятся. Нет уже студеного холода на сердце. Свои подали голос. Значит, и впрямь не так страшен черт, как его малюют. Многие задерживаются у белой монастырской стены. На ней углем аршинными буквами начертано:
«Смерть оккупантам! Да скроется тьма!»
Это тоже сделали свои. Смельчаков ищут полицаи, но десятки людей уже побывали у стены и затоптали следы…
Теплится коптилка у постели Виктора Дорофеева. Раскинуты на всякий случай игральные карты на столе. Возбужденные, с красными от мороза щеками, Борис Алмазов и Анатолий Малиновский громким шепотом, перебивая друг друга, говорят:
– Все сделано.
– Как ты задумал, Виктор.
– А Женька-то как крикнул!
– Только бы по голосу не узнали.
Светятся глаза у Дорофеева. Дрожащими руками берет он мандолину.
– Любимую, – просит Алмазов.
– «Дан приказ ему на запад…» – начинает Малиновский.
– Тише вы, полуночники, – просит появившаяся в дверях мать Дорофеева.
– Мы тихонько, мама, – успокаивает ее Виктор и подхватывает: – «Уходили комсомольцы на гражданскую войну…»
Как-то вскоре после Нового года в заповедном бору Михайловского застучал топор. Один из деревенских старост, подлец первостатейный, получил от офицера ортскомендатуры Рыбке разрешение на рубку леса для постройки нового дома. Ночью в окно фашистского холуя влетел камень. К камню была прикреплена записка:
«Будешь рубить пушкинский бор – будешь зарублен своим же топором».
И подпись:
«Дядька Черномор».
Перепуганный староста утром побежал к старшине поселка:
– Господин Шубин, меня убить собираются.
– Кто?
– Какой-то не местный. Фамилия Черномор. Вот читайте.
Шубин улыбнулся, но, прочитав записку, составленную из вырезанных газетных букв, сказал:
– Смотри сам, но этот Черномор, видать, следит за тобой и… чем черт не шутит.
В этот же день Дорофеев, разговаривая с Алексеем Ивановым, подсмеивался над приятелем:
– Видишь, Лешка, как получается все хорошо. В школе тебя Воробьем звали. А кончится война – будут Черномором величать. Черномор не чета воробью.
Стук топора в заповеднике в первую военную зиму больше не раздавался.
ФРЕЙЛЕЙН АЛЛА
Шел март сорок второго, но весной еще и не пахло. Холодные ветры, завывая, проносились над могильным холмом, укрывшим прах Пушкина. Занесенные снегами Пушкинские Горы будто вымерли. На улицах ни человеческого голоса, ни собачьего лая. Лишь из домов, занятых оккупантами, доносилась постылая фашистская песня да слышался шум в избах, где пили полицаи.
Поселок оживал только в воскресные дни. На площади тогда появлялись санки и возки из дальних деревень. Несколько часов негромко гудел базар. Пушкиногорцы меняли одежду, табак, ткани на картошку и хлеб. Из уст в уста передавались последние новости. Были они нерадостными. В начале зимы охранным войскам гитлеровцев удалось разгромить многие партизанские отряды и подпольные организации советских патриотов в тылах армий группы «Север». Упорно ходили слухи: фашисты в Москве, Ленинград вот-вот капитулирует.
В один из мартовских воскресных дней базар в поселке шумел больше обычного. И люди задерживались на площади дольше, чем бывало. На лицах мелькали улыбки. У саней слышались обрывки коротких разговоров:
– В Насве начисто гарнизон разгромили…
– В Поддубье экономию гробанули…
– Хлопцы его говорят: батько самой Москвой сюда послан…
– Значит, держится матушка-столица?
– Сказанул! Дали Гитлеру от московских ворот поворот.
– Да, вот и нищие из Опочки тоже гуторят…
– Где же они? Расспросить бы…
Словоохотливого хромоногого старика в рваном рыжем полушубке и его поводыря – мальчонку лет двенадцати – видели и на монастырском дворе, и на окраине поселка, и по дороге к Михайловскому. После вспоминали: больно по-молодому у старика глаза блестели, когда про батьку Литвиненко рассказывал, да и, судя по разговору, ему больше пятидесяти не дашь. Нашелся даже человек – видел: шли у Сороти нищие скороходью, и хромоту у старшего как рукой сняло.
Но это было на второй и третий день после базара, когда стоустая молва уже разнесла по поселку и окрестным деревням весть о разгроме фашистов под Москвой и о появлении на берегах реки Великой «хлопцев батьки Литвиненко», как по имени командира называли бойцов рейдовой партизанской бригады. О подозрительных нищих коменданту донесли лишь под вечер. Бросились искать, а их поминай как звали. А ночью вьюга разыгралась не на шутку – все смешалось в белом вихре: лес, земля, поселок.
В ту метельную ночь в Пушкинских Горах не спали многие. Не могла сомкнуть глаз и дочь старшины поселка переводчица военной комендатуры Алла Шубина. И тому виной тоже были нищие. Заунывное «Подайте милостыню ради Христа» застало ее на крыльце. Что-то не ладилось с замком, а Алла торопилась войти в дом. Девушка хотела достать кошелек, но старик-нищий вдруг насмешливо сказал:

Алла Шубина.
– Не надо, фрейлейн. Марками мы брезгуем. Ждем от вас другого подношения, барышня.
– Какая я вам барышня? – возмутилась Шубина.
– Не нравится? Ну, тогда, – нищий уже не горбился, смотрел доброжелательно, – зайдем на минутку в дом, товарищ Шубина.
Оставив мальчонку в сенях, он вслед за Аллой вошел в комнату и неторопливо продолжил:
– За тебя, товарищ Шубина, один человек головой поручился. Вместе учились вы в средней школе в Опочке. Хочется верить, не по доброй воле ты в комендатуру попала. Пришло время доказать это. Небось слышала, есть такой термин – «разведданные». Сведения разные о неприятеле. Вот и собери их. Вспомни, что слышала, в бумагах посмотри или на карте в кабинете у начальства. Эти сведения нам очень нужны.
– Кому нам? – с замирающим сердцем спросила Шубина.
– Хлопцам батьки Литвиненко…
Как тут уснешь! Все самое сокровенное подняла из глубин души встреча с «нищим». Чудесной музыкой звучали весь вечер слова «товарищ Шубина». Девушка клялась сама себе: «Да! До конца жизни буду комсомолкой».
– Буду! – сорвалось с уст вслух.
– Что с тобой, Аля? – подошла к кровати младшая сестра. – Что будешь?
– Ничего, Анфисочка. Это я так, со сна. Приснилось: войны нет, и все у нас по-старому.
– Ой! Как хорошо было! Школа. Вечера… Помнишь, как ты однажды на вечере декламировала «Выдь на Волгу…»?
– «Чей стон раздается?…» – со слезами продолжила Алла и, прижав к себе сестру, прошептала: – Иди спи, родная, вернется Красная Армия, и все будет опять хорошо.
Алла Шубина и раньше на ненавистной службе делала полезное людям. То письмо от угнанных в Германию девушек передаст родным без просмотра помощника коменданта. То, зная, кто из сотрудников комендатуры не понимает русского языка, поможет задержанному крестьянину на допросе выпутаться из беды. Теперь же… С ненасытной жаждой, с неимоверным риском двое суток добывала девушка секретные сведения (удалось даже снять копию со схемы размещения некоторых постов на Сороти и Великой), а на третьи сутки ровно в полдень она была на условленном месте – на пятой версте по дороге к Новоржеву.
«Подношению фрейлейн Шубиной» мог бы позавидовать и бывалый разведчик.








