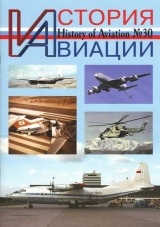
Текст книги "История Авиации 2004 05"
Автор книги: История авиации Журнал
Жанры:
Транспорт и авиация
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 11 (всего у книги 13 страниц)
Дефицит разведывательных самолетов, оснащенных разнообразным специальным фото– и радиооборудованием в отечественной авиации всегда был большой проблемой, тем более что вероятный противник последовательно наращивал собственный парк стратегических самолетов-разведчиков. Поскольку считалось, что вводить в непосредственный контакт с противником такой неповоротливый и малоскоростной самолет, как Ан-12, нерационально, на его базе было решено сделать вариант дистанционной радиотехнической и фоторазведки. Часть оборудования для него была взята из комплекта дальних разведчиков на базе Ту-16.
Первые Ан-12 с разведоборудованием появились в начале 60-х гг. и комплектовались той же бортовой аппаратурой, которая устанавливалась и на транспортных вариантах самолета, выпускавшихся в то время. В ходе доработок часть бортового специального и навигационного оборудования была заменена новыми образцами. Самолеты комплектовались различными аэрофотоаппаратами, станциями радиоразведки и другим спецоборудованием. Увеличенный по сравнению с базовой моделью запас топлива позволял находиться в воздухе длительное время и действовать на значительном удалении. Некоторые машины в ходе модернизации получили помеховые станции типа СПС-5 «Фасоль».
В 1969 г. на базе Ан-12БП начался выпуск небольшой серии Ан– 12РКР (Ан-12РХ, изделие «51Т»), предназначенного для радиационной и химической разведки. Его отличительной особенностью являлись две фильтрогондолы в носовой части фюзеляжа, предназначенные для отбора проб атмосферного воздуха. В грузовой кабине устанавливались комплекты радиохимической разведки с дозиметрами ДП-35 и различное лабораторное оборудование.
Несколько ранее, в 1963 г., несколько самолетов Ан-12П и БП были специально подготовлены для длительных полетов над морем, а позднее переоборудованы в спасательные и использовались для нужд ВМФ и гражданского морского флота. Они оснащались аппаратурой «Исток-Голубь», предназначенной для пеленгования места работы аварийных УКВ-радиостанций. В дальнейшем несколько Ан-1ЙБК с аналогичным радиооборудованием было поставлено и для нужд ВВС.
В соответствии с постановлением Правительства в 1967 г. на базе серийного Ан-12БП был создан авиационно-морской поисково-спасательный комплекс (АМПСК) Ан-12ПС, который вышел на испытания в 1970 г. Комплекс создавался в интересах поисково-спасательной службы ВМФ для обеспечения спасения приводнившихся спускаемых аппаратов космических кораблей и их экипажей. В состав комплекса входил десантируемый с помощью парашютной системы спасательный катер «Ерш» водоизмещением 5,2 тонн с экипажем на борту. Используемый ранее для спасательных операций Ту-16ПС комплекса «Архангельск» со сбрасываемым катером «Фрегат» не предусматривал совместного десантирования его экипажа. Наведение «Фрегата» на пострадавших после его приводнения осуществлялось штурманом Ту-16ПС с помощью аппаратуры радиокомандного наведения. Кроме катера, Ан-12ПС комплектовался радиокомпасом АРК-У2 «Исток» для указания направления на аварийную радиостанцию и аппаратурой дальней связи. Машина могла нести ориентирные морские авиационные бомбы ОМАБ и контейнеры КАС-90 со спасательными комплектами. На месте кабины стрелка и кормовой башни был организован отсек для двух спасательных плотов ПСН-6.

Разведывательный Ан-12 в международном воздушном пространстве. Фото сделано летом 1987 г.

Самолёт радиационно-химической разведки Ан-12РХ с устройствами крепления фильтрогондол по бокам фюзеляжа. Эти машины использовались для контроля за степенью заражения атмосферы при ядерных испытаниях.

В связи со сложностью создания АПМСК с десантированием трех спасателей непосредственно на борту катера, в 1969 г. было принято совместное постановление МАП, МСП и Минобороны о порядке испытаний Ан– 12ПС в три этапа, вместо обычных двух. Первый и второй этапы должны были проводиться без экипажа на борту катера, и только после накопления опыта эксплуатации самолета в строевых частях и устранения выявленных недостатков должен был начаться третий этап с выполнением сброса катера с экипажем на борту. Этап «А» совместных госиспытаний был выполнен в период с 3 августа 1970 г. по 7 апреля 1972 г. Этап «Б» в связи с необходимостью серьезных доработок машины начался весной 1974 г. В их процессе были выполнены 42 сброса катеров и их макетов. 12 апреля 1976 г. с Ан-12ПС, пилотируемого В.М.Гришиным, был выполнен первый сброс катера с экипажем на борту. 24 апреля также успешно был осуществлен и второй сброс с людьми. При сбросе и спуске на парашюте экипаж катера по радио вел «репортаж» на корабль управления о ходе десантирования. В результате испытаний АМПСК Ан– 12ПС был рекомендован в серийное производство и принятие на вооружение ВМФ. В 1984 г. комплекс прошел контрольные испытания и в 1988 г. наконец был принят на вооружение.
В процессе освоения Ан-12ПС в строевых частях, по мере поступления с 1986 г. катеров и парашютных систем была обнаружена конструктивная несогласованность катера и самолета из-за производственных дефектов первого (пластиковые лыжи на специальных контейнерах катеров были перевернуты на 180"). Это и другие замечания были устранены к маю 1988 г. Летом следующего года на Северном и Тихоокеанском флотах было выполнено 5 полетов на переучивание экипажей с двумя сбросами катера с экипажем с высоты 500 метров. По завершении программы переучивания экипажи авиации ВМФ получили допуск на боевое применение с десантированием катера «Ерш» с экипажем на борту. Правда, в описание Ан-12БК вкралась курьезная опечатка о его готовности «для невыполнения спасательных операций на море». Как оказалось, ошибка оказалась знаковой – реально Ан-12ПС ни разу не использовался по прямому назначению, а спасательное оборудование было быстро сдано на хранение, высвободив грузоотсек для перевозки обычных грузов.
В 1969 г. на испытания вышел бомбардировщик и постановщик морских мин АН-12БКВ. Боевая нагрузка массой до 12 т располагалась в грузовом отсеке. Сброс бомб или мин осуществлялся посредством стационарного транспортера ТГ-12МВ через открытый грузовой люк. На нем можно было разместить до 70 бомб калибром 100 кг, до 32 250-кг или до 18–22 калибром 500 кг. Имелись и другие варианты боевой загрузки, например 18 морских мин УДМ-501). Испытания показали сравнительно высокую эффективность использования Ан-12БКВ для бомбометания только по площадным целям, поскольку для поражения точечных целей установленного на Ан-12 штатного прицельного оборудования оказалось недостаточно. Сказывалось и большое рассеивание бомб, сбрасываемых из открытого грузолюка. Выпуск небольшой серии машины был начат в 1969 г. в Ташкенте. Кроме того, большинство транспортных модификаций самолета в случае необходимости можно было переоборудовать в бомбардировщик непосредственно в строю.
Поступление в ВТА все большего числа военно-транспортных самолетов нового поколения, резкое расширение районов их возможного применения и качественный рост сложности задач потребовал поднять на новый уровень обучение личного состава и, прежде всего, штурманов.
Для этих целей в 1970 г. были создан учебно-штурманский самолет Ан-12БШ (на базе Ан-12Б), а позднее и Ан-12БКШ, базой для которого служил Ан-12БК. В грузовой кабине обычно размещалось 10 рабочих мест курсантов с комплектами радио и навигационного оборудования для их обучения. Переоборудование транспортных машин в учебно-штурманские осуществлялось в Ташкенте.
Несколько особняком стоит построенный в 1979 г. опытный самолет Ан-12БЛ, оснащенный четырьмя противорадиолокационными ракетами Х-28, подвешенными на пусковых устройствах по бокам передней части фюзеляжа, и под крылом. Он предназначался для «проламывания» брешей в противовоздушной обороне противника и должен был следовать к цели в строю транспортных самолетов и постановщиков помех. Для обнаружения работающих РЛС и целеуказания головкам самонаведения ракет машину оснастили соответствующим оборудованием. Испытания Ан-12БЛ прошли успешно, но комплекс, в состав которого входила дорогая и сложная в эксплуатации жидкостная ракета, на вооружение ВТА принят не был.

Поисково-спасательный Ан-12ПС в полете над акваторией Североморска.

ВКП Ан-12БКК «Капсула», оснащённый системами засекречивающей и быстродействующей связи, обеспечивал повышение устойчивости боевого управления военнотранспортной авиацией. Фото сделано на одном из аэродромов Группы советских войск в Германии.
В начале 70-х годов в СССР, основываясь на опыте ближневосточных конфликтов, а также войны во Вьетнаме, развернулись работы по созданию воздушных командных пунктов различных звеньев управления. Их появление было обусловлено необходимостью значительного повышения мобильности и живучести армейских групп управления. Для корпусного и армейского звена в 1970 году был разработан аванпроект воздушного командного пункта Ан– 12БК-ВКП «Зебра», имеющего дополнительное связное оборудование (способное работать как в воздухе, так и на земле), а также восемнадцать рабочих мест для офицеров управления.
В 1975 г. один Ан-12Б был переоборудован в вариант Ан-12БКК «Капсула». Он предназначался для командующего Военно-транспортной авиациеи и оборудовался легкосъемным герметическим модулем на 20 человек в грузовой кабине, а также мощным комплексом средств боевого управления, включавшим в себя несколько радиостанций с аппаратурой уплотнения и засекречивания каналов, записывающее оборудование и новейший вариант пилотажнонавигационного комплекса. Внешне машина выделялась обтекателями антенных систем на законцовках крыла и киля.
Продолжение в следующем номере.
НЕПЕЧАТАННОЕ

Афганские рассказы
Владимир Лисовой фото автора
У большинства тех, чьи сердца затирают при виде летательных аппаратов, история авиации ассоциируется, в основном, с развитием конструкций самолётов и вертолётов, их применением и совершенствованием на основе получаемого опыта эксплуатации или боевого применения. Гораздо меньшее количество любителей интересуется такими аспектами истории авиации, как, например, влияние уровня промышленного развития на создаваемые конструкции летательных аппаратов, или возможные варианты альтернативного развития авиации в целом и ВВС в частности, а также тому подобными проблемами. Однако история авиация гораздо более многогранна. В частности, когда речь заходит о применении авиации в локальных войнах, описанию местных условий и повседневной жизни личного состава в местных условиях отводится от силы пара-тройка абзацев. После этого большинство авторов привычно сворачивают на накатанную колею, фрагментарно рассказывая о боевых действиях, сосредотачиваясь на описании роли авиации в том или ином вооружённом конфликте. А между тем жизнь и быт личного состава на войне для большинства читателей малоизвестны и сами по себе могут служить сюжетом для многих произведений, некоторые из которых мы и решили начать публиковать в новой рубрике…
ПРИБЫТИЕ
Представьте, вы сидите в огромном железном ангаре, по которому кто-то ритмично бьёт, таких же огромных размеров палкой. Этому неведомому барабанщиц аккомпанирует надрывный, пробирающий до костей вой. Подобные звуки вы можете услышать в кузнечном цехе, совмещённым с токарным. Дополняет картину тусклый свет, пробивающийся сквозь редкие и явно несоразмерные помещению иллюминаторы. Такие незабываемые ощущения полёта дарит своим пассажирам вертолёт Ми-6.
Можно, конечно, было встать, подойти к одному из упомянутых иллюминаторов, но высота в пять тысяч метров, последствия пыльной бури и отчаянно грязный плекс на корню пресекали любую попытку рассмотреть что-либо внизу.
Но старлею, а в то время ещё лейтенанту Л., было не до упоения радостью полёта. Он с унылым видом сидел на откидном десантном сидении, погружённый в раздумья о превратностях судьбы. Лейтенант и сам сейчас походил на десантника. На груди, для надёжности засунутый под лямки подвесной системы парашюта, грозно красовался автомат, карманы топорщились от патронов, запасных магазинов, гранат. Довершал картину пистолет в болтавшейся по-морскому (на ремешках) кобуре. И только авиационный защитный шлем, ЗэШа и белый комбинезон, свидетельствовали, что этот милитаризированный по самое некуда молодой человек, всё же относится к лётному составу. И летит не на задание в тыл противника, а к новому месту службы.
Вот это место службы и было причиной унылого вида лейтенанта. А ведь ещё вчера он радовался, как удачно попал в относительно спокойный гарнизон К. Ему понравился утопающий в зелени, как в оазисе, жилой городок, а наличие нескольких медицинских заведений вселяло надежду, что проблемы, вызываемые отсутствием представительниц прекрасного пола, здесь не стоят так критично, как во многих других местах дислокации авиачастей. И вот на тебе: ни с того, ни с сего, его посылают «за речку» в гарнизон Ф.
– Хотя, если быть честным…, – вздохнул лейтенант.
Дело в том, что ещё во время подготовки к Афгану на авиабазе Ч. часть пилотов, а среди них естественно оказался и лейтенант Л., решила, что война дело такое, можно и не вернуться. А посему глупо не превратить в радости жизни оставшиеся ещё в карманах деньги. Не следует забывать, что в те времена, Родина если и не осыпала пилотов деньгами с ног до головы, но и в разряде малообеспеченных их также не держала. И если учесть, что перед отправкой из родной части был получен расчёт получки на месяц вперёд, а также отпускные с пайковыми, то не стоит удивляться, что процесс превращения денег в радости жизни по классической гусарской схеме несколько затянулся. Но это мало смущало пилотов, они полагали, и совершенно справедливо, что хорошего мало не бывает, а «война спишет» если и не всё, то очень многое…
К сожалению, эту точку зрения, весьма распространённую в среде молодых офицеров, совершенно не разделяли два человека – командир эскадрильи и замполит. А потому стоило ли удивляться, хотя лейтенант Л. удивлялся и возмущался, что когда встал вопрос об откомандировании на весь срок службы в Афганистане, одного звена на точку Ф. и нескольких экипажей ещё дальше в К., то выбор пал на этих весёлых ребят.
– А вот весёлыми их сейчас можно назвать меньше всего, – подумал, глядя на своих товарищей, лейтенант. Выражение их лиц было таким же, как у него, а боевое облачение аналогичным. Ни дать ни взять диверсионная группа, готовая по малейшему сигналу, покинуть вертолёт. Как ни странно, но единственное, что хоть как-то поднимало настроение лейтенанту Л. сейчас, было то обстоятельство, что его лучший товарищ и однокашник лейтенант Б., загремел как раз в гарнизон К.
«А в Ф„по ночам стреляют…
И пули пролетают сквозь окно…», – вертелись в голове лейтенанта строчки довольно известной в армейских кругах песни. Вчера, он полдня пытался выяснить у старожилов гарнизона К. о гарнизоне Ф. Но единственное, чего он добился, это сведений о том, что «там всё не так, как здесь…». Это неведенье злило больше всего. Даже сейчас, когда до гарнизона Ф. оставалось лететь всего ничего.
– Ладно, чего гадать, прилетим на место, разберёмся, – решил лейтенант, и в ту же секунду пол ушёл из-под его ног. Если бы он и его товарищи не вцепились руками в сиденья, то наверняка бы воспарили к потолку кабины.
– Подбили! – мелькнула, было, жуткая мысль. Но находящийся здесь же в грузовой кабине бортмеханик продолжал, единственный из всех, сохранять невозмутимое выражение лица.
– Ага, значит это обычный для этих краёв способ снижения, – догадался лейтенант.
Несколько крутых виражей и под колёсами вертолёта стиральной доской зашумел рифлёный металл взлётной полосы. Затем последовало ещё несколько грубых толчков, вертолёт заруливал на стоянку и, судя по всему, грунтовую. Двигатели смолкли, винт ещё некоторое время крутился по инерции, но вот остановился и он. Бортмеханик открыл дверь и выставил трап. Первым по старшинству ступил на землю Ф. капитан К., за ним потянулись остальные. Лейтенант не спешил, он счёл дурным знаком, что те, кто уже вышел из вертолёта, хранят молчание. Но делать нечего, пришлось выходить и ему.
С первого взгляда лейтенант понял, что ошибся в своих плохих предчувствиях. Уже беглый взгляд убедил его, что всё гораздо хуже. А через пару секунд лейтенант еле сдержал желание снова юркнуть в вертолёт. Прямо на них, оглашая окрестность нечленораздельными радостными возгласами, бежало человек десять полуодетых неизвестно во что людей. Подобную картину он не раз видел в кино, так там изображали потерпевших кораблекрушение матросов, одичавших на необитаемом острове, потерявших надежду на спасение, бегущих навстречу нежданным спасителям.
– Это что, эта орда – те, кого они заменяют? И через год я сам был таким? – мелькал в голове лейтенанта калейдоскоп мыслей, ем временем, местные «варвары» уже смешались с толпой новоприбывших «колонистов». Слышались радостные возгласы, расспросы. Затем, не дав опомниться «дорогим гостям», «хозяева» повели их в модуль. Кто-то подхватил вещи лейтенанта Л. и по пуги что-то рассказывал ему, одновременно расспрашивал о том, что происходит в Союзе и в их гарнизоне. Тот в полуха слушал, односложно отвечал, а сам продолжал осматриваться. Рой мыслей, продолжал метаться в голове лейтенанта. Главной из них была: «Куда я попал?».
Действительно, после гарнизона К. гарнизон Ф. выглядел полным издевательством. Первым бросалось глаза то, что в отличие от расположенного на плато аэродрома К., аэродром Ф. был в котловине. Горы буквально нависали над ним, давили на психику. Лейтенанту даже хотелось втянуть голову в плечи. А как близко проходил к полосе рубеж охраняемой зоны!.. Лейтенант проследил за уходящим в даль ограждением из колючей проволоки.
– Твою мать!.. – про себя выругался он, забор «колючки» проходил всего в пяти метрах от модуля. И совсем уж добила лейтенанта глинобитная стена-дувал между ограждением из колючей про-волоки и задней стеной модуля. О её назначении красноречиво свидетельствовал чёткий ряд стрелковых бойниц. Лейтенант явственно представил, как он вскакивает среди ночи и занимает предписанное ему место. На ум пришли кадры из фильма «Белое солнце пустыни».
Кстати о модуле, он был всего один, никакого городка. Рядом притулилась глинобитная казарма, на крыше которого угнездилось нечто, всем своим видом напоминающее курятник, но по замыслу создателей это было ни что иное как командно-диспетчерский пункт. Тут же на крыше, рядом с импровизированным КэДэПэ, стоял на треноге крупнокалиберный пулемёт.
– Наверное, для несговорчивых лётчиков, – про себя решил лейтенант.
По другую сторону модуля стоял ребристый ангар-столовая, небольшой сборный магазин и полевой кинотеатр. Несколько скудных деревьев не могли придать никакого уюта крошечному городку. Единственное, что порадовало глаза, это чуть стоящее поодаль и почему– то за пределами охраняемой ночью зоны добротное здание бани.
– Не густо…, – старлею стало совсем тоскливо. – Неужели целый год торчать в этой дыре?

Аэродром Файзабад.


Кинотеатр (вверху) и вид на жилой модуль со стороны бани. Хорошо видны стрелковые бойницы.

Заменщики и заменяемые. Второй слева автор. Он же на фото возле своего Ми-24В.


Вид на жилой модуль со стороны «парадного подъезда».
Больше пока лейтенант рассмотреть не успел, ведомый хозяевами он зашёл в модуль. Его, отныне его, комната, была совсем рядом. Хорошим моментом было то, что в ней было всего четыре кровати, а не шесть как в гарнизоне К. Это обстоятельство понравилось не только ему.
– Ну, хоть не в тесноте будем, – сказал чуть повеселевший капитан, хотя тогда ещё тоже старлей А.
Посредине комнаты стоял уже наполовину накрытый стол. Их уже давно ждали.
– Так мужики, – перешёл к делу командир звена хозяев, – банька протоплена, сейчас все туда, а затем за стол.
Баня оказалась даже лучше, чем предполагал лейтенант. Сложенная из дикого камня, она изнутри была любовно обшита деревом, явно побывавшем в роли упаковки для боеприпасов. Шикарный предбанник, душевая и сауна могли украсить любой дом отдыха или дачу, но главным её достоинством был обалденный бассейн! Спустя час разомлевшее и подобревшее звено капитана К. разместилось за столом. Как уже убедился лейтенант, найти в Афганистане, чем поправить здоровье, было тем ещё вопросом. Он быстро оделся, умылся и больше из любопытства, чем от голода, пошёл в столовую.
– Как хорошо, что она рядом, – отметил про себя лейтенант, в К. до неё нужно было тащиться полкилометра. Вторым приятным моментом оказалось то, что мест в столовой было даже с избытком, никакого питания в две смены. Да и питание было вполне сносным.
Лейтенант быстро позавтракал, день сегодня у него предстоял хлопотный. Нужно было подготовить полётные карты, изучить особенности района полётов и много чего другого.
Окунувшись в работу, лейтенант не сразу заметил, что день начался, как-то не так. Не было обычного утреннего построения, указаний.
– А здесь так принято, – объяснили ему, – вечером получаем задачу и с утра действуем по плану. Каждый занят своим делом, и лишние указания ни к чему, нас здесь мало.
Напротив них сидели те, кого они меняли. Как и полагалось, первое слово взял командир звена «хозяев»…
Рюмок через пять лейтенант уже был полностью доволен жизнью, ещё через пять он её уже не воспринимал…
…Проснулся лейтенант около восьми утра. Вначале осторожно открыл глаза, экспресс-самотестирование систем организма не выявило никаких болезненных симптомов. Он осторожно пошевелился, но похмелье себя не проявляло. Видать, вчера сказалось превышение аэродрома Ф., от разрежённого воздуха непривычный ещё к этому лейтенант ушёл в страну грёз раньше, чем количество выпитого им алкоголя достигло критического значения. Это радовало, поскольку, – Вот это да! – лейтенант был восхищён, такая авиация не существовала даже в самых смелых его мечтах. Авиация, где лётчик занят только своим делом, никаких нарядов, шагистики, построений, строевых смотров.
Незаметно почти пролетел день, и вот уже звено капитана К. с завистью провожает тот самый Ми-6, который привёз их сюда. Сейчас на его борту те, кто через пару дней будет дома.
– Так, сейчас все в класс на постановку задачи, – скомандовал капитан К., – завтра приступаем к работе.
Капитан К. уже мнил себя бывалым. А как же, пятый день в Афгане, вот сегодня два полёта совершил. Собственно говоря, так уже мнило себя всё звено, не догадываясь, какой сегодня ночью ожидает сюрприз.
Около двенадцати ночи, когда новички уже успели уснуть, поднялась стрельба. Вначале это была обычные беспорядочные автоматные выстрелы. Так несколько скрипок начинают концерт симфонической музыки. И вот, после нескольких аккордов, повинуясь неведомому дирижеру, «зазвучали другие инструменты», вступили в дело пулемёты, и тут уже лейтенант открыл глаза. В окно было видно феерическое зрелище. Прямо через модуль, в сторону гор, веером уходили трассирующие пули. Ярко алые пушистые трассы вспарывали ночное небо. Минут пять длилась эта увертюра. Затем пулемёты умолкли и опять была слышна только беспорядочная автоматная стрельба, которая тоже понемногу затихала, [о оказалось, это только начало концерта. Вдруг довольно неожиданно вступил в работу мощный КэПэВэТэ. Громко и самозабвенно, длинными очередями, вёл он свою сольную партию. Его крупнокалиберные пули ярко вспыхивали, попадая в камни гор. Каждая «нота солиста», чудесно резонировала в комнате.
– Четырнадцать с половиной миллиметров, почти снаряды, – подумал лейтенант.
А «симфония» тем временем продолжалась. Как дьявольский аккомпанемент «солисту», вновь повели свою «партию» пулемёты винтовочного калибра. От обилия трассирующих пуль в комнате стало светло.
– Во я попал, – подумал лейтенант, – это что, здесь так всегда? Ему вдруг пришла мысль, что раз он видит горы, то с гор могут достать и его.
Но, поскольку его соседи по комнате продолжали лежать на кровати и хранить молчание, лейтенант делал то же самое. Не хватало ему, что бы ещё паникёром сочли. Хотя его душа требовала, достать из-под кровати автомат, выпрыгнуть в окно и занять место у бойницы дувала. Но что-то его сдерживало, непонятно почему, у него была уверенность, что его самодеятельность в этом «концерте» не нужна.
– Надо же, оказывается можно проявлять мужество, не вставая с кровати!… – пришёл к неожиданному выводу лейтенант. Единственное, что его смущало, так это то, что смерть будет не слишком героической.
А за окном продолжала бушевать «пулемётно-автоматная симфония». В момент, когда казалось, что она достигла высшего накала, зазвучали «ударные». В горах вспыхнули и хлопнули по окнам, разрывы гаубичных снарядов. После этого «солист» оборвал свою «партию». Его аккомпанемент ещё несколько минут «играл» самостоятельно, но затем стих и он.
Возникло странное ощущение давящей на слух тишины. Сейчас бы были уместны аплодисменты…
Но никто так и не решился заговорить, и незаметно лейтенант снова уснул.
Утром он то и дело замечал обращённые на него вопросительно-насмешливые взгляды старожилов.
– Разыграли, – догадался он и придал лицу кирпично-непроницаемое выражение.
Как оказалось, это было своеобразное «посвящение» новичков. В следующую ночь лейтенант засыпал спокойно. Нависавшие за окном горы, уже не давили на его психику.
ПОЖАР
Наивен тот, кто полагает, что раз Афганистан на юге, то там нет зимы. Она там всегда. Нет, я не вру. Да там действительно жара, но стоит посмотреть на горы, как ты понимаешь, что зима, вот она! рядом. Их заснеженные вершины красноречиво говорят об этом. На высотах более 4 тыс. метров зима царствует круглый год. Лётчики хорошо знают об этом, они почти каждый день летают в зиму. А некоторые, точнее пилоты Ми-24, ощущают зиму ещё и на собственной коже. Почему? Да потому, что при всём великолепии Ми-24, в котором для удобства экипажа предусмотрена даже такая буржуазная роскошь как кондиционер, но в нём, по какому-то капризу конструкторов, не имеется штатного обогревателя кабины. Для обогрева экипажа предусмотрен забор сжатого, а значит горячего воздуха от компрессоров двигателей. У земли, где по идее и должен летать вертолёт, это работает прекрасно. Но это Афганистан, и вертолёты очень часто летают на потолке, где важен каждый процент мощности двигателей, а подобная система обогрева как раз и отнимает эту мощность.
На практике это выглядит так: с набором высоты начинает падать температура воздуха, отчего в кабине тут же интенсивно (вроде и не сильно выпили вечером) начинают запотевать стёкла. Включаешь обогрев кабин, помогает, но двигатели от этого теряют тягу и вертолёт в лучшем случае не набирает высоту, а в худшем её теряет. А впереди перевал. Выключаешь обогрев. Опять запотевают стёкла. Делать нечего, открываешь забор наружного воздуха. Температура в кабине и снаружи выравнивается, стекла не потеют. Вот только ты в тонком летнем комбинезоне, а в кабине уже заметно ниже нуля…
После посадки разомлевший от жары пропотевший технический состав с изумлением смотрит на пританцовывающих у вертолёта пилотов, у которых зуб на зуб не попадает.
Но это только пол беды, беда в том, что зима может спуститься с гор. Да-да, именно спустится с гор. С наступлением осени наблюдаешь, как с каждым днём всё ниже и ниже граница снега. И если ваш аэродром находится на высоте более тысячи метров, то зима обязательно дойдёт и до вас. В одно прекрасное утро вы будете удивляться такому по-русски белому снегу и морозному воздуху. А удивляться будете потому, что у вас напрочь отсутствует зимнее обмундирование, и вы будете проклинать преподавателей военных училищ тыла, которые не объяснили своим курсантам такое понятие как высотные климатические зоны. Впрочем, помянёте вы также за ту же ошибку и преподавателей строительных училищ. Ваш модуль явно не рассчитан на зиму. Нет, какие-то рудименты батарей отопления, конечно, присутствуют, и даже местными умельцами сооружена миникотельная, но, увы, температура в модуле немногим отличается от наружной. Чтобы согреться, особенно ночью, авиаторы идут на всякие ухищрения, разживаются вторым комплектом одеял, из вертолётных запчастей сооружают самодельные обогреватели, повергающие в ужас начальника дизель-электроузла, ложатся спать в комбинезонах.
В один из таких зимних вечеров капитан А. и старлей Л. ворочались в своих кроватях, пытаясь согреться и уснуть. Их напарников по комнате, пилотов ведомого экипажа старлеев Н. и С. не было. Они убыли в краткосрочный отпуск. Время было довольно позднее, и старлей Л. почти уснул, не обращая внимание на посторонние звуки, доносящиеся с улицы.
– Слышишь, стреляют, – нарушил молчание капитан А. Старлей прислушался, с улицы действительно доносились одиночные автоматные выстрелы. Одиночные, значит ничего страшного, что было будить? А посему, старлей поудобней устроился на кровати и ответил что-то в духе известных трёх букв…
– А почему на улице так светло? – не унимался капитан А.
– Бля!… – ответил старлей Л., он был раздражён, завтра была его очередь на час раньше вставать и производить ежедневное опробование вертолёта, а поскольку он окончил училище на два года позже капитана А., то это значило, что его очередь всегда, – тебе надо, пойди и посмотри!
Тем не менее, старлей Л. глаза всё же открыл. И вправду, с улицы в комнату проникал какой-то странный, красноватый свет. Как ни странно, но это обстоятельство тоже ничуть не озадачило старлея Л., его больше удивило другое: капитан А., вопреки своей лени, поднялся с кровати. Мало того, он, накинув поверх комбинезона куртку, босиком подошёл к окну.
– А-а-а-а!.. Горим!!.. – вдруг заорал капитан А. и, распахнув окно, как был босиком, сиганул прямо в десятисантиметровый снег.
Парадокс заключался в том, что даже это не возымело должного действия на старлея Л. По крайней мере никакой поспешности в его действиях не было. Здраво рассудив, что пока в комнате нет открытого пламени, можно не торопиться, он стал не спеша надевать носки, ботинки, по ходу обдумывая сложившеюся ситуацию. Было понятно, что горит модуль, и с этим надо что-то делать. Поразмыслив, он пришёл к двум вариантам действий. Первый, это собрать свои вещи и покинуть модуль, второй, это принять участие в тушении пожара. Но, вспомнив свою любовь к порядку, старлей Л. понял, что на сбор вещей и эвакуацию ему понадобится минимум два дня, что в данной ситуации было совершенно неприемлемо.
– Значит, – пришёл к выводу старлей Л., – придется принять участие в тушении пожара, возможно даже проявляя чудеса героизма.
Тем временем с одеванием было покончено, и старлей Л. вышел на улицу.








