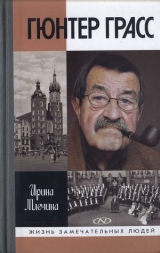
Текст книги "Гюнтер Грасс"
Автор книги: Ирина Млечина
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 26 страниц)
Многие эпизоды второй части выразительно рисуют суть и проявления фашизма, который ощущается как историческая и жизненная реальность, как сила, вторгшаяся в повседневность, сила, которой всё та же «душная» обывательская среда не хочет и не может противостоять, а приспосабливается абсолютно естественно и без натуги.
Характерны сцены несостоявшейся встречи Либенау-старшего с Гитлером, паломничество в «святые места» – к конуре пса Харраса, арест учителя Бруниса по доносу Туллы Покрифке, которая еще не раз возникнет в произведениях Грасса, неизменно воплощая одновременно живую плотскую энергию и абсолютно злобное коварство, становящееся причиной несчастий и гибели разных людей. Учитель Брунис, который был действующим лицом еще в «Кошках-мышках», вскоре погибает в лагере Штутгоф и, как следует предположить, его кости пополняют гигантскую белую гору, к которой уже почти привыкли обитатели здешних мест.
Последняя часть романа – «Матерниады» – получает свое название по образцу «Робинзонад» и «Симплициад», но по имени Вальтера Матерна. Здесь, как уже отмечалось, есть блестящие гротескно-сатирические пассажи, пародирующие фальшивое преодоление прошлого, процесс денацификации и т. д. Однако именно в этой части заметно преобладание абстрактно-аллегорических мотивов и трудно подлежащих расшифровке символов.
Но эта аллегорическая избыточность всё же не мешает Грассу донести до читателя один из главных содержательных элементов романа – взгляд на недавнюю историю Германии, на период фашизма и войны. И тут важную роль играет контрастное сопоставление (или противопоставление) двух ключевых персонажей – Эдди Амзеля (превратившегося в итоге в крупного предпринимателя Браукселя) и бывшего актера Матерна, этих друзей-врагов, чьи истории зримо воплощают все перипетии истории Германии с середины 1920-х до середины 1950-х годов. И если Гарри Либенау с его влюбленными посланиями Тулле Покрифке выступает скорее как весьма безликий свидетель, «медиум», то два остальных исполняют по отношению к прошлому более отчетливые роли: жертвы и злодея. Ведь это Матерн, которому иногда мерещится, что он «красный», всё время вляпывается в устрашающие авантюры «коричневых». Именно он так активничает, участвуя в избиении своего друга Эдди и оставляя последнего без единого зуба.
Можно сказать, что взгляд из послевоенных лет в нацистское прошлое – определяющий структурный элемент романа.
Мы уже упоминали высказывание Грасса о том, что тема вины – это тема эпохи. Вальтер Матерн, немало покуражившийся в годы нацизма, пытается любыми способами вытеснить прошлое – вместе с чувством вины – из своего сознания. Разумеется, он в этом не одинок. Недаром вся заслуживающая хоть какого-то внимания западногерманская послевоенная литература, не говоря уже о ключевых именах – Бёлле, Андерше, Ленце, Кёппене, Хоххуте (список можно продолжать долго), снова и снова упорно обращалась к этой теме.
Действительность 1950-х годов рождала у них протест против «новой фальши» расцветающего «парадного искусства» и новой реваншистско-реставрационной литературы вроде упомянутых Грассом брошюр издательства «Пабель». Их возмущали «сытые сборища подмигивающих обывателей», из которых «одни ничего не знали, ни о чем не подозревали и разыгрывали теперь роль совращенных демонами детей», а другие утверждали, что «тайком всегда были против». Антифашистски и демократически мыслящие писатели упорно возвращались к позорным страницам немецкой истории, вступая в полемику с теми, кто призывал забыть, вычеркнуть наконец из памяти это прошлое или твердил, что злодеяния нацизма – миф, придуманный враждебной пропагандой. Грасс на протяжении десятилетий не уставал вести эту полемику. Но сейчас речь не о публицистике.
Собственно, во всех его произведениях тема вины так или иначе занимает важное место. Вот и его герой Матерн пытается вытравить из собственной памяти неприглядные страницы своего прошлого – ну хотя бы тем, что старается вместо прошедшего времени употреблять настоящее. Актер Матерн хочет забыть прежние «роли» и найти новую. Впрочем, он не просто хочет забыть – он забыл. Он, правда, не склонен прощать нанесенные ему в прошлом обиды. Это отчетливо проявляется в сценах, когда он гротескными способами пытается наказать своих обидчиков. Но собственную вину он прочно вытеснил на обочину памяти или скорее изгнал ее оттуда вовсе. Более всего именно в вопросе вины за прошлое и проявляются роли трех рассказчиков, из которых один, как уже говорилось, имеет все основания считать себя жертвой, зато его друг-враг Матерн, несмотря на всю гротескность «Матерниад», оказывается, по сути, виновным, более того, преступником.
Таким образом, Эдди Амзель, который во времена нацизма преследуется по расовым мотивам, не просто остается без зубов, он, можно сказать, умирает после свирепого избиения, в котором с таким энтузиазмом участвует Матерн, и потом возвращается – уже в другом облике (Золотозубика или Золоторотика) и под другим именем. В качестве символического жеста отвержения былой дружбы Матерн еще и бросает в Вислу купленный Амзелем и подаренный ему перочинный ножик, с помощью которого они еще так недавно заключили «кровную дружбу». Амзель-Брауксель, в отличие от Матерна, не актер, но он артист и эстет, как Оскар Мацерат. Он жертва, но и внимательный наблюдатель, который четко фиксирует происходящее и пытается откликнуться на него (как Оскар – барабанной дробью) языком огородных пугал, постепенно всё больше отражающих характер и события времени, ведь он делает их по образу и подобию людей. И уход Амзеля, как замечал исследователь Грасса Фолькер Нойхауз, «в подземелье», где он организовал мощный концерн по изготовлению пугал, сродни стремлению Оскара обрести убежище, изолированное от людей, на койке специального лечебного учреждения. А «воскресение из мертвых» вполне может символизировать «бессмертие» искусства, ибо именно как произведения искусства характеризует свои пугала их создатель, натура артистичная и уже потому особенно уязвимая.
Матерн же в отличие, к примеру, от Мальке из «Кошек-мышек», ощущающего себя одиночкой и аутсайдером, ищет спасения и успеха в «коллективном мессианстве», которое в его нацистском варианте означает ненависть, бесчеловечность и участие в преступных акциях.
В романе Грасса символическим воплощением преступлений этого «нацистского мессианства» выступает гора человеческих костей у лагеря Штутгоф. Но в своей публицистике Грасс чаще всего упоминает Аушвиц – Освенцим. «Мимо Освенцима нам не пройти, – писал он в 1990 году в еженедельнике «Цайт». – Мы не должны, как нас ни тянет, даже пытаться совершить подобный насильственный акт, ибо Освенцим неотделим от нас, он является вечным родимым пятном нашей истории, и – это благо! – именно он сделал возможным один вывод, который можно сформулировать так: “Теперь наконец-то мы знаем самих себя”». Так с почти полувековой дистанции обозначил Грасс важнейшую особенность литературного развития в ФРГ: его незатухающую связь с историческим, этическим, художественным осмыслением трагического национального опыта.
В атмосфере 1950-х годов в ФРГ и в самом деле было трудно, судя по бесчисленным отзывам о том времени, писать и говорить всю правду о войне и фашизме и, главное, о их преодолении, о неистребимых корнях прошлого, особенно на фоне раздраженных восклицаний: «Ну сколько же можно! Забудем и никогда больше не станем вспоминать!» Забыть действительно пытались очень многие, и те, кто совершал преступления, и те, для кого прошлое было травмой, которую хотелось навсегда вытолкнуть из памяти. Но именно благодаря немецким писателям мы знаем и понимаем, что такое фашизм, каким он был и каким снова станет, дай ему волю. Трудно не быть благодарным за эти уроки. Сейчас очевидно, что такие люди, как Бёлль или Грасс, Ленц или Андерш и другие, хранили эту память не только для немцев. О вине и ответственности они напоминали не одним лишь соотечественникам.
Чувствуя свою вину и пытаясь вытеснить ее, грассовский Матерн не только мстит абсурдным образом былым носителям всё того же «коллективного мессианства». Он испытывает глубочайшее отвращение к амзелевско-браукселевским пугалам. Ведь еще в ранней юности он с ужасом увидел в одном из пугал себя. Позднее, уже будучи членом СА, он узнал себя уже в целой группе пугал, одетых в форму штурмовиков, и тогда-то он избил – или убил? – автора. А когда пугала открываются ему как воплощение всех человеческих пороков, когда он обнаруживает заполненный пугалами в образе людей гигантский подземный завод, он снова испытывает гнев и ненависть, потому что готов обвинять во всех смертных грехах других, но только не себя. Он убивает пса Харраса, пытаясь убить свое прошлое, и – если бы мог – разобрался бы с пугалами, населяющими Подземный мир.
Грасс неоднократно говорил о том, что основу созданных им образов составляет «амбивалентность, двузначность нашего времени». Не только Оскар Мацерат, но и Амзель, и особенно Матерн ярко воплощают феномен «двойного существования». Обстоятельства жизни, эпохи, считал известный немецкий исследователь литературы Ханс Майер, делают неизбежной форму «двойной жизни»: «разделение немца на отца семейства и чиновника, любителя ферейнов и короля стрелков, друга музыки и исполнителя приказов». Оскар – младенец и взрослый, жертва и обидчик, несчастный гном и злой предатель. Трубач Мейн – неплохой музыкант и активист Хрустальной ночи, средний обыватель и яростный приверженец нацистских военизированных отрядов.
Матерн, который «всё время ищет бога, а находит лишь экскременты», заключает со сверстником «кровный братский союз», а потом выбивает ему зубы. В зависимости от политической обстановки он, как и миллионы его соотечественников, «был красным, потом надел коричневое, потом ходил в черном (то есть принадлежал к СС), потом снова перекрасился, став чем-то вроде “красного”». «Плюньте на меня: вот моя всесезонная одежда, перестегивающиеся подтяжки… сверху лысый, внутри полый, снаружи обвешанный кусками материи, красными, коричневыми, черными…»
Но и Амзель, «золоторотик», ставший владельцем концерна Браукселем: жертва, а потом приспособившийся к «рыночному хозяйству» извлекатель прибыли, талантливый создатель пугал, за которыми проглядывает уже не только немецкий обыватель, склонный к конформизму, но и все человечество – катастрофическая аллегория, которая позднее в еще более отчаянном варианте возникнет в романе «Крысиха»…
Всё оказывается двойственным и взаимозаменяемым: столь любимый Гитлером пес происходит от волчицы, и потому постоянно маячит опасность собачьего перерождения. И одновременно пес как бы меняется местами с человеком. Харрас, отец Принца (который потом станет Плутоном), оказывается своего рода кумиром: у него берут интервью, группа пимпфов присваивает себе его имя, целые школьные классы спешат нанести ему визит. И вот уже «Принц делает историю».
«Собака – в центре» – это не просто одна из грассовских афористических формул: как в годы войны жизнь немцев превращается в «собачью жизнь», так и ощутимо возникает угроза, что весь мир превратится в некий устрашающий «собачий хоровод». Столь же универсальной предстает и история пугал: 32 зала подземного завода, где производятся пугала на любой вкус, не просто соответствуют количеству выбитых у Амзеля Матерном зубов и ожидающей Матерна мести «зуб за зуб». Пугала тоже становятся частью некоего универсума, «космоса пугал», угрожающего вытеснить человека, который ведет себя одновременно трусливо и брутально, испуганно и бесчеловечно.
В конце 1960-х годов Грасс в журнале «Шпигель» высказывался по поводу некоторых проблем, затронутых в романе. «В “Собачьих годах” в образе Матерна мне удался, как мне кажется, носитель немецких идеалистических идей, который за короткое время… ищет спасительное учение в коммунизме, национал-социализме, католицизме и, наконец, в идеологическом антифашизме. В конце он фашистскими методами занимается на свой манер антифашизмом».
Персонажи Грасса – люди со множеством лиц, смена которых определяется обстоятельствами времени, событиями и окружением, требованиями, предъявляемыми на каждом конкретном повороте истории. Внешние обстоятельства полностью лишают их индивидуального начала, они готовы мимикрировать, приспособиться ко всему, воплощая утрату идентичности, характера и всякой внутренней свободы, что завершается полным исчезновением личности. При таком взгляде устрашающие грассовские гротески уже не кажутся плодом избыточной фантазии и беспредельного писательского изобретательства. Как отмечали еще в 1960–1970-е годы многие западногерманские критики (Р. Баумгарт, В. Йенс, Г. Майер и др.), героем романа всё реже становится одинокий индивидуалист, чуждый окружающему миру. Его вытесняет «средний человек» со стандартным сознанием.
Такие фигуры уже не являются, как в «старом романе», неповторимыми индивидуальностями. Напротив, эти вялые «антигерои» олицетворяют посредственность, «всеобщую обезличенность», в условиях которой человек уже не действует в соответствии со своими моральными принципами, а подчиняется обстоятельствам, заранее предопределенному ходу вещей.
Но именно такого героя Грасс никогда не оправдывал. Он категорически отметал формулу «виновато общество», а человек, мол, не виноват. Он и сам-то казнился всю жизнь, что еще в юности «не задавал вопросов», которые необходимо было задавать. Тем более он не снимал вины со своих героев.
И потому столь очевидна доминанта «Данцигской трилогии». Это ненависть к фашизму, любым диктаторским режимам, тоталитарным системам и неприязнь к «душному» обывательскому мирку, который неизменно проявляет рабскую готовность прогнуться и приспособиться к власти; это осознание вины и ответственности за содеянное немцами в годы нацизма.
Глава IV
НАРКОЗ, СКАЛЬПЕЛЬ, УЧИТЕЛЯ, УЧЕНИКИ И УЛИТКИ
Примерно в середине 1960-х годов в позиции и творчестве Грасса происходит серьезнейшая метаморфоза. Писатель активно вовлекается в политическую деятельность и в 1965 году, как бы напрочь отвергнув прежнее полнейшее пренебрежение к разного рода идеологиям и партиям, включается в предвыборную борьбу социал-демократов. Его привлекают фигура и политическая программа Вилли Брандта, будущего федерального канцлера, другом и союзником которого Грасс останется на долгие годы.
1960-е стали временем политизации всей общественной и культурной жизни ФРГ. Давно уже зревшее в западногерманском обществе глухое недовольство сложившейся обстановкой и атмосферой в конце десятилетия вылилось в бурю молодежного протестного движения.
Конец «эры Аденауэра», 14 лет остававшегося на посту федерального канцлера в сложную эпоху то обострявшейся, то слегка затихавшей холодной войны, и «политика середины и взаимопонимания», провозглашенная сменившим его Людвигом Эрхардом, не сумевшим проявить на этом посту такого же таланта и умения в организации и налаживании «социального рыночного хозяйства», к тому же успевшим войти в конфликт с интеллигенцией, хотя и вносили некоторые новые моменты в общественно-политическую реальность ФРГ, тем не менее не означали коренного поворота.
Именно в этот период и в последовавшие за ним годы правления канцлера Кизингера, состоявшего некогда в национал-социалистической партии, а ныне возглавившего «Большую коалицию», отчетливо обозначился кризис, сопровождавшийся ростом нового национализма, нашедшего крайнее выражение в создании и определенных успехах неонацистской партии – НДП. В ФРГ, где к тому времени в целом сложился климат весьма активного неприятия всего, что связано с нацизмом, действия тогдашних неонаци вызывали решительный протест.
Неонацистская историография и пропаганда, действуя под лозунгом «поисков исторической правды», активно выступала против самой идеи «преодоления прошлого». На фоне резкого экономического спада 1966–1967 годов НДП приобрела довольно много сторонников и получила бы шанс реально влиять на политику, если бы сумела преодолеть необходимый пятипроцентный барьер на выборах в бундестаг. Из огромного количества грассовских публикаций в прессе, которые так или иначе затрагивали жгучие общественно-политические темы того времени, достаточно назвать лишь несколько: «Речь, обращенная к молодому избирателю, испытывающему искушение проголосовать за НДП» (мюнхенская газета «Абендцайтунг», 17.11.1966), «Речь о первейшем долге гражданина» («Цайт», 13.01.1967), «Трудности отца, пытающегося объяснить своим детям, что такое Освенцим» (западноберлинская газета «Тагесшпигель», 27.05.1970).
Всё, что печатал в прессе Грасс, носило острый публицистический характер. Слово «призыв» плохо сочеталось как со смыслом, так и со стилистикой Грасса: будучи художником высочайшего уровня, он не терпел дидактичности, «поднятого вверх указательного пальца», как он не раз выражался. Но по сути – его статьи в периодике 1960-х – это чаще всего именно призыв к согражданам, напоминающий о «долге обеспокоенности», об обязанности каждого испытывать чувство тревоги, когда вокруг происходят события, несовместимые с понятиями политической этики. И всегда в его текстах присутствовала тема «непреодоленного прошлого». А оно между тем снова прет из всех щелей, в том числе в образе той самой партии неонацистов под названием НДП. Не случайно либеральная газета «Цайт» вышла с заголовком на первой полосе «Марш Таддена на Бонн» – так называлась статья Дитера Штротмана (№ 8, 1968), в которой с тревогой говорилось о предвыборном натиске этой партии и ее тогдашнего лидера фон Таддена.
В эти годы «непреодоленное прошлое» вновь оказывается ключевой темой общественных дискуссий. Спровоцированный дебатами о «сроке давности» нацистских преступлений, процессами над нацистскими преступниками (особенно процессом 1965 года по делу о злодеяниях в Освенциме, получившим название «Освенцимский процесс»), интерес к этой теме соединился со стремлением демократических слоев общества дать новое, исторически более обоснованное и зрелое истолкование событий недавнего прошлого.
Коллега Грасса Мартин Вальзер, присутствовавший на процессе, написал ставшее знаменитым эссе «Наш Освенцим», одно название которого говорило о том, что речь идет о позорном бремени, от которого едва ли удастся уйти и последующим поколениям, – вина за Освенцим будет многие десятилетия тревожить немцев.
В эти же годы политическим истеблишментом был выдвинут лозунг «сформировавшегося общества», призванный утвердить идею полного преодоления социальных и политических противоречий. Косвенно план «сформировавшегося общества» означал усиление борьбы против оппозиции, прежде всего оппозиции интеллектуальной, обруганной и оболганной и канцлером Эрхардом, и федеральным президентом Любке. Однако никому из них не удавалось справиться с оппозицией, которая находила путь к обществу прежде всего через средства массовой информации.
Желание осмыслить заново события прошлого подогревалось активным возмущением интеллигенции действиями и выступлениями крайне правых, пытающихся в разных вариантах реабилитировать фашизм. Спектр культурных движений и направлений, характер общественных дискуссий вырисовываются где-то между протестом и примирением, между бурным кипением и стагнацией, общественными вихрями 1960-х и одновременным ростом консервативных настроений.
С середины 1960-х развитие культуры и литературы ФРГ проходит под знаком политизации, широкого вовлечения писателей в общественную жизнь. Выражением давно назревавшего и резко прорвавшегося протеста против политического курса аденауэровской эры, политического курса ХДС – ХСС, против истеблишмента стало движение студенческой молодежи, выплеснувшееся в конце 1960-х из университетских аудиторий на городские улицы, активизация весьма неоднородной по своему составу и политическим позициям левой интеллигенции, за которой закрепилось название «новой левой».
Студенческое движение, как и сопровождавшее его крайнее недоверие к традиционным формам культуры и литературным жанрам, чем-то напоминало события «культурной революции» в Китае. Недаром в эти годы на тротуарах крупных городов можно было видеть множество сидящих прямо на брусчатке молодых людей в потертых джинсах и майках (как раз тогда этот «прикид» вошел в моду), погруженных в чтение маленьких красных книжечек – цитатников Мао, получивших название «Библии Мао».
Множество публикаций в прессе этих лет носит выраженный «левацкий» характер, сами издания стараются придать себе крайне «левый облик» и выглядеть супер-р-р-революционными (например, журнал «Конкрет», где колумнисткой была Ульрика Майнхоф, ставшая позднее членом руководящей группы, или так называемого «твердого ядра», РАФ – «Фракции красной армии», быстро перешедшей к террору).
Многие писатели в этот период ищут в литературе сиюминутной действенности и, не находя ее, отвергают саму литературу. «Литература и действие исключают друг друга», – заявляет писатель Петер Хертлинг. Ганс Магнус Энценсбергер, известный поэт, призывает интеллигенцию перейти к «политическому просвещению Германии». Альтернативу «устаревшей» литературе он видит в документализме, критической публицистике, репортаже, автобиографических записях, сделанных непрофессионалами, в высказываниях «человека с улицы» перед микрофоном. Писатель Петер Шнайдер и вовсе призывает «покончить с библиотеками» и «выйти на улицы».
Всё «левое» в этот момент в моде (как позднее в моде окажется всё «правое»). Сама мода рождается из общественных настроений, а они носят в этот период отчетливо левый характер. Студенческие демонстрации проходят по улицам городов с портретами Троцкого, Розы Люксембург, Карла Либкнехта, Мао Цзэдуна, Хо Ши Мина, Че Гевары и др.
Формула «правые правеют, левые левеют» применительно к концу 1960-х годов была более чем точной. В эти годы целый ряд писателей, вслед за протестующим студенчеством, стремится занять активную позицию, откликнуться на события времени. Многие из них приветствуют студенческое движение, так называемую «внепарламентскую» оппозицию, в надежде, что новые веяния будут способствовать реальному преодолению прошлого, не позволят активизировавшимся неонацистским силам загипнотизировать общество.
Тенденции развития ФРГ способствовали тому, что подавляющее большинство писателей, представляющих послевоенную немецкую литературу, играли в 1950–1960-е годы роль оппозиции. Они сознавали свою ангажированность как просветительскую, активизирующую деятельность, как «предостерегающую функцию».
«По своим мыслям и чувствам они были антифашистами и антимилитаристами, они возражали, как могли, против прямолинейности категорий, рожденных идеологией холодной войны; они выступали за конституцию и пытались защитить ее от посягательств со стороны правящих кругов», – писал о своих коллегах по перу Г. М. Энценсбергер.
Усиливавшееся ощущение глобальной угрозы, вызываемое обострениями холодной войны, рождало и более глубокий, чем прежде, философский подход к осмыслению прошлого, к трудным вопросам, в частности о том, как и почему становится притягательным фашизм с его установкой на агрессию, экспансию, военный конфликт и в то же время на заигрывание всё с теми же «затхлыми» обывательскими гнездами. И не только с ними – с интеллигенцией тоже.
Ведь известно, что нацисты пытались привлечь на свою сторону многих представителей интеллигенции, но удалось это лишь в отношении малой и наименее талантливой ее части – остальные уезжали в эмиграцию или избирали эмиграцию внутреннюю, не поддаваясь на соблазны режима и отгораживаясь всеми силами от какой-либо активности в его пользу.
Проблему индивидуального выбора, личных решений литература настойчиво увязывала с общественными и историческими последствиями этих решений. «Прошлое требует, чтобы я швырнул его на дорогу современности и тем заставил ее споткнуться», – заявлял Гюнтер Грасс.
Конфликт между «духом и властью», как говорили в ФРГ, то есть между интеллигенцией и правящими кругами, выражался не только в форме откровенных нападок со стороны власть имущих (так, канцлер Эрхард назвал известного драматурга Рольфа Хоххута, автора пьесы «Наместник», поставленной в театрах едва ли не всего мира, «маленькой шавкой»), но и в активном интеллектуальном сопротивлении оппозиционно мыслящих писателей, публицистов, журналистов и т. д.
Гюнтер Грасс, которого тоже захватила эта волна политизации, занимал, однако, свою особую позицию. Он отвергал любые крайности, про ультраправых мы уже говорили, – всё, что попахивает нацизмом, для него отвратительно и неприемлемо. Но и все формы «левачества» тоже вызывали отторжение.
Когда Грасс, подключившийся к избирательной кампании социал-демократов, был сильно разочарован неубедительным итогом этих выборов и вхождением СДПГ в 1966 году в так называемую «Большую коалицию» во главе с федеральным канцлером Куртом Кизингером, бывшим членом НСДАП, он творчески отреагировал весьма своеобразно – пьесой «Плебеи репетируют восстание», поставленной в январе 1966 года в Театре имени Шиллера в Западном Берлине, а через год сборником стихов «Выспрошенный».
Своей пьесой он как бы несколько отходил от реальности ФРГ; с другой стороны, отодвинув на время данцигскую тему, он оставался в политическом поле, потому что его пьеса откликалась на событие самое что ни на есть политическое – восстание рабочих ГДР 17 июня 1953 года.
Тогда Грасс увидел нечто, спустя почти полтора десятилетия вдохновившее его на создание «Немецкой трагедии» (таков подзаголовок пьесы).
В его пьесе рабочие восстают против несправедливости властей. Когда на улицы выходит внушительная толпа, плохо организованная и лишенная лидера, кому-то приходит в голову направиться к знаменитому драматургу и режиссеру (который в пьесе именуется просто «Шеф»), чтобы он помог им сформулировать их требования и написать соответствующий «манифест». Встретившись, рабочие и драматург-режиссер начинают вести себя по-детски наивно. Рабочие много и путано говорят, пытаясь объяснить цель своего визита, а «Шеф» видит в них не столько страждущих, обратившихся к нему за советом и помощью, сколько некий материал, пригодный для работы над шекспировским «Кориоланом», над сценами восстания римских плебеев, которые он как раз репетирует. «Шеф», воспевающий борьбу против насилия и подавления, оказывается неспособным понять реальных людей, поднявшихся на такую борьбу.
Конечно, всем было очевидно, что за фигурой «Шефа», который в пьесе непрерывно каламбурит и не очень удачно шутит, стоял известный всему миру и в те годы сверхпопулярный Бертольт Брехт. И хотя это имя ни разу не произносилось, сомнений быть не могло. Брехт действительно ставил «Кориолана» (автору этих строк посчастливилось в свое время видеть этот потрясающий спектакль в «Берлинер ансамбль» с Эккехардом Шаллем в главной роли).
Но «Шеф» в пьесе Грасса – не только увлеченный режиссер, для которого удачная постановка важнее реального рабочего восстания. Он, конечно, еще и воплощает тот самый мотив отношений между «духом и властью», о котором говорилось выше: «Шеф» живет в условиях тоталитарного государства и входить в прямой конфликт с властью он не хочет. Он вынужден маневрировать и искать компромиссы. Не желая обидеть восставших рабочих, он не может себе позволить открыто встать на их сторону и тем настроить против себя власть. Снова тема «интеллигенции и государства», «творческой личности и аппарата подавления», на сей раз в восточно-германском варианте времен тогдашнего руководителя ГДР Вальтера Ульбрихта.
Позднее в одной из самых своих замечательных книг – «Мое столетие» – Грасс так вспоминал о тех днях и событиях. Он со своей женой Анной доехали электричкой до Лертеровского вокзала в Берлине, прошли мимо развалин рейхстага, мимо Бранденбургских ворот. «Лишь на Потсдамерплац с западной стороны границы между секторами мы увидели, что уже произошло и… продолжает происходить. Дом Колумба и Дом Отечества дымились. Горел какой-то киоск. Обугленная пропаганда, которую вместе с дымом гнал ветер, черными хлопьями сыпалась с неба. И еще мы видели там и сям толпы людей, двигающихся без всякой цели. Никаких признаков Народной полиции (так называлась полиция ГДР. – И. М.). Зато сжатые толпой советские танки Т-34, я знал эту модель».
На одном из щитов виднелось предостережение: «Внимание! Вы покидаете американский сектор». Несколько подростков рискнули нарушить предостережение и, кто на велосипедах, кто пешком, пересекли границу. Супруги Грасс остались на Западе: «Оба мы видели детские лица русских пехотинцев, которые окапывались вдоль границы. А чуть поодаль мы увидели людей, бросающих камни… Камнями – против танков! Я мог бы запечатлеть позу бросателя, мог бы написать короткие – или длинные – стихи про бросание камней, но не провел по бумаге ни единого штриха, не написал ни единого слова, однако поза бросающего сохранилась у меня в памяти.
Лишь десять лет спустя я написал об этом пьесу, которая на правах немецкой трагедии носила название “Плебеи репетируют восстание” и была в равной мере неприятна храмовым жрецам обоих государств.
В четырех актах пьесы речь шла о власти и безвластии, о запланированных и спонтанных революциях, о вопросе, можно ли переписать Шекспира, о повышении норм и разодранной красной тряпке (то есть флаге. – И. М.), о репликах и контр-репликах, о высокомерных и о малодушных, о танках и бросателях камней, о залитом дождем бунте рабочих, который сразу же после его подавления, датированного 17 июня, был ложно провозглашен народным восстанием и в соответствии с этим возведен на уровень государственного праздника (в ФРГ. – И. М.), причем на Западе торжества с каждым разом приводили к всё большему числу жертв дорожных происшествий.
А жертвы на Востоке – они были застрелены, линчеваны, казнены. Вдобавок многих покарали лишением свободы. Тюрьма в Бауцене была переполнена. Но известно это стало много позднее. Мы же с Анной могли увидеть лишь бессильных бросателей. Из западного сектора мы наблюдали всё на отдалении. Мы очень любили друг друга, еще мы очень любили искусство, не были мы и рабочими, чтобы бросаться камнями в танки.
Но с тех самых пор мы знаем, что эта борьба идет не прекращаясь. Порой, хотя бы и с опозданием на целые десятилетия, победу всё-таки одерживают те, кто бросает камни» (перевод С. Фридлянд).
Уже в сборнике «Выспрошенный» возникала одна из главных идей Грасса того времени – о «медленном прогрессе» (которая позднее найдет свое метафорическое воплощение в образе улитки). Многих писателей в этот период глубоко волнует тема студенческого движения, ворвавшегося в жизнь общества бурным вихрем: в те самые затхлые обывательские гнезда, на страницы литературы, в газетно-журнальную публицистику.








