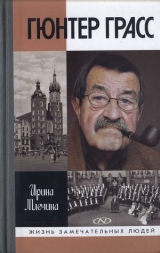
Текст книги "Гюнтер Грасс"
Автор книги: Ирина Млечина
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 10 (всего у книги 26 страниц)
Начало книги: «Милые дети, сегодня Густава Хайнемана избрали президентом» сразу вводит в политическую атмосферу ФРГ 1969 года. Уже в следующей фразе автор сообщает, что «хотел бы рассказать» про данцигского учителя Германа Отта по прозвищу Цвайфель – Сомнение (или Скепсис). Так, с первых страниц идут параллельно две линии: история предвыборной кампании в ФРГ и история учителя Отта, а вместе с ним преследования и уничтожения данцигских евреев, которым Отт помогал по мере сил и готов был разделить их судьбу. Можно сказать, что у учителя Отта был прототип – Хельмут Хюбнер, о котором коротко говорится в романе «Под местным наркозом».
В этой связи вспоминается (очень, правда, далекий от данцигской атмосферы и даже от самой Германии) священник Риккардо из пьесы Рольфа Хоххута «Наместник», в свое время очень знаменитой. Риккардо тоже вступается за евреев, на сей раз итальянских, и, возмущенный поведением папы римского, подписавшего конкордат с Гитлером, и желая помочь жертвам, добровольно отправляется вместе с ними в Освенцим.
Гюнтер Грасс снова говорил о «привыкании к злу», о равнодушии к преступлениям, и потому учитель Отт по прозвищу Сомнение или Скепсис предстает как, быть может, первый однозначно положительный герой Грасса, готовый в меру скромных сил проявлять солидарность и помогать людям, оказавшимся в смертельной опасности всего лишь за то, что они не арийцы. Писатель напоминал и предостерегал, он рассказывал о прошлом, чтобы оно не было забыто, вытеснено из памяти и не могло повториться. «Это верно, – обращался он к детям, – вы невиновны. И я, рожденный достаточно поздно, считаюсь не обремененным виной. И только если бы я хотел забыть, если бы вы не хотели знать, как к этому шло, тогда нас могли бы догнать короткие слова: вина и стыд…»
Путешествуя во время предвыборной кампании по стране, «вдыхая спертый воздух» обывательских гнезд, где в каждом подвале «замурован свой труп», выступая с речами на актуальные темы дня, Грасс снова и снова возвращался к прошлому, к дням, когда ему было столько же лет, сколько сегодня его детям, и когда он «не понимал», а если что-то его и смущало, он, как мы помним, «не задавал вопросов», за что и корил себя всю последующую жизнь.
Сильные публицистические страницы посвящены критике «черных» – под этим словом Грасс объединял всех, кто воплощал ненависть и реакцию, идеи милитаризма и реванша. Его занимало, как эти люди «всегда звались по-другому, как они оставались и возвращались. Как они одалживали нацистам свой обывательский дух. Как ради небольших преимуществ позволили совершиться большому преступлению. Как они не умеют вспоминать. Как называют себя христианами, а являются фарисеями».
Соединение и чередование временных плоскостей, предвыборных усилий и напоминаний о преступных делах фашистского режима имеют – помимо общечеловеческого и философского смысла – еще одно конкретное обоснование: Грасс хотел во что бы то ни стало способствовать не просто приходу к власти социал-демократов, но и уходу из власти канцлера Кизингера, нациста с партийным стажем, члена НСДАП с 1933 года.
Мы уже вспоминали, как Генрих Бёлль преподнес цветы Беате Кларсфельд, публично давшей пощечину тогдашнему канцлеру. Грасс не совершал экстравагантных жестов, но приложил много сил во время предвыборной кампании, чтобы избавить Германию от бывшего нациста, добравшегося до вершины власти. Его борьба (и многих других демократов по убеждению) увенчалась успехом. Спихнуть Кизингера – это была, так сказать, одноразовая и кратковременная цель, а долговременная цель грассовских писательских и гражданских усилий заключалась всё же – как это ни пафосно звучит – в воспитательном воздействии на читающую публику, в напоминании, в нежелании допустить забвения позорнейших фактов немецкой истории XX века – истребления нацистами шести миллионов европейских евреев.
Грасс в этом смысле не был одинок. Во многом именно благодаря ему, Бёллю, Ленцу, Кёппену, Андершу и ряду других писателей ФРГ в западногерманском обществе – если не считать «вечно вчерашних», не желающих извлекать никаких уроков из прошлого – всё же разворачивался процесс демократизации, неотделимый от реального, а не показного преодоления прошлого. Он шел все послевоенные десятилетия, то с большим, то с меньшим успехом.
В «Дневнике» эпическая нить протягивается из грассовского Данцига в Западную Германию рубежа 1960–1970-х годов – и обратно. Данцигские мотивы в «Дневнике улитки» заметнее всего напоминают прежнего Грасса. Как заметил один немецкий критик, с Грассом «ничего не может случиться, пока он изображает Данциг», то есть тут он всегда будет на высоте как художник, потому что это его стихия, его среда и в изображении этой среды он достигает максимальной убедительности.
В сценах данцигской поры оживает «старый» Грасс с его тяготением к образному варьированию основных аллегорических мотивов (здесь это улитки, как раньше были жестяные барабаны, собачьи династии и пугала или Черная кухарка и т. д.) с его гротескно-абсурдистской интерпретацией событий и явлений, поисками пародийно-сатирической дистанции к изображаемому, где он оставался неповторимым и великим мастером.
Грассовский гротеск оживает в фигурах штудиенрата с его улитками, которых он изучает, придурковатой Лисбет, ее отца Штоммы. Гротескны, как и многие ключевые эпизоды предыдущих произведений писателя, сцены, связанные с историей спасения учителя Отта. Он находит тайное прибежище в подвале хитроватого кашубского торговца велосипедами Штоммы, который рассчитывает таким способом обрести надежное алиби на случай возможного поражения нацистов.
Читая неграмотному Штомме сводки с Восточного фронта, Цвайфель на ходу преувеличивает потери гитлеровцев, и эта хитрость спасает ему жизнь. Чем очевиднее неудачи немцев в России, тем меньше брутальный Штомма избивает своего подопечного. Стремясь развлечь жадного до зрелищ хозяина, учитель инсценирует в подвале Клейста и Гауптмана, читает лекции об изобретении громоотвода, о свободе воли, о функции стульев и возникновении прилива и отлива, заодно пересказывает Ливия, Плутарха и Геродота…
Вся эта история, в которой Грасс снова демонстрирует свое искусство неугомонного рассказчика и свою неистощимую фантазию, разворачивается на фоне трагедии, переживаемой тысячами данцигских жителей, умерщвляемых в газовых печах, истребляемых нацистами.
Если в данцигских пассажах без труда угадывается сатирик Грасс с бесконечной вариативностью его сюжетных мотивов и аллегорических образов, то в изображении другого временного слоя – конца 1960-х годов – ощущается мощный политический темперамент автора в сочетании с элементом удовлетворенности и даже примиренности – как-никак он не зря выдержал столько гражданских вдохновенных сражений на предвыборном поле битвы.
В «Дневнике улитки» немало страниц отведено размышлениям Грасса о путях развития и совершенствования общества. В основе его философских построений лежит одно ключевое понятие, вынесенное в заголовок, одна метафора, – улитка. На вопрос детей: «Что ты подразумеваешь под улиткой?» – он отвечает: «Улитка – это прогресс». «А что такое прогресс?» – не успокаиваются дети. Ответ: «Быть немного быстрее улитки». Улитка выполняет здесь важнейшую сюжетную и философскую функцию. «Улиточный» мотив варьируется изобретательно и остроумно, он держит книгу. Вокруг улитки организуются лексические и исторические парады, порой грассовское образное обыгрывание этого лейтмотива носит почти ритуальный характер. Улитка связывает параллельно идущие темы прошлого и настоящего. Социал-демократическая партия характеризуется как «партия улиток», или «улиточная партия», потому что стремится к медленным, постепенным преобразованиям. Хорошо, что пока не вывели «прыгающую улитку», что как раз означало бы революционные прыжки и встряски (вроде маоистского «Большого скачка»).
Улитка – метафора, противостоящая любому экстремизму и фанатизму, как правому, так и левому. Она противостоит тем, кто не знает слова «компромисс», для кого существуют только две краски, два цвета: черный или белый. Грасс, как он не раз признавался в своей публицистике, выбрал серый; в этом они похожи с героем «Дневника» учителем Оттом по прозвищу Сомнение или Скепсис.
Итак, улитка не только сюжетный, стилистический, композиционный центр повествования. Она обретает политические и философские масштабы.
«Улитка, – сообщал Грасс, – мой давний принцип»: «она ползет, уползает, ползет дальше, оставляя на историческом ландшафте… свой быстро высыхающий скользящий след». Улитка как символ «медленного прогресса», заторможенного движения, символ «мелких шагов», выражение неприятия всяких «революционных скачков», насильственного переустройства общества. Поскольку «ни одна революция не оправдала себя», было бы опасным заблуждением, пустой «химерой» думать о революционном преобразовании мира. «Можете меня ругать, – заявлял автор. – Я ревизионист». Он называл себя приверженцем Бернштейна, идеи «эволюционного, замедленного… улиткообразного процесса».
Рядом с улиткой сюжетно и философски «играют» еще несколько метафорических понятий – Сомнение, Утопия, Меланхолия. Функция каждого из них многозначна. Сомнение или Скепсис – это и прозвище героя, и программный, часто декларируемый принцип самого автора. Меланхолия – тема выступления Грасса на юбилее Дюрера в Нюрнберге и нечто вроде последнего прибежища личности от напора «насильственного потребления», «консьюмеризма» на Западе и «идеологического насилия» на Востоке.
Видя в «принципе улитки» единственную пригодную для человечества форму постепенного продвижения вперед, Грасс, с одной стороны, продолжал «выпалывать немецкий идеализм», с другой – всё же не терял окончательно веры в просвещенческую функцию литературы. Он обращался к детям, как в романе «Под местным наркозом» обращался, по существу, к молодежи. Он рассчитывал, что и тех и других не догонят два ужасных слова: «вина и стыд».
Глава V
РЫБАКИ, РЫБКИ, МУЖЧИНЫ И ЖЕНЩИНЫ
В 1977 году, через пять лет после появления «Из дневника улитки», вышел толстый роман Грасса под названием «Der Butt». Собственно, мы указываем немецкое название не потому, что его невозможно перевести. Напротив, в каждом немецко-русском словаре любой желающий найдет русский эквивалент этого слова – «камбала». Но вся загвоздка в том, что по-немецки это слово мужского рода, а для романа, всей его концепции это имеет первостепенное значение. Если бы существовал аналог «камбалы» в мужском роде! Но его нет и не предвидится. Поэтому будем именовать роман условно – «Палтус». Роль этой рыбины в рассказываемой Грассом истории, выстроенной затейливо и фантастично, более чем значительна.
Роман этот представляет собой сочетание эпического повествования со сказкой. Возможно, сказочное начало здесь преобладает. Еще в «Жестяном барабане» Грасс обнаруживал свою приязнь к сказочным элементам, в данном случае сказочно-пародийным, например в формулах «Жил-был однажды…» и т. д. Да и в других произведениях, в тех же «Собачьих годах», тоже. Ну а уж что касается фантастики, то это его стихия.
Уже «рыбье» название нового романа указывает, откуда, как говорится, ноги растут. Все знают «Сказку о рыбаке и рыбке» в ее простонародном и поэтическом вариантах. Ей соответствует немецкая «Сказка о рыбаке и его жене». И в русской, и в немецкой сказках растущие аппетиты и амбиции жены рыбака приводят к печальному финалу – герои оказываются у разбитого корыта. В романе Грасса всё немного по-другому, хотя призрак «разбитого корыта» возникает и здесь. И угрожает он не столько разнообразным грассовским персонажам, сколько всему человечеству в целом. Ибо перед нами разворачивается история человеческого рода от каменного века до наших дней.
Грасс создал сложную, хитроумную конструкцию. Девять глав романа – это, с одной стороны, девять периодов в истории человечества, начинающейся в романе за два тысячелетия до Рождества Христова. С другой – это частная, переплетенная, как всегда у Грасса, с политической история Рассказчика, выстроенная вокруг девяти месяцев беременности его жены Ильзебилль.
Роман посвящен дочери Грасса Елене – это, стало быть, и ее история от зачатия до рождения. И уже тут содержится намек на произведение, которое выйдет вскоре после «Палтуса»: «Головорожденные, или Немцы вымирают», где «рождение из головы» – это не только намек на рождение Афины из головы Зевса, но и просто «вымысел», детище авторской фантазии. Рождение ребенка и рождение книги предстают как нечто полярное, но и параллельное, одновременное: одно реальное, другое «эфирное» (или эфемерное).
Итак, во-первых, в романе перед нами не только сочетание эпического и сказочного начала, но и сочленение, совмещение различных временных плоскостей, от самых древних до сегодняшних. В уже упомянутых «Головорожденных» (или, проще, «Вымыслах») Грасс признавался, что ему стало тесно в трех грамматических временах, изучаемых в школе (хотя в немецком языке есть более сложные временные конструкции), – прошлом, настоящем и будущем. Он соединил эти три немецких слова, беря от каждого по одному-два слога, и создал некий неологизм – «пронастодущее» (русский вариант принадлежит переводчику «Луковицы памяти» Б. Хлебникову). Такое слияние времен, выход за их границы необходимы Грассу, чтобы вылепить из разнообразных элементов, относящихся к различным временным слоям, нечто стройное и абсолютно цельное.
Главную, доминирующую роль здесь играют женщины, точнее, меняющиеся отношения между женщинами и мужчинами. Это, собственно, определяющая тематическая и сюжетная основа романа. Поскольку он начинается в каменном веке, речь идет о матриархате. Как в «Данцигской трилогии», Грасс снова создал фантастически-чувственное, вещественно-плотское, полное запахов и вкусов жизни произведение. Один из интервьюеров Грасса, еще до появления романа, высказал предположение, что это будет что-то из области «eat-art» («искусство еды»), что-то про «еду и питье», на что Грасс ответил: «Чувственная жизнь… всегда играла роль в моем творчестве». Отсутствие «чувственной жизни, ее табуирование, отказ от нее, ее извращение “моральной надстройкой”» для Грасса неприемлемы. Наоборот, «чувственная жизнь» всегда была его темой. В центре этой книги, по его словам, «еда, питье, изобилие и голод, в том числе по политическим причинам. Я хотел бы осуществлять просвещение чувственным образом и вижу в этом одну из своих больших задач».
В этой же связи он упомянул, что всегда был против того, чтобы писать «подтверждающую», то есть конформистскую литературу, потому что литература должна создавать «дистанцию к господствующим религиям и идеологиям», «задавать вопросы, критиковать, быть скептической, критичной, сомневающейся». Собственно, именно такой, скептической, сомневающейся, критичной по отношению, в частности, к официальной историографии является его книга «Палтус».
В 1970-е годы Грасс, несколько утомленный интенсивной политической работой, говорил, что всё сильнее ощущает желание «создать что-то всеохватывающее», некий «общий план» (если воспользоваться кинематографическим термином), погрузиться в «эпический материал, который захватит меня полностью, заняться обработкой целины».
Чередование и совмещение временных и стилевых пластов определяет и специфическое положение рассказчика, который выступает как бы в двух ипостасях: с одной стороны, это некое современное Я, живущее со своей женой и ожидающее ребенка, а попутно рассказывающее своей дражайшей половине различные невероятные истории; с другой – это «всеобъемлющий» рассказчик «на все времена» – в том смысле, что одно и то же бессмертное лицо проходит сквозь столетия и тысячелетия, наблюдая и фиксируя всё происходящее с человечеством и Германией. И женщина, которая с ним, хотя всегда зовется по-разному, в сущности, одна и та же, бессмертная, как и мужчина, которого она, во всяком случае поначалу, кормит, поит и ублажает.
Вот зачин романа и первой главы под названием «Третья грудь»: «Ильзебиль добавила соли. Прежде чем состоялось зачатие, на столе оказалась баранья лопатка с молодой фасолью и грушами, потому что стояло начало октября. Еще за едой она сказала с полным ртом: “Ну что, сразу в постель или сперва расскажешь мне, как, когда и где началась наша история?”
Я – это я во все времена. И Ильзебиль тоже была с самого начала. Я вспоминаю нашу первую размолвку в конце нового каменного века (неолита): ровно за две тысячи лет до рождения Господа, когда в мифах разделилось сырое и приготовленное на огне. И как сегодня, прежде чем взяться за баранину с фасолью и грушами, мы заспорили о ее и моих детях, причем слова наши становились всё более краткими, так мы ссорились и в болотистых местах в устье Вислы, подбирая неолитическую лексику, из-за моей претензии на по крайней мере троих из девяти ее отпрысков. Но я проиграл. Как усердно ни ворочался мой язык, произнося по порядку изначальные звуки, мне не удалось произнести прекрасное слово “отец”; только слово “мать” оказалось мне под силу. Тогда Ильзебиль звалась Ауа.
Я нашпиговал баранью лопатку половинками долек чеснока и разложил предварительно обжаренные в сливочном масле груши между тушеными стручками молодой фасоли. И хотя Ильзебиль еще с полным ртом сказала, что сейчас всё должно получиться, потому что она, как советовал врач, выбросила противозачаточные таблетки в унитаз, я всё же услышал, что сначала – постель, а уж неолитическая повариха – потом…»
«Поверь мне, Ильзебиль: у нее было три. Так природа создала. Честно: три штуки. Но это было не только у нее. У всех было именно столько. И если я хорошо помню, все они во времена каменного века звались так: Ауа Ауа Ауа. А мы все назывались Эдек. Словно специально, чтобы всех перепутать. И все Ауа были одинаковые. Одна – две – три. Дальше мы поначалу не умели считать…»
Так рассказывает о начале времен повествующее Я. Рассказчик. Он и современный, и древний – это он жил в мезозойскую эру, когда у каждой женщины было по три груди и все они звались одинаково. У мужчин тоже было одно имя на всех. И каждого мужчину Ауа прикладывала к груди и кормила, как своих детей. Кстати, нашего нынешнего рассказчика цифра три как-то особенно устраивает, и не только потому, что сулит больше пропитания, но и потому, говоря современным языком, что политически цифра «три» более многообещающа, чем два: она означает наличие какой-то третьей возможности, помимо оказавшихся в 1970-е и особенно 1980-е в опаснейшем противостоянии двух мировых политических систем.
В «Палтусе» Грасс в известном смысле продолжал разрабатывать прием, уже знакомый нам по «Дневнику улитки», когда авторское Я и повествующее Я в значительной мере совпадали. Здесь так же – чередуясь с прошлым – разворачивалось действие на современном уровне. Притом современный рассказчик – это временами сам Грасс. Он говорил, что намеревался, в частности, подвергнуть литературной переработке всё, что пережил в тот период – с 1973 по 1975 год: «Личное, определенные обиды, отчаяние, конфронтация с собственными и чужими желаниями, неосуществимое – и ребенок. Всё это мне надо было воплотить на бумаге, средствами, которые были в моем распоряжении, графическими, литературными…»
Создание такой сложной повествовательной конструкции было Грассу под силу – с его неистощимой изобретательностью, с лукулловым пиршеством жизненных красок, с его знаменитыми гротесками и неизменной палитрой средств, от иронии до сатиры. Соединяя столь различные миры – частную, индивидуальную историю с историей человечества, – Грасс не мог миновать постановки самых трудных философских, «вечных» тем. И в свою очередь, обращение к большим философским проблемам, учитывая специфику грассовской стилистики, оказывается невозможным без мощной сказочной «приправы».
Совмещая и сопоставляя времена, Грасс, к примеру, выводил на одну повествовательную линию мятежные события в Данциге в конце XIV века и ситуацию в Гданьске 1970 года. Вывод, к которому он приходил, одновременно ироничен и отрезвляющ: «С 1378 года в Данциге, или Гданьске, изменилось вот что: патриции теперь называются по-другому». В беседе между Грассом и Ленцем последний замечал в связи с романом: «Путешествовать между временами, быть всюду означает также не быть нигде. Такой невероятной сверхсилой, которой обладает воображаемое Я, реальное Я не обладает. И полный фантазий путешественник между временами, попадая в Данциг декабря 1970 года, должен, конечно, выражаться иначе, должен принести с собой нечто иное, другие доказательства, чем тот, который сосет грудь Ауа». На что Грасс отвечал: «У нас есть привычное выражение: “кого-то настигает прошлое”. Здесь все наоборот. Здесь беглец между временами, отменитель времени застигнут настоящим, оно словно приколачивает его гвоздями. Он вдруг оказывается в декабре 1970 года перед воротами Гданьской судоверфи… Оба они – это Ян, который потом в декабре 1970 года застрелен, и он же Рассказчик от первого лица. Им нравится встречаться в разных столетиях…»
Поскольку книга посвящена во многом отношениям между полами и недооцененной роли женщины, автор после вступительной главы, из которой мы уже цитировали, и следующего за ней стихотворения «О чем я пишу» (а поэтическая стихия здесь уравнена в правах с прозаической) рассказывает о «поварихах», «кормилицах», тех, на которых долгие времена держался – а может быть, всё еще держится? – род человеческий.
«Первая повариха во мне – а я могу рассказывать только о поварихах, которые сидят во мне и просятся наружу, – звалась Ауа и была обладательницей трех грудей. Это было в каменном веке. Мы, мужчины, мало что решали… Это было потому, что Ауа не только кормила грудным молоком, но и добывала для нас огонь.
Потом она, как бы между делом, изобрела вертел и научила нас отличать сырое от прожаренного. Господство ее было мягким: женщины каменного века, покормив младенцев, прикладывали к своей груди мужчин каменного века, пока те не переставали брыкаться и приставать со всякими глупостями, а становились полусонными, пригодными для чего угодно».
Таким образом, мужчины в те славные времена всегда были накормлены. «Никогда больше после наступления будущего мы не были так сыты. Всегда сначала прикладывались грудные дети. Лишнее доставалось нам. И никогда не говорилось: хватит – значит хватит. Или: добавка – это уже чересчур. Никаких разумных сосок в виде заменителя нам не предлагалось. Всегда было время кормления…»
Вторая кухарка, которая тоже просилась на свет божий, именовалась Вига, но у нее уже не было трех грудей. Это было в железном веке. Вига запрещала мужчинам покидать богатые рыбой болота и всё еще держала их в «недозрелом состоянии». Все мужчины были рыбаками, и она варила треску, осетра, судака и лосося, не говоря уже о всякой мелкой рыбешке. Но грудного молока мужчинам не доставалось – только рыбные супчики.
Вот примерно тогда и выходит на сцену говорящий Палтус. Это он посоветовал рассказчику сделать для Виги гребень из рыбьего хребта, и, надо полагать, подарок пришелся ей по вкусу. Собственно, говорящую рыбину рассказчик поймал еще в каменном веке – и отпустил обратно на свободу. «Говорящий Палтус – это отдельная история, – сообщает рассказчик. – С тех пор как он дает мне советы, положение мужчин очень продвинулось». Здесь Грасс использовал слово «прогресс», отношение к которому, как мы помним по «Улитке», у автора, мягко выражаясь, весьма неоднозначное.
Отпущенный обратно в воду Палтус, как и обещал, стал являться к своему партнеру по первому зову. Это он обратил внимание на то, что мужчины, посасывая грудное молочко, стали как бы ручными, то есть женщины прибрали их к рукам и делают, что считают нужным. В глазах Палтуса это было абсолютно неправильно, ведь Палтус тоже был мужского рода (не то что какая-то камбала, которая, как ни верти, остается особой женского рода).
Параллельно списку женщин, которые сменяли друг друга в большой истории, преподносимой читателю рассказчиком, и в соответствии со сменой обстоятельств по мере общего продвижения человечества от одной стадии развития к другой следует повествование о череде советов, которыми Палтус сознательно способствовал тому, чтобы матриархат сменился патриархатом. Если Ауа добыла несколько угольков, чтобы разводить огонь и готовить пишу, то по совету Палтуса огонь начинают использовать для получения железа. Ну и далее в том же духе: «Наконец-то вы стали хоть какими-то воинами… Вы не должны выпускать из рук абсолютно важные решения. Уж, пожалуйста, без возвратов в каменный век». «Кухня – это сфера владычества женщин», – внушает Палтус с его мужским шовинизмом.
Некоторые истории про кухарок и кормилиц, каждая из которых обладает индивидуализированным характером, заставляют, помимо всего прочего, вспоминать и кое-кого из прежнего грассовского эпического персонала. Например, «шестая кухарка», которая так замечательно готовила гуся, звалась Агнес и была кашубского происхождения, а слово «кашубы» возвращает нас к «Жестяному барабану» и матери Оскара, которую тоже звали Агнес, а еще к его деревенской бабушке с ее четырьмя вместительными юбками.
Из кашубов происходила вся родня по материнской линии самого Грасса; перебравшись постепенно из деревни в город, родня эта заговорила по-немецки. Что им, правда, не очень помогло, когда нацисты захватили Данциг. Кстати, повариха Агнес, как и мать маленького героя «Жестяного барабана», раздваивается в своих любовных чувствах. Она, по словам зловредного Палтуса, «кому готовит, того и любит». В данном случае ее любовь делится между поэтом Мартином Опицем (который вскоре появится в повести «Встреча в Тельгте») и художником Мёллером. Зато седьмая повариха, Аманда, славится тем, что ввела в употребление картофель вместо привычного пшена. Она справилась даже с сухой кашубской почвой. Тут и Палтус вынужден признать роль Аманды в истории. «Ей надо было бы поставить памятник, – сказал Палтус, – потому что насаждение картофеля в Пруссии после второго раздела Польши, когда всюду царил голод… без Аманды Войке немыслимо. Она хотя всего лишь женщина, творит историю. Удивительно, не правда ли? Удивительно!..»
Еще в ноябре 1975 года Грасс в одной из бесед рассказывал о книге, над которой работал (имелся в виду «Палтус»): «Это эпический портрет. Он задуман широко, центральная тема – еда, питание, пищеварение – все, что с этим связано. И эту тему я представляю с помощью одиннадцати женских персонажей, которые жили в разное время, от каменного века до наших дней. И одновременно я пытаюсь рассказать о роли женщин в истории. Нашу историю делали и интерпретировали мужчины, роль женщины оставалась по большей части неучтенной. Я пытаюсь это исправить. Правда, в форме вымысла, повествования, используя все средства языка…»
На вопрос, ограничивалась ли роль женщины в истории ее функцией кухарки, Грасс отвечал: «Я думаю, это нельзя мерить сегодняшним приготовлением пищи… Раньше добывание и приготовление еды занимало гораздо более важное место. Питание всегда было вопросом выживания. И приготовление пищи было одновременно чем-то вроде жреческого искусства… Когда речь идет о питании, о приготовлении пищи, это значит, что центральную роль приобретает голод. В прошлом голодали гораздо больше, чем написано в наших книгах по истории. Внедрение картофеля в Пруссии и замена им пшена как главного продукта питания для массы населения, с моей точки зрения, исторически гораздо более значительное и важное событие, чем вся Семилетняя война».
Вместе с рассказчиком мы пролистываем страницы истории Германии, Европы, мира. Войны, революции и снова войны. Возникновение социалистических идей и что из них вышло. Захваты и разделы государств, расколы, грабежи одних народов другими и вечное экспансионистское стремление к присвоению чужих территорий…
Палтус дает рассказчику и художественные рекомендации, например советует придерживаться хронологии, но при таком обилии материала, рвущегося на страницы романа, едва ли можно следовать советам какой-то там рыбины, хоть она и болеет всей душой за мужское дело. Правда, советчик старается изо всех сил сохранять объективность. «Возможно, – поучительно заявляет криворотый Палтус, – возможно, мы способны сделать какие-то выводы из истории и учесть, какая доля в ней принадлежит женщинам, например когда победила картошка».
Но писатель Грасс знал, что история учит только тому, что ничему не учит, хотя всю жизнь, всеми своими книгами он сражался против этой разочаровывающей, приводящей в отчаяние максимы…
Грасс говорил, что пытался показать «степень участия женщин» в истории, движение которой целиком определяется мужчинами. Пока женщины исправно выполняли назначенную им природой функцию – рожали детей и кормили мужчин (женщина как кормилица, кухарка – вообще один из важнейших мотивов творчества Грасса), всё было в порядке. Но по совету Палтуса мужчины старались захватить всю власть в обществе, государстве и мире, и это приводило к печальным последствиям (результаты разрушительных войн – то же «разбитое корыто»).
Но особые неприятности начались, когда женщины в результате всего предшествующего развития стали отказываться от своего предназначения – не случайно подзаголовок «Головорожденных» (или «Вымыслов») – «Немцы вымирают». А вымирают они потому, что женщины всё чаще отказываются рожать детей. «Разбитое корыто» (ведь вымирающее население – это катастрофа) – печально-ироническая метафора универсального свойства. Это зашедшая «не туда» цивилизация, человеческая история как таковая. Растерянно взирая на некоторые последствия равноправия и пародийно рисуя феминистское движение (тоже ведущее всё к тому же «разбитому корыту»), Грасс тем не менее видел в женщине положительную альтернативу «мужскому миру», неспособному к бесконфликтному и компромиссному существованию.
«Палтус» – это и своеобразно преломленная в грассовской фантазии история Германии, отразившая все болевые моменты человеческой истории – переселение народов, Реформацию, бесконечные войны, где особое место занимает Тридцатилетняя война XVI века, Наполеоновские войны и их роль для тогдашних германских государств, бесчисленные сражения вплоть до наших дней. Уж не говоря о двух кровавых войнах XX века. Эта история видится сплошной цепью насилия, жестокости, бесчеловечности. И конечно, автор не обходит тему научно-технического прогресса, внесшего свою лепту в возникновение «разбитого корыта».








