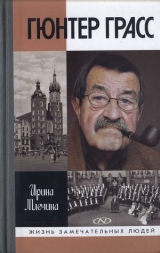
Текст книги "Гюнтер Грасс"
Автор книги: Ирина Млечина
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 26 страниц)
Итак, Грасс набил себе долотом мозоли, мускулы его окрепли, да и выглядел он, по собственным словам, как настоящий каменщик. Спустя несколько лет он уже подумывал о том, что если в Германии произойдет политическая реставрация, вернется цензура и государство введет запрет на профессию для неугодных писателей (а у него были основания об этом думать!), он на худой конец сможет прокормить семью, работая каменотесом, и это придавало ему уверенности.
Это уже было время, когда постепенно восстанавливалась экономика и налаживалась материальная сторона жизни. А вскоре в мире заговорили о немецком «экономическом чуде». Несколько позднее пошли, сменяя друг друга, разные потребительские волны. За «волной обжорства» последовала волна автомобилизации, затем волна туризма, когда немцы за небольшие деньги смогли позволить себе путешествовать по разным странам.
По мнению многих немецких демократов, искренне желавших коренного разрыва с прошлым, в экономике дела шли лучше, чем в духовной и нравственной сфере. Много лет спустя, уже с дистанции десятилетий, накануне объединения Германии, один из писателей скажет с горечью, вспоминая послевоенные годы, когда сам он только вернулся с войны: «Немцы быстро расчистили развалины и еще быстрее вытеснили вину». В произведениях Грасса мы еще не раз столкнемся со сходной мыслью, а пока он, всё еще каменотес при кладбище, охотно посещает танцплощадки. «Это было время “танцевальной лихорадки”. Мы, потерпевшие поражение, переживали что-то вроде наркотического опьянения, чувство раскрепощенности, заслышав блюз заокеанских победителей… Мы радовались тому, что сумели выжить, и хотели забыть, что этим обязаны случайностям войны. Позорные, ужасные события затаились в прошлом, они не подлежали обсуждению. Прошлое с его холмами братских могил превращалось в ровный пол танцплощадки…»
Грасс признавался: только его герои начнут беспощадно называть то, что случилось в годы нацизма и войны, своими именами, говорить о вещах, которые сам он в первые послевоенные годы «старался забыть». Всё это через полвека явится к нему в виде бесов, которые вновь «заявляли о себе, стучались в дверь, требовали впустить». Луковица, снова призванная на помощь, обнажала давно забытые вещи, а острый нож способствовал «особому эффекту: порезанная на кусочки луковица гонит из глаз слезу, замутняя взгляд». Мы понимаем: слеза – это не только «луковичный эффект», это раскаяние, сожаление, чувство вины.
Конечно, учась в Дюссельдорфе на каменотеса и камнереза, Грасс не забывал и о том, что влекло его с детства: изучал живопись и художественную литературу. Если он в совсем ранней юности прикоснулся к «запретной литературе», хотя бы в виде романа Ремарка о Первой мировой войне, то в приюте «Каритас», принадлежавшем францисканским монахам, он нашел в библиотеке Рильке, ранних экспрессионистов и избранных поэтов барокко. Он ходил в зал имени Роберта Шумана слушать музыку (совсем не танцевальную). «Одержимость чтением и пассивное потребление художественных ценностей лишь усиливали мой эстетический голод как тягу к собственному творчеству». Пройдет немного лет, и эта тяга реализуется – сначала в абсурдистских пьесах и стихах, а потом и в прозе, в ее главном жанре – романе, который одновременно с бранью и побиванием автора символическими камнями принесет ему всемирную известность.
Уже тогда он устраивал воображаемые встречи художников разных времен и поколений (как он позднее заставил сойтись за одним столом писателей Тридцатилетней войны и «Группы 47», образовавшейся после Второй мировой).
Если бы в действительности осуществлялись его воображаемые приглашения, известные художники, погибшие молодыми в Первой мировой войне, завели бы с автором (или автор с ними) разговор о том, с каким энтузиазмом они уходили на войну (а молодые экспрессионисты, и, конечно, не только они, жаждали войны, им жутко было от «мирной духоты» предвоенных лет, они жаждали бури – и этим напоминали тех своих сверстников, которые через четверть века с таким же энтузиазмом отправляются на поля сражений Второй мировой), и о том, что стало позднее с теми, кто выжил.
Во время этих фантастических бесед они «посмеялись бы над ерундой современных инсталляций, над новомодными банальностями, над телевизионным безумием, над суетливой беготней от одной презентации к другой, над культовым поклонением тоскливому металлолому, над пресыщенностью и пустотой арт-рынка с его скоротечной конъюнктурой». Так между делом разделывал Грасс и с массовой культурой, и с претенциозностью некоторых новомодных художественных течений, со всем тем, что выдавало себя за искусство, таковым не являясь.
Потом наступила эра раннего послевоенного благоденствия. Прошла денежная реформа, разделившая всё на «до» и «после», положившая конец прежней жизни и посулившая всем новое начало, «сделав нашими постоянными сожителями как богатство, так и бедность», из многих нищих отсортировав некоторое количество нуворишей.
Сколько ассоциаций возникает при чтении этих грассовских воспоминаний! Тут и пальцем незачем указывать, каждый сам поймет. Не только диктатуры обладают колоссальным типологическим сходством, но, как выясняется, есть «сходные варианты» и у свободного рыночного хозяйства. Весь вопрос, видимо, в том, кто как распорядится своей жизнью, что предпочтет: зависимость от золотого тельца или свободу духа и творчества. Конечно, дилемма сформулирована грубовато, слишком схематично, но если задуматься, то, не считая нюансов, всё сведется именно к этой грубой схеме.
Для молодого каменотеса наступили новые времена: на его ремесло был большой спрос. Всюду находились жаждущие отреставрировать фасады, поверженные войной: «Обновленные фасады пользовались повышенным спросом». Все спешили – в прямом и в переносном смысле – устранить следы войны. Появлялись первые образчики «фасадной архитектуры», которые позднее получили столь широкое распространение. Особенно популярен стал травертин, сорт мрамора, любимый фюрером.
Конечно, это была не только реставрация фасадов – это была часть некоей общей реставрации, восстановления и подкрашивания прошлого, против чего так отчаянно сражались многие коллеги Грасса, к примеру Генрих Бёлль, Альфред Андерш, Зигфрид Ленц, Вольфганг Кёппен, чуть позднее и сам Грасс.
Уже в конце 1960-х вышло коллективное издание, название которого начиналось со слова «реставрация», – «Реставрация дает волю своим детям, или Успех правых в ФРГ». Слово «реставрация» вообще часто звучало в те годы, в основном из уст поколения «рассерженных», жаждавших реального, а не показного преодоления прошлого. Так что реставрация фасадов, о которой вспоминал Грасс, может быть воспринята и как ассоциация с негативными политическими процессами более объемного плана.
На протяжении примерно трех послевоенных десятилетий в ФРГ вышло множество публицистических книг (в том числе коллективных сборников), в которых чувствуется разочарование тем, что настоящего, полноценного очищения от скверны нацизма не получилось. Вопрос о вине и ответственности определил смысл той непрекращающейся общественной дискуссии, которая сыграла важнейшую позитивную роль в демократизации и «очеловечивании» этого общества.
Недаром Грасс еще долгие годы после войны жалел о «незаданных вопросах», «об истовой вере». Вспоминал о том, как, впитав нацистскую пропаганду, жаждал «погибнуть геройской смертью подводника… причем в качестве добровольца», о том, что «до последних дней верил в окончательную победу», о том, как не желал верить в правдивость фотографий, запечатлевших сложенные штабелями трупы в концлагере Берген-Бельзен.
А пока что, завершив обучение на каменотеса, он в положенное время подал заявление о приеме в Академию искусств в Дюссельдорфе, присовокупив к нему папку с карандашными рисунками – портретную галерею стариков из приюта, которых рисовал на досуге, – и положительную характеристику, данную мастером практиканту каменотесу. Попав наконец в скульптурную мастерскую, он стал осваивать профессию, придавая глиняной массе форму.
Студент художественной академии хотел выглядеть солидно. Фотография в студенческом билете запечатлела молодого человека, похожего на южанина, – кареглазого и темноволосого, с аккуратно повязанным галстуком. Что весьма важно: на его лице угадывается определенное умонастроение, весьма модное после войны. Оно называлось экзистенциализмом и мало кому из интеллигентов послевоенного поколения удалось его миновать.
Это была мода, сопровождавшаяся, кроме многого другого, своеобразной мимикой, жестикуляцией, о которой дают представление неореалистические фильмы. Помимо определенного – весьма мрачного – выражения лица, подразумевалось и нечто более серьезное и значительное, ведь речь шла как-никак о философии, пришедшей к послевоенным немцам во французском варианте, представленном прежде всего Сартром и Камю. Экзистенциализм возвращал молодых интеллектуалов к таким основополагающим понятиям, как индивидуальная свобода, свободный выбор, ответственность.
В своих воспоминаниях Грасс писал об этом с легкой иронией (в отличие, к примеру, от Альфреда Андерша), хотя без малейшей иронии размышлял о знаменитом споре между Сартром и Камю, где он однозначно оказался на стороне Камю.
Вот характеристика, данная им самому направлению философской мысли: «Приверженность экзистенциализму, свойственная в ту пору мне и моим сверстникам… была импортирована из Франции, но приспособлена к реалиям немецкой разрухи; для нас, переживших “темные времена”, как именовали тогда период национал-социализма, экзистенциализм стал подходящей маской, которой соответствовали трагические позы. Экзистенциалист… видел себя либо на распутье, либо на краю пропасти. В не менее опасной ситуации пребывало и всё человечество… Речь шла о смысле жизни среди бессмысленности мира, о взаимоотношении личности и массы, о лирическом “Я” и вездесущем Ничто».
Примем во внимание художественную манеру Грасса – о вещах самых серьезных он пишет чаще всего отстраненно-насмешливо. В размышлениях об экзистенциализме ощущается, правда, не столько насмешка, сколько легкая отстраненность – война и нацизм научили его не отождествлять себя с какой-либо идеологией или стройной системой мысли, которую можно было бы обозначить как идеологию. Но на самом деле экзистенциалистская философия в ее французском (а не немецком, хайдеггеровском варианте, ни с какой точки зрения неприемлемом для Грасса) сыграла огромную роль в духовном формировании «обожженных детей войны», как именовали уцелевших недавних фронтовиков.
Свободный выбор, решение, принимаемое наедине с самим собой, «между Богом и Ничто», как противовес разламывающей индивида мощи аппаратов власти, – вот главная точка соприкосновения западногерманской литературы с экзистенциализмом. Именно в этой философии молодые западногерманские интеллектуалы увидели совершенно новую возможность выражения внутреннего протеста против принуждения. Определяющая роль субъективного волевого акта и отрицание детерминизма, насилия так называемых «объективных обстоятельств» – ключевые моменты этого мировоззрения, сблизившего молодых немецких писателей (не всех, разумеется, но многих) с экзистенциализмом. Свобода выбора, возможность самостоятельного, ни от кого не зависящего решения предстает как явление более высокого уровня, нежели идеологии, общественные и государственные системы.
Возвращение к человеку – вот тот новый ориентир, который давала экзистенциалистская философия немецким интеллектуалам, литераторам, пытавшимся осмыслить феномен нацизма, катастрофу войны и обрести – или вернуть – утраченные, канувшие в бездну духовные и нравственные ценности. Свобода выбора, акт свободного действия, противостоящие любым аппаратам власти и любому нажиму, – вот что было более всего привлекательно для складывающейся западногерманской литературы. Активный антифашизм скреплял эту связь, придавая ей конкретное живое наполнение. Иными словами, экзистенциализм стал для немцев некоей духовной опорой в преодолении несвободы, в процессе разрыва с навязанным тоталитарным мышлением.
Дискуссия Сартра и Камю была тогда у всех на устах. Речь, по словам Грасса, шла «об абсурде и о легендарном Сизифе, который был счастлив тем, что ему досталось ворочать тяжеленный камень». Приятель тех лет заразил Грасса интересом к этой дискуссии. «В полемике между богами тогдашнего экзистенциалистского вероучения, которая затянулась на многие годы и выплеснулась за пределы Франции, я, немного поколебавшись, позднее определенно встал на сторону Камю, более того, для меня, скептически относившегося к любой идеологии и не приверженного никакой вере, таскание каменных глыб сделалось повседневным занятием. Такой парень, как Сизиф, пришелся мне по нраву. Я признал осужденного богами каторжника достойным поклонения новым святым, для которого абсурдность человеческого существования была столь же очевидной, как восход или закат солнца, и который сознает, что поднятый на вершину камень не останется там лежать. Героем по ту сторону сомнений и отчаяния. Человеком, который счастлив от того, что ему суждено катить в гору камень. Такой никогда не сдастся».
Вернемся, однако, к фактам биографии Гюнтера Грасса. Студент дюссельдорфской академии не только полностью погрузился в искусство, к которому его так влекло, не только переживал «любовную и танцевальную лихорадку». Обладая пока неявно выраженным политическим темпераментом, он реагировал на события послевоенной жизни, связанные с обстановкой в ФРГ и в мире. Федеративная республика, хотя бы в силу своего геостратегического положения, оказалась в эпицентре биполярного мира, перипетий начинавшейся холодной войны. Пока он еще не испытывал явных симпатий к каким-либо политическим партиям (его вовлеченность в предвыборную кампанию Вилли Брандта, руководившего социал-демократической партией, обозначится позже, уже в 1960-е годы). Пока он испытывал отчетливое отвращение к нуворишам, появившимся в Дюссельдорфе, когда наметились первые признаки «экономического чуда».
Он говорил о своих тогдашних «протестных настроениях», но тут же признавался, что текущая политика его мало интересовала. «Иначе в дискуссии о ремилитаризации Германии я, обожженный в юности войной, оказался бы среди сторонников хотя и вполне массового, но политически довольно пассивного движения “Без меня!”». Тем не менее, характеризуя свое политическое мировосприятие того времени, Грасс подчеркивал сугубо негативное отношение к первому федеральному канцлеру Конраду Аденауэру (которое с ним разделяло подавляющее большинство демократически настроенных литераторов). «Канцлер Аденауэр выглядел для меня фарисейской маской, которая скрывала всё, что было мне ненавистно, – христианское ханжество, тирады о собственной невиновности, внешнюю добропорядочность, которой маскировалась банда преступников».
Стоит обратить внимание на резкость характеристик. В литературе и публицистике тех лет настойчиво звучала мысль о том, что моральное благо, заключавшееся в крахе нацизма и его военно-государственной машины, не было по-настоящему использовано для коренного внутреннего переустройства. Общество нуждалось в честной и глубокой национальной самокритике. Вместо осмысления и внутреннего преодоления прошлого, считали многие мыслящие люди в Западной Германии, произошло его вытеснение. Коренного расчета с прошлым, по их мнению, не произошло. Утечет еще много времени, пока можно будет говорить о подлинных демократических, антифашистских преобразованиях в стране.
Грасс вспоминал: в те годы фирма «Хенкель», известный химический концерн, начала выпускать стиральный порошок «Перзил». Это совпало по времени с так называемым процессом денацификации, осуществлявшимся по инициативе американской военной администрации. Делалось это, в частности, с помощью анкетирования, призванного выявить и изолировать от политической и государственной жизни активных нацистов и их пособников. Конечно, в этой крупноячеистой сети легко было отловить крупную рыбу (впрочем, самые большие акулы предстали перед Нюрнбергским трибуналом).
Но денацификация включала, как подразумевалось ее организаторами, которые действовали при помощи местных немецких комиссий с функцией судов («шпрухкаммер»), пять классов потенциальных наци: это были «главные виновники», «обремененные виной», «менее обремененные виной», «попутчики» и «незатронутые». То есть решения осуществлялись (точнее, должны были осуществляться) на основе тех самых подробных семистраничных анкет. Однако в целом процесс денацификации не дал желаемых результатов. Многие сумели проскользнуть через «ячейки» этой самой «сети» и получить желаемый оправдательный документ, получивший уже упоминавшееся насмешливое название «перзилшайн». Грасс как раз и писал о способах «отмывания репутации», с помощью которых выходили сухими из воды те, кто эту репутацию «замарал коричневым дерьмом». «Вновь чистенькие, они занимали теперь высокие государственные посты, претендовали на уважение в обществе».
Большинство представших перед комиссиями выдвигали в свое оправдание аргумент, более всего поразивший союзников. Немцы заявляли, что стать нацистами их вынудило стремление к экономической выгоде. (Не так ли некий петербургский поклонник Гитлера, издавший в начале 1990-х годов «Майн кампф», на суде заявил, что действовал исключительно из соображений коммерческой целесообразности, то есть желая заработать, и был судом оправдан?) Один немецкий ремесленник так объяснил свое членство в национал-социалистической партии: «Поскольку я тогда хотел получить заказ от коммунальных служб, а получить его можно было лишь члену партии, я вступил в партию». Похожее сообщал о себе некий чиновник: «Так как у меня не было шансов продвижения по службе, я вступил в партию».
В атмосфере тех лет подобные признания воспринимались не как самообвинение, а как повод для оправдания. Деятельность «шпрухкаммер» во многом способствовала этому перевертыванию понятий, санкционируя превращение общественного аморализма в приватную добродетель. Об этом можно прочитать в вышедшей в Вене в 1985 году (на немецком языке) книге «Вытесненная вина, несостоявшееся покаяние». Кстати, людям старшего поколения, жившим в СССР уже в зрелом возрасте, подобные оправдания могут кое-что напомнить.
Возвращаясь к раннему послевоенному периоду жизни, Грасс неоднократно подчеркивал, что любая «национальная патетика» его отталкивала: «Любые слова о нации для меня дурно пахли. Любые политические программы вызывали отторжение». В спорах с друзьями и коллегами «невнятно заявляли о себе антифашистские настроения и абстрактный филосемитизм. Мы наверстывали упущенную возможность сопротивления…». Итак, Грасс пока не хотел вставать на позиции ни одной из существующих партий, и даже социал-демократы на этом этапе не вызывали у него симпатий.
Тут было бы уместно сослаться на писателя Вольфганга Борхерта, умершего очень рано, вскоре после войны, но успевшего оставить значительный след в литературе ФРГ. Борхерт считал себя принадлежащим к поколению «без счастья, без родины, без прошения». Но его герои – не просто «выброшенные, выбракованные, потерянные». Они твердо знают, что никогда больше не станут «рассчитываться по порядку номеров», строиться по зычному зову фельдфебеля, они намерены отныне говорить только «нет» – тем, кто вновь готов производить каски и пулеметы, гранаты и порох, сбрасывать на города «фосфор и бомбы». Его рассказы – призыв к «тихим» людям обрести свой голос и жестко сказать «нет» тем, кто вновь пытается соблазнить их своими призывами «истреблять чужих». Скажем уже здесь, что в романе «Собачьи годы» у Грасса возникает своеобразная пародия на Борхерта, герой пьесы которого «На улице, перед закрытой дверью» пытается мстить тем, кто вовлек его в катастрофу войны.
Но это не значит, что Грасс отвергал идеи Борхерта – он просто следует своему художественному принципу пародийности и абсурдизма. На самом деле всё, что он рассказывал о своей не до конца внятной (по его собственному признанию) позиции того времени, о своем глубоком недоверии к любым идеологиям и программам, сближало этих двух авторов, как сближала их обоих со многими коллегами их поколения эта программа отвращения к идеологиям. После национал-социализма, столь навязчиво внедрявшегося в души, это было так естественно.
Между тем Грасс, учась в академии, поменял учителя, выбрав себе в наставники Отто Панкока. Впрочем, слово «наставник» неверное. Грасс говорил о другом – для него настало время, когда «хотелось свободы от любых образцов и наставничества, чтобы найти собственную дорогу, пусть даже окольную». Именно потому он выбрал Панкока, даже не скульптора, а графика. «От него исходило что-то бунтарское. Долгое время образцом для меня служил его пацифизм, нашедший свое выражение в ксилографии “Христос ломает винтовку”, которая распространялась в виде плаката, агитирующего против ремилитаризации Германии; Отто Панкок был для меня примером вплоть до 80-х годов, когда начались протесты против американских и советских ракет средней дальности, и даже позднее… Во времена нацизма ему запрещалось заниматься художественным творчеством и выставляться». Панкок позднее появляется под измененным именем в романе «Жестяной барабан».
В эти же годы Грасс совершил свои первые путешествия в Европу, посетил Италию – Мекку художников. «Я чувствовал абсолютную свободу, ощущал ненасытную жажду странствий, считал себя избранником, авантюристом, баловнем удачи, но был при этом лишь одним из многих тысяч молодых людей, которые в первые послевоенные годы опробовали свои представления о свободе, пересекая наконец-то открытые границы и разъезжая автостопом…»
За Италией последовала Франция, откуда он привез блокнот с набросками и рисунками, запечатлевшими случайных встречных. После Франции он заглянул в Швейцарию, где познакомился с юной балериной Анной, которая станет его женой.
Среди швейцарских впечатлений – одно, кажущееся мимолетным, а на самом деле судьбоносное: в гостях он увидел малыша трех лет, который вошел в прокуренную гостиную, лупя деревянными палочками «по круглому жестяному барабану… Не обращая внимания на взрослых, малыш пересек гостиную, при этом он не прекращал лупить по барабану. …Он шествовал с таким выражением лица, будто видит насквозь всех и каждого… Картинка, прочно засевшая в памяти». Позднее из нее родится роман «Жестяной барабан».
В это же время созрело и оформилось желание уехать из Дюссельдорфа и попытаться найти себя в Берлине. Там он подал документы в Высшее училище изобразительных искусств и получил положительный ответ. Из дюссельдорфских художественных обретений осталось еще одно – он стал играть в джазе, и однажды троих молодых музыкантов увидел в ресторанчике, где они выступали, сам Луи Армстронг. Вдохновившись их юношеским задором, он тоже взял инструмент и присоединился к этим молодым немцам. Они играли вместе целый вечер…
А 1 января 1953 года, посредине зимнего семестра, межзональный поезд увозил Грасса в Западный Берлин. Багаж был невелик, «зато внутри теснились слова и образы, которые еще не могли найти выхода»…
В середине июня 1953 года вместе с молодой женой они стояли на краю Потсдамерплац и смотрели оттуда, как рабочие забрасывают камнями советские танки. Это было знаменитое восстание рабочих ГДР 17 июня 1953 года. «Мы чувствовали могущество власти и бессилие людей так близко, что в память врезались взмахи рук, швырявших камни, и стук ударов о танковую броню…»
Через 12 лет Грасс написал «немецкую трагедию» «Плебеи репетируют восстание», где «у восставших рабочих нет плана, они бесцельно носятся по кругу, а интеллектуалы (и это намек на Бертольта Брехта. – И. М.), у которых всегда есть какой-то план, что способствует красноречию, терпят крах из-за своего высокомерия». «Насмотревшись вдоволь, мы ушли, – пишет Грасс. – Насилие отпугнуло нас… Во мне проснулся забытый страх. Танки были мне хорошо знакомы: – “тридцатьчетверки”».
Вспоминая, писатель не всегда уверен в хронологической точности передаваемых событий. «Что было раньше, что потом? Луковица недостаточно строго соблюдает хронологическую последовательность событий. На ее пергаментной кожице значится то номер дома, то слова идиотского шлягера, то название фильма… то имена легендарных футболистов, зато редко указывается точная дата». И еще одно признание: «Чем старше я становлюсь, тем ненадежнее делается костыль под названием “хронология”». Но ведь главное в этом потрясающем мемуарном романе не точность дат, а свежесть и глубина мысли, значимость оценок, острая индивидуальная и национальная самокритика. В этих сугубо личных записках возникает не только история одной жизни, но история Германии на протяжении многих десятков лет. История политическая, духовная, моральная, художественная…
Директор берлинского училища, в котором учился Грасс, Карл Хофер остался в этих воспоминаниях важной фигурой, как в свое время Отто Панкок. Своим ученикам начала 1950-х годов Хофер внушал, что «центральной проблемой изобразительного искусства был и остается человек, человеческое начало, его извечная драма». «Эти слова, несмотря на их патетику, – признавался Грасс, – сохранили для меня свою силу по сей день». Это – и ответ многочисленным критикам Грасса, набрасывавшимся на него чуть ли не с руганью после почти каждого произведения, чтобы после следующего признать, что предыдущее было куда сильнее и значительнее.
При всей своей парадоксально-ироничной, иногда фарсово-пародийной, иногда намеренно абсурдистской манере, Грасс всегда взволнован человеческой судьбой, экзистенциальной драмой личности – как бы странно ни выглядел в глазах обывателя его герой. Он верен «человеческому началу», но, по собственному признанию, держится подальше «от всяческих догматических ограничений», злословит по адресу тех, кто «претендует на непогрешимость суждений», свыкшись с «риском остаться аутсайдером». Подобные признания о своей неприязни к любым нормативным «указаниям», любому принуждению – даже если оно чисто эстетическое, – о стремлении идти собственным путем снова и снова возникают на страницах его мемуарного романа.
Знаменитый Вагнеровский фестиваль в Байройте, который он вместе с Анной посетил в начале 1950-х годов, вызвал у него «приступы смеха и отвращения к нуворишам и самой обстановке культового действа. Денежная знать выставляла напоказ крахмальные манишки, фраки и бриллианты». Свою неприязнь к демонстрируемому богатству, к нуворишам и прочим денежным мешкам он выразил во всех своих произведениях – это один из постоянных, сквозных мотивов его творчества.
И еще один сквозной мотив – чтение. На протяжении всей книги он знакомит нас с авторами, которые оказали на него влияние. В разное время – и раньше, в различных интервью и комментариях – он упоминал очень многих. Мы помним, какое впечатление на него произвел в ранней юности роман Ремарка «На Западном фронте без перемен». Но вот в доме у родителей жены в Швейцарии он нашел «Улисса» Джойса. Эту книгу он хранил и перечитывал много раз. Мать Анны, считавшая Джойса «чересчур сложным» и «жутким», подарила Грассу двухтомник, не подозревая, какой импульс даст ему это «словесное чудо». Тогда же к Грассу попал роман Альфреда Дёблина «Берлин, Александерплац» – позднее он «учился на каждой книге этого автора, в честь которого учредил особую литературную премию» и даже написал эссе «Мой учитель Дёблин».
К этим двум выдающимся произведениям тогда же добавилась «Легенда об Уленшпигеле» Шарля де Костера с иллюстрациями Франса Мазереля. «Тугое переплетение множества сюжетных линий стало чем-то вроде ракетного топлива для пока еще заблокированной энергии моего писательского неистовства». Слово «неистовство» стоит запомнить как еще одну характеристику грассовского творчества с его неуемной фантазией и мощным буйством словесных построений. Тогда же он читает знаменитый роман «Манхэттен» Дос Пассоса, Чеслава Милоша, мемуары Черчилля, позволившие ему взглянуть на войну глазами победителя, снова и снова перечитывает классику – роман «Зеленый Генрих» швейцарского писателя Готфрида Келлера, еще в детстве найденный им в книжном шкафу матери. «Но кто бы ни направлял меня на бесконечный читательский путь – первым был мой гимназический учитель, штудиенрат Литшвагер, заразивший меня “Симплициссимусом” Гриммельсхаузена». Последнее произведение сыграет особую роль в писательском становлении Гюнтера Грасса, ибо его первый и самый великий роман связывают с традицией «плутовского романа», который в Германии был ярче всего представлен Гриммельсхаузеном, чье повествование о Симплиции Симплициссимусе разыгрывается на фоне Тридцатилетней войны.
Тогда же, в Берлине, произошел любопытный и очень значимый эпизод: учитель Грасса Хартунг показал несколько его стихов Готфриду Бенну, некогда великому экспрессионисту, который в 1950-е годы был кумиром молодых поэтов и понимающей толк в литературе публики. Бенн назвал ранние стихотворные опусы Грасса «многообещающими» и предсказал: «Ваш ученик будет писать прозу». Что и сбылось.
Непередаваемо горькие страницы посвящены смерти матери. Она умерла в больнице, когда сын, сидевший у ее постели, задремал. Помимо горечи и боли здесь чувствуется запоздалое раскаяние. Он, ее любимый сын, до четырнадцати лет сидевший на материнских коленях, и в детстве, и потом обещал ей повезти ее в прекрасные края – конечно, имеется в виду прежде всего Италия. Мать шутливо называла его Пер Понтом. Но сын так и не успел ее никуда повезти, а она не успела увидеть обещанную красоту. «Она, отдававшая своему сыночку всё и получившая взамен немного; она моя обитель радости и юдоль печали».
Она всегда мечтала, что ее сын станет выдающимся художником, и с детства поддерживала его в стремлении посвятить себя искусству, даже когда, казалось, для этого было совсем мало оснований. Она верила в способности сына и его счастливую звезду. «Она заглядывала мне через плечо раньше и продолжает заглядывать теперь, после смерти, говоря: “Вычеркни, это ужасно”. – Но я редко слушаюсь ее, а если и слушаюсь, то слишком поздно… Она, моя мама, умерла 24 января 1954 года. Я же заплакал позже, гораздо позже». Отец пережил мать на 25 лет и умер восьмидесятилетним. «Всякий раз, когда мы с ним виделись, отец считал необходимым подбодрить меня: “Так держать, сынок!”».
На пишущей машинке «Оливетти», которую Грасс не сменил ни на электрическую машинку, ни на компьютер, были написаны его первые стихи. Однажды Анна вместе с сестрой Грасса, приехавшей навестить молодых супругов, отобрали, без его ведома шесть стихотворений и послали их на Южногерманское радио, объявившее поэтический конкурс. Стихотворение «Лилии, увиденные во сне» удостоилось третьей премии, которая составляла 350 марок. Кроме того, Грассу оплатили авиабилет в Штутгарт и обратно, чтобы он мог лично получить премию. На премиальные деньги он купил зимнее пальто себе и мохеровую юбку жене. Эту юбку он помнил всегда: «Так украсила Анну выручка от моих стихов».








