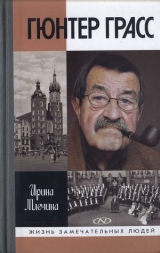
Текст книги "Гюнтер Грасс"
Автор книги: Ирина Млечина
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 26 страниц)
Общество нуждалось в честной и глубокой национальной самокритике. Писатель Альфред Андерш говорил в те годы о «благе поражения»: разгром рейха должен был помочь осмыслить национальную вину и ответственность за преступления. В литературе, отмеченной гигантским переживанием войны и осознанием национального позора, в яростных общественных дискуссиях, продолжающихся, по существу, на протяжении всех минувших с тех пор десятилетий, центральным оказывался вопрос о нравственном очищении.
Грасс уже в первом своем выдающемся сочинении – романе «Жестяной барабан» в свойственной ему пародийно-сатирической манере говорил, в частности, о показном преодолении вины, которое тоже имело место. Его герой посещает некий «луковый подвальчик», где на деревянных досках подают лук (вот она снова, любимая Грассом луковица, одна из его многочисленных смысловых метафор). Очищая и разрезая лук, посетители погребка льют слезы – так они пытаются выплакать свою вину. Если не получается по-настоящему, то хотя бы такая луковая имитация!
И вот наконец юный, жаждавший пройти испытание в бою Грасс получает призывную повестку, испугавшую его родителей. Повестка лежала на столе, и Грасс ее отчетливо помнит. От его памяти упорно прячется только одно: что указано в верху бланка? То есть в какие войска его призывали. «Никакие вспомогательные средства не срабатывают. Разглядеть верх бланка не удается». Может, всё дело в нем самом, предполагал Грасс, может, он сам не готов расшифровать письмена на пергаментной кожице лука?
Можно, писал он, утешить себя цитатами: «повестка и события, последовавшие за ней, – всё это уже жевано-пережевано, облечено в выстроенные надлежащим образом слова и сделалось книгой». Его роман «Собачьи годы», последняя часть так называемой «Данцигской трилогии», растянулся больше чем на 700 страниц. Там подробно описано, как один из персонажей, тоже получивший повестку, становится солдатом и заводит дневник. В нем встречаются такие строки: «Я пока не видел ни одного русского… Два дня я не мог ничего записать в дневник, потому что у нас было соприкосновение с противником. Многих наших уже нет в живых. После войны я напишу книгу…»
Так будет и с самим Грассом. Но остается – пока еще – одна загадка: почему заблокировало его память, когда он пытается вспомнить, как всё же выглядела его повестка и в какой род войск его призывали? Только доехав, как было предписано, до Дрездена, тогда еще не разбомбленного и не тронутого войной города, он понял, в какую часть его направляют. Из очередного командировочного предписания, полученного в предместье Дрездена, следовало, что Грассу надлежит отправиться в леса Богемии, на учебный полигон войск СС, где из него сделают танкиста…
Вот главная тайна, которая наконец, спустя столько десятилетий после войны, открывается читателю: Грасса призвали в войска СС. «Испугало ли меня то, что бросилось в глаза тогда, на призывном пункте, как ужасает меня сдвоенное “С” сейчас, спустя 60 лет, когда я пишу эти строки?»
Ни луковица, ни янтарь не сохранили никаких следов, которые можно было бы истолковать как свидетельство страха или ужаса, признается он. Более того, тогдашний Грасс считал войска СС элитными подразделениями, которые бросают на самые опасные участки фронта. «Двойная руна на воротнике не производила на меня отталкивающего впечатления. Юноше, мнившему себя мужчиной, важнее был род войск: если уж не довелось попасть на подводный флот… то пусть я стану танкистом» в дивизии, которая формировалась заново под названием «Йорг фон Фрундсберг».
Этого Йорга фон Фрундсберга новоиспеченный солдат знал как деятеля времен Крестьянской войны, сражавшегося «за свободу, за волю». А еще Грассу в войсках СС чудилось что-то «европейское, поскольку их дивизии формировались из французских, валлонских, фламандских и голландских добровольцев, там было много норвежцев, датчан, даже нейтральных шведов: они воевали на Восточном фронте, защищая, как тогда провозглашалось, западную цивилизацию от большевистского нашествия».
Итак, новобранца не смутило сдвоенное SS. Похоже, он даже испытывал чувство гордости. Но почему Грасс никогда не рассказывал об этом ни в художественных произведениях, ни в публицистике, ни в бесчисленных интервью?
«Отговорок довольно. Но всё же я десятилетиями отказывался признаться самому себе в причастности к этому слову, к этой сдвоенной литере. О том, что было принято мною из глупого мальчишеского тщеславия, я умалчивал из растущего стыда после войны. Но груз остался, и никто не может облегчить мне этого бремени… Хотя… я ничего не слышал о военных преступлениях, которые позднее выплыли на свет, однако ссылка на неведение не оправдывает меня перед лицом того осознаваемого факта, что я был частью системы, спланировавшей, организовавшей и осуществившей уничтожение миллионов людей. Даже если согласиться, что на мне нет прямой вины, нельзя избавиться от тяжкого осадка, который просто так не спишешь на коллективную ответственность. Знаю, жить с этим придется до конца дней».
А между тем ставший по юношескому недомыслию частью устрашающей машинерии, частью системы, о масштабе преступлений которой он и понятия не имел, Грасс не успел лично никого убить, он даже не успел выстрелить во врага. «Меня рано научили целиться в людей, но до стрельбы по ним, к счастью, не дошло», – писал Грасс. Это был уже исход войны. Как говорили тогда у нас, «фрицы драпали». Они еще огрызались, но конец был близок. Многие пытались дезертировать. Тут-то Грасс и столкнулся со следами кровавой деятельности генерал-фельдмаршала Фердинанда Шёрнера, который призывал травить, как бешеных собак, а лучше вешать дезертиров, всех, кто «разлагает военный дух рейха», вешать на деревьях, дабы другим «неповадно было». Генерал этот прославился своей жестокостью, о нем писали и Бёлль, и Хоххут, и многие другие. И Грасс в романе «Под местным наркозом» вывел его под именем генерала Крингса.
А пока не состоявшийся, можно сказать, эсэсовец-танкист видел вдоль дорог огромное количество повешенных соотечественников с соответствующими табличками на груди.
Едва ли не при первом же боестолкновении оказалась выкошенной половина той части, в которой недолгое время провел семнадцатилетний Грасс. А потом он был ранен, в ногу и в плечо, ранения были легкими, но осколок в плече застрял навсегда. Ему повезло: его отправили в госпиталь, а оттуда в американский лагерь для военнопленных. Лишь волей случая, подчеркнем снова, он остался жив.
Но еще до этого он стал очевидцем событий, ознаменовавших собой – «сперва медленно, потом с нарастающей быстротой и, наконец, лавинообразно – крушение Великогерманского рейха». Грасс не знает, сознавал ли тогда «семнадцатилетний парень начало того конца, который позднее назовут “крахом”, всю его “грандиозность и глубину”». Он признавался лишь, что в голове его царила невероятная путаница.
Грасс вел дневник, который пропал вместе с его шинелью и прочим жалким скарбом. Ему не удалось вспомнить, что конкретно он писал в дневнике, – луковица и янтарь снова отказывают. Он был не в состоянии воспроизвести ни одной из тех «бредовых мыслей», что одолевали его весной 1945-го, ни тех сомнений, которые ему «надлежало бы иметь в ту пору». Это время слилось в серию неразличимых и неразделимых драматических эпизодов, оно похоже на кинофильм, склеенный из обрывков ленты, которая «постоянно рвется». Он помнит одно: «уже по ходу первого урока с лихвой научился страху». Вслед за одной из известных сказок братьев Гримм, которые не раз возникают в его творчестве, он, отправившись «учиться страху», вдоволь его нахлебался, едва оказавшись на фронте, где лишь удача, она же случайность, спасла его от верной гибели. Один взгляд на его уничтоженное подразделение навсегда развенчал «идеал героя, насаждавшийся со школьных времен. Что-то надломилось».
В лагере для военнопленных ему, как и другим, показывают в воспитательных целях черно-белые снимки, сделанные в немецких концлагерях Берген-Бельзен, Равенсбрюк… Военнопленный Грасс видит горы трупов, печи крематориев, голодных, истощенных, превратившихся в ходячие скелеты людей «из другого мира» – и не хочет этому верить. Не хотят верить и его сотоварищи по американскому лагерю (как, впрочем, не хотели верить миллионы обывателей, живших за пределами лагеря по всей Германии). «Мы твердили: “Разве немцы могли сотворить такое?”; “Немцы никогда такого не совершали”; “Немцы на такое не способны”. А между собой говорили: “Пропаганда. Всё это пропаганда”. А кое-кто из заключенных даже утверждал, что американцы задним числом построили декорации…»
«Понадобилось время, чтобы я по частям начал понимать и признавать, что я – пусть не ведая того, а точнее, не желая ведать – стал участником преступлений, которые с годами не делаются менее страшными, по которым не истекает срок давности и которые всё еще тяготят меня. О чувстве вины и стыда можно, как и о голоде, сказать, что оно гложет; только мой голод был временным, а вот чувство стыда…»
Когда появилась его мемуарная книга, а было это в 2006 году, начался колоссальный скандал. Литературные и политические недруги Грасса получили неожиданный подарок: столь запоздалое признание в том, что он был, хоть и мальчишкой и на излете войны, в войсках СС. Этот факт стал самым обсуждаемым в ФРГ, о нем велась полемика на страницах газет и журналов, по радио и телевидению.
Более всего злорадствовали противники Грасса, а их всегда хватало. Говорили даже, что он решил признаться, боясь, что раскроются архивы гэдээровской Штази, тайной полиции государства, канувшего в Лету после объединения Германии.
Но архивы открылись сразу после этого исторического события, и незачем было ждать полтора десятилетия. К тому же Грасс никогда не препятствовал тому, чтобы кто-либо ознакомился с его досье. Но Штази собирала досье на Грасса наверняка не в связи с его военным прошлым, а в связи с многочисленными высказываниями по поводу ГДР, его политической деятельностью как активного участника предвыборных кампаний в пользу социал-демократов и более всего Вилли Брандта. Ведь Штази подослала федеральному канцлеру Брандту шпиона Гюнтера Гийома, который вместе с женой сумел добраться до верхних этажей правительственной канцелярии, став личным референтом ничего не подозревавшего Вилли Брандта. После того как эта афера была раскрыта и Гийом арестован, канцлеру Брандту ничего не оставалось – как человеку чести, которым он, несомненно, был, уйти в отставку. А ведь именно он способствовал заключению так называемых восточных договоров, договора об отношениях с ГДР, после чего признававшаяся лишь в соцлагере Восточная Германия была признана как самостоятельное государство в мире.
Итак, скандал вокруг «Луковицы» был чем-то вроде спички, брошенной в уже подготовленный костер из хорошо высушенного и политого бензином хвороста. Недруги Грасса словно забыли, какое огромное количество немцев, реально причастных к преступлениям рейха, после войны сумело укрыться в Латинской Америке, или в арабских странах, или, что тогда было еще проще, на севере Германии – в Шлезвиг-Гольштейне и других местах. Сколько из них смогли с помощью личных связей и разных уловок миновать процесс денацификации, которая, конечно, была отнюдь не безупречной и стопроцентной и позволила «рыбешке помельче» проскользнуть сквозь эту крупноячеистую сеть. Сколько из них получили вожделенный «перзильшайн», справку о политической благонадежности, – слово, образованное от названия стирального порошка «Перзил», то есть нечто вроде отмывочного удостоверения.
Людям этого толка вся демократическая антифашистская послевоенная литература была ненавистна, ибо она стремилась к осмыслению и честному расчету с прошлым. Грасс с первых дней своей литературной деятельности в свойственной ему гротесково-пародийной манере издевался над показным, фальшивым преодолением прошлого. Этого ему простить не могли. Ведь «Луковица памяти» – это в первую очередь искреннее сожаление, признание «юношеского недомыслия», свойственное семнадцатилетнему парню, верившему в нацистские бредни. Самой замечательной чертой той новой литературы, в которую вошел Грасс, была искренность.
Сколько написано о чувстве вины у Бёлля, Андерша, Борхерта, Айха, Рихтера и многих других писателей послевоенного поколения! Миллионы жертв, кровавые следы германского сапога по всей Европе – всё это вызывало их обостренный интерес к проблеме индивидуальной вины и ответственности. Опыт диктатуры, приведшей к преступлениям и чудовищному краху, рождал яростное стремление к индивидуальной свободе и защите ее от насилия со стороны любых государственных институций. Не быть больше никогда управляемым и манипулируемым, сохранить пространство внутренней свободы – такова была страстная апелляция литературы, рожденной специфическим национальным опытом.
Грасс ни разу не заявил, что виноват лишь нацистский рейх. Он жестоко винит самого себя: он не задавался вопросами, не спрашивал почему, не пытался разобраться, он позволял обмануть и совратить себя, как это делали миллионы.
В 1967 году в знаменитой «Речи о привыкании», произнесенной перед слушателями из Тель-Авива и Иерусалима, Грасс сказал: «Я прибыл из страны, с которой связан происхождением и языком, обязывающей традицией и исторической виной, любовью и ненавистью. Я родился в 1927 году в Данциге. В 14 лет я был членом “гитлерюгенда”, в шестнадцать стал солдатом, а в семнадцать я уже был американским военнопленным… Год моего рождения подсказывает: я был слишком молод, чтобы стать нацистом, но достаточно взрослым, чтобы нести на себе печать системы, которая с 1933 по 1945 год сначала удивила мир, а потом ввергла его в состояние ужаса».
А двумя годами раньше в речи по случаю награждения его одной из самых почетных литературных премий – имени Бюхнера – Грасс говорил: «Преступление, совершенное в Освенциме, длится по сей день». Только осознав это, продолжал он, можно понять, почему «вечное и всё растущее семейство попутчиков, соучастников, всё знавших и совиновных», до сих пор лелеет и взращивает в своем сердце ненависть. Речь шла о ненависти к эмигрантам – слово, которое, по мнению Грасса, всё еще оставалось в Западной Германии «клеветнически ругательным».
Он вспоминает, как после войны унижали эмигранта Томаса Манна, нобелевского лауреата, не пожелавшего оставаться в стране, где правили нацисты; какую еще «более пугающую» ненависть питали многие немцы к бывшему эмигранту Вилли Брандту, тогда правящему бургомистру Западного Берлина. Но, ненавидя эмигрантов-антифашистов, население ФРГ, включая новое, послевоенное поколение, спокойно воспринимало в годы правления канцлера Конрада Аденауэра в качестве госсекретаря комментатора нацистских расовых законов Ганса Глобке. «Неписаный закон Германии гласил: эмигрантам нечего возвращаться, – возмущенно говорил Грасс. – Пусть они умирают, как Генрих Гейне или Георг Бюхнер, в Париже или Цюрихе».
Гражданская позиция Грасса, всегда открыто выступавшего против всех затаившихся и нераскаявшихся попутчиков и соучастников нацистского режима, не могла не вызывать злобы и отторжения у тех, кого он задевал.
Грасс был не единственным. Еще раньше, сразу после войны, о сходных вещах говорил Карл Ясперс. Немецкий народ, считал он, несет двойную вину. Во-первых, за безоговорочное подчинение политическому вождю и, во-вторых, за сущность вождя, которому подчинился. Немцы, уверен философ, ответственны «за режим, за деяния режима», за развязывание войны, «за того фюрера, которому позволили оказаться во главе». Как немец, как человек, говорящий по-немецки, он не может не чувствовать себя ответственным за всё, что «произрастает из немецкого». Эта мысль очень близка тому, о чем пишет в своем эссе «Германия и немцы» Томас Манн, который тоже – как немец – считает себя ответственным за всё, что совершала Германия.
Как не ощутить связи между высказываниями этих знаменитых немцев при всём несходстве их судеб и их творчества: Карл Ясперс, Томас Манн, Гюнтер Грасс. Добавим к этому размышления другого философа – Теодора Адорно, писавшего в небольшом эссе «Воспитание после Освенцима» о преодолении фашизма как общенациональной задаче. «Говоря о воспитании после Освенцима, я имею в виду две сферы… воспитание в детстве, особенно раннем; а также общее просвещение, создающее духовный, культурный и общественный климат, в котором мотивы, приведшие к ужасу Освенцима, хотя бы в какой-то мере будут осознаны». Он утверждает: «Единственной силой против принципа Освенцима могла бы быть внутренняя автономность, сила, необходимая для неучастия». Именно этой внутренней, индивидуальной силы не хватило тем подросткам, которые, как и Грасс, не хотели задавать вопросов, охотно подчинялись авторитарному насилию, целью которого и было лишить каждого той самой «автономности». Грасс как раз и пишет о готовности шагать «в общем строю», подстраиваться и выстраиваться по команде.
Нападки на его «Луковицу» довольно быстро прекратились, потому что аргументы противников были однообразны, слова невыразительны и стерты. Зато сенсационность книги способствовала росту продаж: тираж достиг величин, редких для немецкого книгоиздания.
Однако продолжим рассказ о судьбе Грасса, когда он, никому еще не известный молодой человек, получив суточный паек и документ с печатью, а также пройдя дезинфекцию, был выпущен из лагеря и оказался в краю, состоявшем из руин: «Здесь предстояло осваивать неведомую мне свободу». Как обращаться с этим подарком, он не знал. Предоставленная свобода – нетореная дорога. И паренек, случайно уцелевший на войне, пытался сделать по ней первые шаги.
Вот теперь отложенные, не заданные вовремя вопросы нахлынули на него, словно океанская волна, едва не затопив своей мощью. Ни луковица, ни волшебный янтарь не подсобят ему, когда он начнет вспоминать, что именно одолевало его более всего сразу после выхода за лагерную ограду. Думал ли он в первую очередь о родителях и младшей сестре, о судьбе которых ничего не знал; занимали его лишь собственные проблемы или те, которые в газетах уже назывались «коллективной виной»; хотел ли он прямо сразу, не откладывая, найти способы получить профессию? О каких потерях он сожалел более всего? «Похоже, молодой человек, бесцельно слоняющийся меж руин, занят лишь мыслями о самом себе…» Или это были переживания, которые трудно назвать каким-то одним словом, придумать для них точные формулировки?
Для Грасса начались «годы учения», или переучивания, как и для большинства выживших его сверстников, да и вообще переживших войну немцев. Черный рынок, требующий смекалки (а она у него была, недаром мать в детстве научила его «выбивать долги» из скупых клиентов); пачка сигарет, которая превращается в главную валюту; заботы о «хлебе насущном», ночлеге и пристанище; изучение списков разыскиваемых лиц в надежде узнать что-нибудь о своей семье – путь, полный трудностей, прежде всего материальных.
Вот он, наскоро обученный, плетется за плугом – пашет вместе с крестьянином с утра до ночи. Главное, он наконец может утолить физический голод. Остается голод сексуальный, потом к нему добавится голод творческий. Три голода, мучившие молодого человека в то полное испытаний время развалин. Случайно встретившаяся девушка, готовая утолить его «второй голод», интересуется, кем бы он хотел стать. Лежа в лунную ночь в стогу сена, он отвечает: «Хочу быть художником, непременно». Впрочем, теперь он не вполне уверен, что ответил именно так. «Хоть и поблескивает у луковицы одна мясистая кожица под другой, но ответа она не знает. Между оборванных строчек пустеют пробелы». Ему же остается лишь толковать эти недоступные памяти места, гадать, искать ответы…
Лишенный пристанища, надежного заработка, семьи, он чувствует себя подобно герою знаменитой драмы Вольфганга Борхерта «На улице, перед дверью» (1946). Этот молодой немец, вернувшийся с войны, всматривался в мир, окружавший его, и ужасался. Жена его бросила, жилья нет, он искалечен, унижен, утратил всё: кров, очаг, семью, родину, которая, как выясняется, не очень-то его ждет. Равнодушие окружающих терзает героя не меньше, чем раны и неприкаянность. Зато процветают и уже нашли теплую нишу «веселые полковники», которые на войне гнали мальчишек на передовую, на смерть, а здесь, дома, уже забыли собственную вину и ответственность. Пребывание на улице перед закрытой дверью – метафора бесприютности миллионов немцев, которых нацизм обманул и предал, пообещав им «весь мир» и превратив в бездомных бродяг. В романе Грасса «Собачьи годы» образ борхертовского героя возникнет вновь, хотя уже в привычном для автора пародийно-дистанцированном варианте.
Весной 1946-го время будто замерло для девятнадцатилетнего Грасса, который непрерывно скитался по западной части Германии, пытаясь нащупать почву под ногами. «Годы учения» выливались в «годы странствий» – прямо как в романе Гёте о Вильгельме Мейстере. Память причудливо отбирала отдельные эпизоды этих странствий, не заботясь ни о точности сюжетов, ни о достоверности деталей. Один из эпизодов этой послевоенной Одиссеи: Грасс попадает на калийный рудник, где работает сцепщиком вагонеток с калийной рудой, что требует ловкости и выносливости. Зато он больше не голодает.
Если на фронте он «научился страху», то здесь, в шахте, он учится не только выживанию, но и – впервые – пытается вникать в политические споры. Когда на руднике отключается электричество, а это случается часто, группки рабочих начинают спорить о политике. Он прислушивается, старается понять, кто за что, разобраться, на чьей стороне ему быть. Одна, самая малая, часть рабочих защищает коммунистические идеи – это остатки уцелевших еще с веймарских времен коммунистов. Другие – и их явно больше – аргументируют в духе, который ему знаком, – это всё тот же невыветрившийся дух нацизма. Эти люди повторяют пропагандистские лозунги нацистов, ищут виновных в крушении гитлеровского режима и вызывающе напевают гимн штурмовиков: «Знамена ввысь, сплоченными рядами…» Третью группу составляют социал-демократы, которые в годы нацизма воспринимались как враги обеими сторонами – нацисты презрительно именовали их «соци», а коммунисты и того хуже – «социал-фашистами». Юный сцепщик понимает не всё, что они в пылу спора кричат друг другу, но замечает, что еще недавно смертельные враги – нацисты и коммунисты – теперь нередко выступают единым красно-коричневым фронтом.
«Мне было трудно занять чью-либо сторону. Без прочной собственной позиции, агитируемый сразу всеми, я склонялся то к одному лагерю, то к другому», – признается «глупый молодой сцепщик», как именует себя Грасс. Но зато один урок он всё же извлек из этих импровизированных дискуссий: что «неблаговидное союзничество» коммунистов с нацистами на определенном этапе способствовало разрушению демократической Веймарской республики.
И тем не менее понадобятся еще долгие годы, чтобы вчерашний фронтовик и военнопленный примкнул к социал-демократам, их лидеру Вилли Брандту и его политике «малых шагов». А еще позднее в книге «Из дневника улитки» он «предпишет» прогрессу двигаться медленно, ползком: «Длинный путь, вымощенный булыжниками сомнений». Итак, дебаты в шахте не прошли даром – социал-демократическая умеренность стала определять его политическое мировоззрение. В день девятнадцатилетия Грасса в Нюрнберге по приговору трибунала были повешены главные военные преступники – красноречивое совпадение.
Между тем он продолжает с тревогой думать о судьбе своей семьи и упрямо ищет в еженедельно вывешиваемых списках имена родителей и сестры. «Вопреки рассудку, я воображал, что мама осталась дома, будто она продолжает стоять за прилавком, отец замешивает на кухне тесто для пирога, а сестра с ее косичками играет в гостиной…» На самом деле «вольного города Данцига» более не существовало. Миллионы людей разыскивали друг друга. Грасс написал дальним родственникам в надежде узнать что-нибудь о семье. Из ответов он понял главное: родители и сестра живы, им удалось перебраться из советской зоны оккупации в британскую, где они поселились у крестьянина под Кёльном. Из тех же открыток он узнал о разрушении Данцига, о бедах, которые довелось пережить депортированным, о пропавших без вести, о случаях насилия… Но можно ли было ожидать чего-то иного после развязанной нацистами войны, после преступлений, творимых ими на оккупированных советских территориях, после десятков миллионов убитых и раненых? И кого кроме нацистского режима и самих себя винить в том, что немцам-беженцам приходится очень туго?
Узнав наконец родительский адрес и прихватив небогатый запас съестного, юный Грасс отправился к своим. Зима 1946/47 года была «особенно убийственной для детей и стариков, ибо дефицит всего усугублялся нехваткой топлива». Люди отчаянно мерзли. Мерзли все попутчики юного Грасса в поезде, но ему казалось, что он мерзнет сильнее других. Возможно, предполагал он, холодно было и от внутренней тревоги: «Я боялся разочарования, опасался, что мама, отец и сестра покажутся мне чужими, что внешний холод усилится внутренним ознобом, когда они увидят перед собой сына и брата».
Потом он узнал: мать верила, что он не погиб, вопреки всем обстоятельствам, да еще одна цыганка нагадала ей, что сын скоро вернется. Но, увидев родителей, он испугался: они стояли перед ним «жалкие», в болтающихся пальто – так сильно исхудали. Сын и родители обнимались, роняя какие-то бессвязные слова. «Слишком многое, гораздо больше, чем можно было выразить словами, произошло за последнее время, у которого не было начала и которое не могло найти своего завершения».
Обнимая родных, Грасс вспоминал, как всего за два года до этой встречи, когда родной Данциг еще стоял «целехоньким со всеми своими башнями и фронтонами», в сентябре 1944-го отец провожал его на вокзал, молча неся его фибровый чемоданчик, и на лацкане отцовского пиджака еще сиял круглый партийный значок. Шестнадцатилетний юноша с призывной повесткой в нагрудном кармане, в коротких штанах и тесной куртке отправлялся на фронт…
Родителей и сестру по распоряжению местных властей принудительно подселили к зажиточному крестьянину, ибо добровольно никто не желал пускать к себе беженцев. «Хозяева никак не желали признавать тот факт, что они, некогда приветствовавшие победоносное начало войны, проиграли ее вместе с пострадавшими». Под нажимом властей хозяин предоставил родителям Грасса бывшую кормовую кухню для свиней, с бетонным полом. Жалобы не помогали. «Возвращайтесь туда, откуда пришли!» – слышали они в ответ. Всюду чувствовались недоверие и враждебность к чужакам, которых именовали «пришлыми». Царил холод.
Отцу повезло – он нашел работу на предприятии, обслуживавшем теплоэлектростанцию (она называлась «Фортуна Норд» и позднее появится в «Жестяном барабане»).
Отец подыскал «теплое местечко» и сыну – учеником в конторе. «Там хорошо, тепло», – уговаривал он. «Я – конторщик? Смех да и только!» – Неблагодарный отпрыск был полон иных мечтаний.
«Я хотел стать художником, который из простой глины создает фигуры, объемные, осязаемые со всех сторон и доминирующие в окружающем их пространстве». Отец сказал, что подобными «художествами» не проживешь, и назвал планы сына «бредовой и навязчивой идеей». Даже мать, которая всегда верила в таланты сына и поощряла его тягу к искусству, тоже «боязливо» отнеслась к сыновним мечтаниям: «А ты сам-то веришь, сынок, что искусство тебя прокормит?»
В одной из газет молодой Грасс наткнулся на заметку, что в Дюссельдорфе возобновились занятия в некоторых мастерских Академии искусств. Через три недели «семейной жизни» юноша с вещевым мешком отправился в утренних ледяных сумерках по сугробам к ближайшей железнодорожной станции – он шел, чтобы «утолить свой третий голод» – тягу к искусству. Он хотел «запечатлеть всё, что стоит и движется, любой предмет, который отбрасывает тень… – эта потребность присваивать себе все в виде образов была неодолима…».
В неотапливаемом здании Дюссельдорфской академии искусств он встретил одинокую фигуру, обмотанную черным шарфом, – это был профессор Энзелинг. Профессор спросил юного незнакомца, что тот здесь ищет. Ответ последовал незамедлительно: «Хочу посвятить себя искусству!» Вспоминая этот эпизод, Грасс снова сверялся с луковицей: что подскажет она на этот раз? Ведь речь шла о судьбоносном решении, о том, что делать дальше, более того, решался вопрос «быть или не быть». Профессор сказал, что академия закрыта «из-за отсутствия угля». Чтобы не тратить драгоценное время (кто знал в той разрухе, когда начнут снова топить и возобновятся занятия?), Энзелинг посоветовал юноше, страстно желавшему стать скульптором, подыскать себе пока место ученика каменотеса или камнереза, а там, глядишь, проблема с углем разрешится. Грасс обратился в службу трудоустройства и в результате поступил в мастерскую при кладбище – «надгробия пользуются спросом в любые времена».
Позднее многое из того, что происходило с ним, когда он осваивал профессию каменотеса, нашло отражение в его первом и самом знаменитом романе «Жестяной барабан». Герой этого романа оказался «таким же понятливым учеником, как и я, начавший… работу в качестве практиканта». Для талантливого художника любой жизненный материал становится пригодным для создания художественного мира – для текста, для рисунка, графического изображения или скульптуры. «Когда б вы знали, из какого сора…» – писала Анна Ахматова.
«Примером того, как прожитая жизнь становится исходным материалом для художественного текста, можно считать старый надгробный камень, из тех, что по истечении положенного срока был снят с могилы и теперь лежал рядом с другими такими же камнями за мастерской…» Все профессиональные приемы искусства каменотеса, всё, испытанное молодым учеником камнереза, найдет – не буквальное, а преображенное авторской фантазией и талантом – отражение в его романе. А уж раз речь идет о весьма скорбной теме, то автор напоминает, что данцигские кладбища послужили позднее мотивом повести «Крик жерлянки».
Грасс находит пристанище в приюте благотворительной организации «Каритас» в Дюссельдорфе – жить-то где-то надо. Там он, кстати, начнет рисовать стариков, обитателей этого приюта, то есть будет постепенно входить в профессию художника-графика. Верхняя койка двухъярусных нар, отведенная ему, напоминает спальное место юного зенитчика, рядового службы труда, мотопехотинца, военнопленного и шахтера-сцепщика. Всё, что окружает Грасса, с чем он сталкивается, дает пищу художественному чувству, здесь рождаются мотивы его стихотворений, прозы, его графических и скульптурных работ. К примеру, куры, гуляющие между надгробными камнями, послужат мотивом для стихотворения «Пернатые на Центральном кладбище». А посещение танцевальных вечеров и успех, заработанный «молодыми ногами», запечатлелся позднее уже в стихах «старого человека», который «мнит себя еще достаточно ловким для “Последних танцев”, пусть даже сил ему хватит только на “Tango mortale”».








