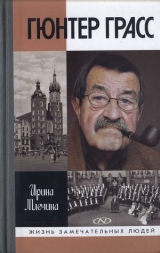
Текст книги "Гюнтер Грасс"
Автор книги: Ирина Млечина
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 15 (всего у книги 26 страниц)
Глава VII
ЖЕРЛЯНКИ, КРАБЫ И МОЛОДЫЕ НЕОНАЦИСТЫ
В 1992 году вышла повесть Грасса «Крик жерлянки». Немецкое название «Unkenrufe» по-русски соответствует выражению «накликать беду», «накаркать». Потому-то жерлянки и их «унканье» являются не просто парадоксальной неожиданной метафорой. И не в том дело, что рассказчик в школе завоевывал внимание однокашников трюком с глотанием жаб. Жерлянки – прежде всего символы грядущей беды.
Профессор Александр Решке, до войны житель Польши, а впоследствии «переселенец» или «беженец» (как себя точно именовать, он так и не решил), и полька Александра Пентковская, в прошлом коммунистка, ныне полная ненависти к коммунистам, вдовец и вдова не первой молодости, случайно встретившись и проникнувшись взаимными чувствами, через несколько лет, в счастливый момент (возвращаясь из Италии, где Александра мечтала побывать всю жизнь), попадают в автокатастрофу и погибают. Не зря им так часто встречались на пути жерлянки и «ункали», предвещая беду. И вообще не случайно эти злосчастные лягушки так часто возникали в их воспоминаниях.
Жерлянки сродни грассовской Крысихе, которая выполняет роль Кассандры, предостерегая и предупреждая о грядущих бедах. Беду – хотя и не такую трагически безвозвратную, как в финале, они накликают и раньше, когда вдовец и вдова, едва познакомившись, решают внести свой миротворческий вклад в новые судьбы Европы, в добрососедство недавно объединившейся Германии и Польши (а происходит всё как раз непосредственно после объединения двух германских государств – ФРГ и ГДР). Они хотят дать немецким «беженцам» или «переселенцам» (а попросту изгнанным из Польши после крушения рейха немцам) возможность завершить свой жизненный путь на родной земле. Иными словами, они решают открыть в Польше специальное «миротворческое кладбище», где отлученные от родных мест нашли бы последнее пристанище.
Оба с жаром берутся за работу, преодолевая массу препятствий. Но, как известно, всякое доброе дело наказуемо. Они и опомниться не успевают, а к созданному ими акционерному обществу уже примазываются со всех сторон люди, которые видят возможность разбогатеть за счет покойников, чьей последней волей было лежать в родной земле. Александр и Александра, с наивно-идеалистическим энтузиазмом взявшиеся за дело и добившиеся немалого успеха, с ужасом обнаруживают, как плодятся вокруг них люди нечистые на руку, которых интересует не гуманная идея, а дивиденды, нажива. К тому же в польской прессе появляются статьи о «новой колонизации», на сей раз «с помощью покойников». В результате героям повести приходится расстаться с делом, которое они начали и которому отдали столько душевных и физических сил.
И всё же, несмотря на их разочарование, а потом и трагическую гибель, кое-что из задуманного ими доброго дела остается и новые ряды захоронений на обустроенных ими «миротворческих кладбищах» это подтверждают. Но Грасс не был бы самим собой, если бы не внес в изображение героев повести и их «дела» почти обязательной доли иронии, очуждения. Так что вопрос о том, относилось ли «унканье» жерлянок лишь к персональной судьбе вдовцов, их неожиданной смерти, или лягушки угадали какую-то червоточину, изъян в задуманном ими «благом деле», решит лишь сама история.
Для Грасса же важна прежде всего проблема добрых отношений Германии с Польшей, Германии со своими соседями, с Европой и остальным миром (в том числе бывшим «третьим» миром, искусно воплощенным, в частности, в сатирическом образе предприимчивого бенгальца, с помощью велорикш пытающегося не просто нажить капитал, а оздоровить экологическую обстановку европейских городов).
Объединенная Германия не должна вызывать чувство душевного дискомфорта у европейских народов, еще помнящих гитлеровское нашествие и трагедию войны. Впрочем, как всегда у Грасса, и в этой повести всё неоднозначно, и здесь есть несколько уровней подтекста, трагический и комический, фарсовый и серьезный. И конечно, никаких нравоучений, никакой дидактичности – читатель обо всём должен задуматься сам.
Насколько беспокоила Грасса судьба объединенной Германии и судьбы мира, говорит не только эта повесть, но и всё его творчество того периода, прежде всего публицистические выступления. Свидетельствует об этом и речь, произнесенная 18 ноября 1992 года (как раз тогда вышла повесть «Крик жерлянки») и нашедшая широкий отклик. Это свое выступление в Мюнхенском театре «Каммершпиле» Грасс назвал «Речь об утрате». В том же году она вышла в виде небольшой книги.
Грасс признавался, что в этой речи хочет говорить «о Германии и о себе». Чего ему не хватает и что он хотел бы вернуть. «Поэтому моя речь называется “Речь об утрате”». «Все началось с утраты родины. Но эта утрата, какой бы болезненной она ни была, должна быть признана обоснованной. (Читатель понимает, что речь идет об утрате Данцига. – И. М.) Немецкая вина, то есть преступно развязанная война, геноцид евреев и цыган, миллионы убитых военнопленных и насильственно угнанных рабочих, преступление эвтаназии, и к тому же то горе, которое мы, как оккупанты, принесли нашим соседям, особенно полякам, – всё это привело к утрате родины».
«Большинство моих книг, – продолжал Грасс, – вызывают в памяти погибший город Данциг, его холмистые и равнинные окрестности, матовую поверхность Балтики; и город Гданьск стал со временем моей темой, которая требует продолжения. Утрата сделала меня разговорчивым. Лишь то, что утрачено окончательно, страстно требует бесконечного называния. Это мания – до тех пор называть по имени утраченный предмет, пока он не появится. Утрата как предпосылка литературы. Я почти склоняюсь к тому, чтобы пустить этот опыт в обиход как тезис».
Свою речь Грасс посвятил памяти трех турчанок, погибших в огне по вине неонацистов в городке Мёльне. Заметим уже сразу, что именно с Мёльном связано трагическое действие его очень известного произведения «Траектория краба», повлекшего, как всегда, оживленные споры и полемические схватки. Но вернемся к речи – ее подзаголовок, напечатанный на обложке, конкретизирует название – «О падении политической культуры в объединенной Германии».
Речь проникнута духом национальной самокритики – как, впрочем, все другие речи и статьи, да и романы, и повести, и произведения иных жанров, созданные Грассом. Он говорит, в частности, об опасности вновь возникшего – на сей раз уже в связи с объединением и с ощущением возросшей «державной мощи» – стремления «сбросить наконец груз прошлого» и смотреть «вперед, только вперед». К чему это может привести? Например, к тому, что 3 октября, в день объединения, «праворадикальные орды» выплеснулись на дрезденские улицы с боевым кличем нацистских времен, с любимым лозунгом штурмовиков «Сдохни, еврей!» – а полиция, как в «старые добрые времена», организовала «защитное сопровождение» этих самых орд.
Рухнувшая осенью 1989 года Берлинская стена похоронила под своими обломками современную Атлантиду – «первое на немецкой земле государство рабочих и крестьян». Теперь и ГДР, и ее культура – лишь предмет исторического рассмотрения, ибо на карте такого государства больше нет. Крах стены, исторгнувший слезы радости у тех, кто первыми, взволнованно теснясь и, кажется, ничего уже не опасаясь, проникали через стихийно образовавшиеся «шлюзы» в западную часть города, был событием невероятным.
Мало кто в обеих частях Германии верил, что когда-нибудь это будет возможно. Как выглядит Западный Берлин, многие в ГДР уже почти успели забыть. Другие – молодые – никогда не видели этой части города, не зря называвшейся «витриной западного мира». А если и видели, то лишь на экране запретного западного телевидения. Для очень многих это была мечта всей жизни: вырваться, увидеть другой мир, перестать чувствовать себя запертыми, хоть и в «лучшей ГДР в мире», как иронизировали граждане этой страны. Оказаться в Западном Берлине, этой многолетней витрине западного мира, такой близкой – вот она, рядом – и такой недоступной – сколько людей жаждали пережить этот миг.
Сколько людей за эти годы пытались миновать смертельную границу, нашпигованную самострельным оружием, колючей проволокой, окруженную заминированными полосами! Сколько изобретательности было в этих попытках: люди делали подкопы, какая-то семья долго втайне шила из кусков шелка воздушный шар и в конце концов благополучно умудрилась перелететь на нем через границу. Друг и коллега Грасса Уве Йонзон сначала сам перебрался в Западный Берлин, а потом сумел – через туннель – вытащить туда и свою невесту.
Чувство необычайного волнения испытывали в момент крушения Стены, означавшего и крушение «железного занавеса», и конец холодной войны, все немцы: и те, кто ринулся через контрольно-пропускные пункты или просто перелезал через еще стоявшую Стену в западную часть города, и те, кто сидел перед телевизором. Позволю себе признаться, что и я не смогла сдержать слез, глядя, как ликуют и обнимаются у Стены совершенно чужие люди. Что говорить, это был редкостный исторический момент, и мы, как и люди в других странах, благодаря телевидению стали его свидетелями. Это было уникальное историческое событие в жизни народа, столько лет разделенного границей.
Весной 1990 года я оказалась в Берлине и остановилась, как это нередко бывало раньше, в отеле «Штадт Берлин» на Александерплац. Площадь в те дни выглядела совсем по-другому, нежели в прежние времена. Приехав впервые в Берлин в 1966 году, я увидела ее мрачной, плохо освещенной и со следами разрушений, оставшихся со времен войны. Потом она с каждым годом отстраивалась, над ней вознеслась телевизионная башня, площадь приобрела симпатичный вид. В тот момент, когда я оказалась на ней уже после крушения Стены, площадь сияла, сверкала, была заставлена столиками открытых кафе, и на зонтиках над ними были крупными буквами написаны названия западных фирм. Повсюду царило оживление, на каждом углу чем-то торговали, было полно цветов и солнца. Но главным, что создавало настроение, был в тот погожий весенний день духовой оркестр из Западного Берлина, которым управлял бравый дирижер с военной выправкой. Оркестр играл «Розамунду», и небольшая толпа слушателей возле отеля слегка пританцовывала под зажигательные ритмы.
Я тоже остановилась рядом с берлинцами, наслаждаясь радостной атмосферой и веселыми звуками музыки. И поняла, что здесь происходит: граждане Берлина, столицы ГДР, праздновали конец ледниковой эры, сбрасывали 45-летнее оцепенение, хотя, скорее всего, не каждый в этой толпе так уж жаждал в тот момент окончательно расстаться с привычным образом жизни под опекой государства и вступить на казавшийся прежде манящим и недостижимым, а ныне вполне реальный, но чем-то уже пугающий новый путь.
Но тогда, под мелодию «Розамунды», наблюдая за энергичными движениями бравого дирижера, они явно торжествовали, и я присоединилась к ним. Мне-то праздновать, собственно, было нечего, кроме весны, но мне всегда нравилась «Розамунда», к тому же оркестр был отличный.
Я улыбнулась, и обернувшийся к публике дирижер засек улыбку. Ослепительно улыбнувшись в ответ, он громко произнес: «Битте шён, майне даме!» («Пожалуйста, мадам, присоединяйтесь!»). Я, конечно, не двинулась с места, но продолжала улыбаться, а возможно, и тихонько подпевать, но так, что, кроме меня, никто не слышал. Дирижер время от времени поворачивался и всякий раз ослепительно улыбался.
До сих пор я помню это весеннее ощущение радости, испытанное тогда, бравого дирижера и звуки «Розамунды». ГДР рухнула в одночасье, но мне не было жаль, потому что граждане ГДР, в сущности, тогда ни о чем не жалели. Однако теперь часть населения «новых германских земель», как стали называть бывшую ГДР, не без сожаления вспоминает о «старых добрых временах» (возникло даже слово «остальгия» – что-то вроде ностальгии по Востоку – Ост).
Не все могут встроиться успешно в новую жизнь, и это напоминает нашу собственную недавнюю историю: многие граждане России вначале всей душой приветствовали перестройку и особенно «гласность» и демократию, но потом увидели, что настоящей демократии не получилось, зато сами они состарились и оказались полунищими в своей стране, поняли, что уже не способны встроиться в рыночные отношения и обречены с завистью разглядывать дворцы «новых русских», «нового чиновничества» и «олигархов».
Когда в Германии схлынула первая эйфория, Берлинскую стену разрисовали художники, разобрали на кусочки, превратив каждый обломочек в сувенир с сертификатом подлинности, и развернулась бойкая торговля этими сувенирами по обе стороны бывшей границы. Родственники встретились, выпили шампанского, со слезами вспомнили прошлое.
Путь с Востока на Запад и обратно, то бишь «из Германии в Германию», как сказал Грасс, оказался открытым, началась подготовка к объединению: сначала валютному, потом – быстрее, чем предполагалось, – политическому, экономическому, государственному. Германия стала единой. Свершилось то, о чем ни один самый смелый политик и не помышлял как о деле ближайшего будущего, предполагая, что вопрос этот станет актуальным не раньше чем в следующем веке.
Но когда улеглись восторги и высохли слезы умиления, начались будни. И оказалось, что не всё так просто и радостно обстоит с объединением двух Германий, жители которых на протяжении четырех с половиной десятилетий существовали в разных мирах. Стало очевидно, что понадобятся годы, если не десятилетия, пока «весси» и «осси» станут единым немецким народом, пока будут полностью преодолены не только различия в уровне материального достатка, в экономической организации жизни, но и более глубокие, психологические.
Процесс объединения двух германских государств, существование которых само по себе было результатом фашизма и проигранной войны, оказался очень сложным. Прошлое научило большинство немцев не доверять демагогам, обещающим «простые решения», а самостоятельно делать выбор. И тем не менее уже очень скоро, когда просохли «первые слезы радости», зазвучало озабоченное: «Где обещанные цветущие долины?»
Жители бывшей ГДР, во всяком случае многие из них, полагали, что как по мановению волшебной палочки должна коренным образом улучшиться их жизнь. Но «цветущие долины» оказались закрыты туманом неизвестности. Объединение вновь всколыхнуло общественную дискуссию, теперь уже общегерманского масштаба, в ходе которой выявились основные болевые точки нового этапа истории страны.
Еще когда вопрос о формах и сроках объединения только возникал, рядом с ликующими голосами, требовавшими: «Скорее, скорее!» – не столь громко, но ощутимо и весомо прозвучали голоса предостерегающие, озабоченные. Это были голоса людей, желавших избежать того, что в памяти европейских народов так или иначе было связано с понятием единой Германии. Многие вспоминали дух националистического чванства и превосходства и, конечно, дух экспансии, агрессивности и милитаризма. Да, в заявлениях лидеров и в основополагающих документах утверждался принципиальный настрой на мир, добрососедство и т. д. Но у части людей, и не худшей, оставались сомнения. В полемике, развернувшейся тогда, проявлялись ключевые моменты несогласия, противоречий, несовместимости, возникали «точки кипения» общественных страстей.
В октябре 1990 года еженедельник «Цайт», одно из самых демократичных изданий, обратился к ряду немецких, австрийских и швейцарских писателей с вопросом: «Чего вы ждете от Германии, чего вы желаете объединенной стране?»
Штефан Хермлин, родившийся в 1915 году в Хемнице (40 послевоенных лет именовавшемся Карл-Маркс-Штадт), ответил коротко: «От Германии я не жду ничего хорошего. Но хочу надеяться, что ошибаюсь. Для объединенной страны я желал бы радикальной демократии в духе Карла фон Осецкого. Но лично мне ее уже не дождаться».
Вольфганг Кёппен, старейший писатель, автор знаменитых романов, родившийся в 1906 году в Грейфсвальде, а потом живший в Мюнхене, ответил более пространно: «Конечно, я немец и у меня трудности с нашим национальным гимном. Я слишком часто слышал его, и звучал он слишком грохочуще, слишком навязчиво, слишком давая повод для непонимания. Я не хочу Германии, которая превыше всего, я хочу отечества для всех. Я немец, но гражданин мира от рождения, человек среди людей в воображаемом всемирном государстве. И вот уже передо мной дилемма. Ведь может снова появиться диктатор. Из Богемии или откуда-нибудь еще. И вот мы снова в беде. Может быть, союз малых государств был бы альтернативой? Хорошо швейцарцам. Они не принимали участия в мировых войнах, умножали свое богатство и престиж… Я хотел бы иметь возможность отдыхать в Мазурах или в Померании. Но чтобы не надо было просить визу. Я, как немец, хочу быть желанным гостем всюду, в Иерусалиме и Багдаде. И путешественников из других стран я хотел бы приветствовать как желанных гостей в Мюнхене или любом другом городе. Я воображаю, как учился бы у Канта в Кёнигсберге – Калининграде – и русские были бы моими однокашниками. В культурном мире было бы возможно всё, если бы только умерли войны».
Совсем лаконично отозвался Гюнтер де Бройн, еще один выдающийся писатель, родившийся в 1926 году в Берлине и проживший там всю жизнь, как и Грасс, счастливо уцелевший на войне: «Я желаю объединенной стране, чтобы она была хорошим соседом и имела хороших соседей, чтобы сознание ее величины рождало чувство ответственности, а не манию величия и чтобы внутри страны и по отношению к внешнему миру правили разум, толерантность и сочувствие».
А вот как ответил австрийский писатель Герхард Рот, родившийся в 1942 году в Граце, а в момент опроса живший в Вене: «Объединенная Германия – это спящий великан. Сейчас ему снятся сытые, приятные сны. Но что, если ему вдруг приснится страшный сон? Что, если он “проснется”? Я желаю объединенной стране, чтобы она не оказывала такого “всасывающего” действия, как 50 лет назад, когда Австрия исчезла в ней, как в гигантской сточной канаве».
Почти в каждом ответе – а здесь приведены лишь несколько из многих – наряду с добрыми пожеланиями так или иначе проскальзывает чувство тревоги: что будет, если «гигант» проснется в плохом настроении?
Сейчас, когда прошло более двадцати лет с момента объединения Германии, эти опасения кажутся преувеличенными, нереальными. В единой Германии стали видеть не только образец материальной стабильности и процветания, но и оплот подлинной демократии. Германия не только сумела преодолеть последствия нацизма и войны, военной катастрофы и разрухи, но и стала во всех отношениях достойным членом европейского демократического сообщества.
И все же тогда, в начале 1990-х, очень уважаемые люди совсем не были уверены, что всё произойдет именно так. У них были сомнения, в их ответах звучали опасения и тревога.
Такие же мысли одолевали и Гюнтера Грасса, одного из самых внимательных и зорких наблюдателей послевоенной немецкой истории.
В феврале 1990 года он рассказал в той же газете «Цайт», как накануне Рождества, делая пересадку в Любеке, оказался на вокзале, где к нему неожиданно подошел совершенно незнакомый молодой человек и недолго думая назвал его «предателем отечества».
После первой, с трудом подавленной вспышки гнева Грасс вспомнил, что в 1950-е годы таких как он – антифашистов-демократов, имевших неосторожность открыто писать о преступлениях нацизма, о «непреодоленном прошлом», призывать соотечественников делать выводы и сознавать свою ответственность, – называли «безродными отщепенцами». А во времена Гитлера таких людей называли «осквернителями собственного гнезда».
В свойственной ему образной и темпераментной манере Грасс предупреждал об опасности слишком быстрого, с его точки зрения, недостаточно подготовленного объединения, хотя понимал, что предостерегать уже поздно. Немцы, столько лет жившие в искусственно разделенных мирах, хотели объединения, и они его добились, воспользовавшись принципиально новой ситуацией в мире, прежде всего в России, и затухавшим противостоянием двух военно-стратегических блоков. «В результате нас будет 80 миллионов». Помните, как в «Головорожденных» Грасс с ужасом и сарказмом представлял себе, что в центре Европы окажется миллиард немцев, как китайцев в Китае? «Мы будем снова едины, сильны, и если даже попытаемся говорить тихо, нас будет слышно повсюду. В результате… нам удастся с помощью проверенной твердой немецкой марки и после признания польской западной границы экономически подчинить себе добрую часть Силезии, кусочек Померании и… снова оказаться пугалом для остальных, да еще в изоляции». «Такую родину, – с горечью говорил Грасс, – я действительно готов предать… Моя родина должна быть многообразнее, пестрее, гостеприимнее к соседям, умнее после понесенного урона и по-европейски терпимее».
Грасс выступал за конфедеративное устройство государства (о чем-то похожем говорили и некоторые другие писатели). Немцы и история распорядились по-другому, и, к нашему всеобщему счастью, Германия укрепляет свою репутацию демократического государства. Но размышления Грасса сохраняют свою значимость, ибо он говорил, по существу, об атмосфере современного мира, о нравственном состоянии общества, о терпимости и гостеприимстве, в том числе по отношению к «чужим».
«Немецкое единое государство меняющихся размеров существовало в общей сложности лишь около семидесяти пяти лет: это был германский рейх под господством Пруссии; находившаяся под угрозой с самого начала Веймарская республика; наконец, вплоть до безоговорочной капитуляции, Великогерманский рейх. Мы должны были бы сознавать, и наши соседи сознают это, какую меру горя это единое государство принесло другим и нам. Обобщенное под понятием “Освенцим” и ничем не смываемое преступление геноцида грузом лежит на этом едином государстве.
Никогда до той поры, за всю свою историю, немцы не имели такой чудовищной репутации. Они были не лучше, но и не хуже других народов. Насыщенная комплексами мания величия привела немцев к тому, что они не использовали возможность реализоваться как культурная нация в федеративном государстве и вместо этого со всей мощью стремились создать свое единое государство как империю. Это стало предпосылкой Освенцима…
Немецкое единое государство помогло национал-социалистической идеологии обрести чудовищно пригодную для нее основу. Мимо этого познания пройти нельзя. Тот, кто сейчас думает о Германии и ищет ответа на немецкий вопрос, должен включить в круг своих размышлений Освенцим. Это место ужаса, как пример сохраняющейся травмы, исключает будущее единое немецкое государство. Если же оно, как следует опасаться, все же будет создано вопреки всему, его ждет крушение…»
Вот такое мрачное предсказание сделал Грасс в начале 1990 года и оказался в данном случае неудачным пророком. Но не прислушаться к его словам нельзя. Говоря о будущем, он не забывал о прошлом. Уроки истории показывают, что государственные и геополитические затеи шарлатанов крупного масштаба, добивающихся власти, умеющих заставить нацию поверить в «великую ложь» и сделать ее послушной, заводят народ в тупик политической катастрофы. Слово «Освенцим», обязанное своим возникновением и всей своей преступной сущностью Гитлеру и нацизму в целом, навсегда оставило мрачное пятно в немецкой истории, избавиться от которого, как видно, невозможно.
Смысл грассовских предостережений очевиден: немцы никогда больше не должны вверять свои судьбы демагогам и политическим шарлатанам, иначе с таким трудом обретенное единство вновь окажется под угрозой. Нельзя не вспомнить, что в свое время граждане Веймарской республики, разочарованные в демократии, бросились на шею авантюристу, поверив его многозначительным и в то же время выхолощенным обещаниям, «простым» лозунгам: дать всем всё и сделать немцев «главной» нацией мира. Это они своими голосами буквально внесли Гитлера в рейхстаг, а уж дальнейшее было делом интриг тех, кому очень хотелось расправиться с демократией. Грасс обращался со своими предостережениями не только к немцам, но и ко всем народам, напоминая об опасности отказа от демократии и веры в пустые посулы.
Тем временем, сделаем снова на этом акцент, единое немецкое государство обрело зрелые демократические основы, соблюдая, как это было заявлено в документах по поводу германского единства, общеевропейские политические, экономические и нравственные ценности. И всё же Грасс не случайно предвидел усиление правого радикализма. Можно понять опасения деятелей культуры, включая Грасса, отразившиеся в прессе тех лет, что новая глобальная реальность создает предпосылки для усиления национализма, прежде всего по отношению к «не своим», «чужакам» и т. д. Ксенофобия стала едва ли не главной проблемой, если говорить не о «парадных» сторонах объединения. Но в последние годы она перестает быть специфически немецкой чертой, особенно если учесть приток мигрантов-мусульман в Европу.
В 2010 году, то есть спустя два десятилетия после воссоединения, всю Германию взбудоражила книга Тило Заррацина под броским названием «Германия самоликвидируется. Как мы ставим на карту нашу страну». Автор, один из видных представителей СДПГ и бывший член совета директоров Бундесбанка, утверждает, что огромное количество мигрантов из мусульманских стран, разрастаясь, не желая встраиваться в нормы и правила немецкого общества, приведет Германию к гибели. Как известно, сходные высказывания делаются и в других европейских странах. Это очень тонкая и хрупкая материя, полемика разгорается нешуточная. Проблема цивилизационных различий грозит захлестнуть все остальные.
В Германии книга Заррацина вызвала восторг одних и возмущение других. Канцлер Ангела Меркель назвала позицию автора «контрпродуктивной». Дискуссия о «мультикультурализме» пошла с удвоенной силой. В итоге сам термин как бы оказался неактуальным. Европа судорожно ищет ответа на этот важнейший вызов эпохи глобализации.
Но когда Гюнтер Грасс выступил со своей «Речью об утрате», шел, напомню, 1992 год. Тогда еще почти не говорили о глобализации и ее вызовах. Грасс имел в виду совершенно конкретные проблемы, связанные с правым радикализмом, которые, он в этом всегда был убежден, Германия себе позволить не может – она уже однажды потерпела крушение из-за разновидности такого правого радикализма – нацизма. Об этом столь подробно говорится здесь, и речь Грасса так важна потому, что иначе невозможно правильно понять и оценить не только его позицию тех лет, но и его потрясающую новеллу «Траектория краба», которой, собственно, посвящена эта глава.
В своей речи Грасс говорил о «ненависти к чужим, которая перерастает в насилие». О том, что «всё больше домов, в которых обитают мигранты, поджигаются»: заграница снова открывает для себя «уродливого немца». Это означает, считал он, что прошлое вновь похлопывает немцев по плечу, выставляя их как преступников или попутчиков и молчаливое большинство. Он считал это «возвратом в немецкое варварство».
Читая «Речь об утрате», мы понимаем, что имел в виду Грасс: «через более чем 40 лет разделения единственным, что еще связывает нас, немцев, является бремя прошлого, полного вины». Высказывания Грасса той поры, как это было почти всегда, вызвали гневные отклики. Его «Короткая речь отщепенца без роду без племени» затронула какой-то важный нерв.
Писателя стали именовать «самозваным пессимистом, мрачным прорицателем нации», «записным врагом немецкого единства», который «превращает Освенцим в инструмент» полемики и политики. Грасс отвечал на подобные обвинения: «Уже незачем предостерегать от скрытого и открытого антисемитизма, а также погромов, жертвами которых становятся цыгане. Освенцим и Освенцим-Биркенау, где были убиты примерно полмиллиона рома и синти, уже отбрасывают свою тень».
Он обвинял в происходящем не только «скинхедов», нарушающих демократический консенсус общества, но и некоторых политиков, которые, отказываясь от «цивилизованного поведения, подталкивают правых радикалов к насилию и убийствам». И Грасс задавался вопросом: почему так происходит, «можем ли мы еще цивилизованно, то есть гуманно обращаться с иностранцами, приезжающими в Германию? Чего не хватает нам, немцам, при всём нашем богатстве?» Но ответом на его вопросы оказывались лишь непонимание, нежелание прислушаться, «ненависть» и «жажда убийства», как они проявились тогда в городах Хойерсверда, Росток и сотнях других.
Грасс вспоминал, как просто было немецким беженцам 1945 года из Восточной Пруссии и других областей почувствовать себя легко и свободно, к примеру, в Дании, но с какой ненавистью их встречали в самой Германии, призывая «убираться туда, откуда пришли». Он вновь возвращался к судьбе Вилли Брандта, который так и «оставался в Германии чужим», только потому, что во времена нацизма эмигрировал из Германии и нашел убежище в Норвегии, а позднее в Швеции. Этого ему простить не могли, даже когда он стал федеральным канцлером.
Грасс вовсе не был склонен всё «мазать черной краской». Он упоминал тот факт, что «на Западе Германии за 40 лет непрерывного демократического обучения был найден беспримерный социальный консенсус». Правда, «экономический гигант по-прежнему оставался политическим карликом», но всё же немцы «терпеливо несли бремя прошлого, немецкий комплекс вины и позорную печать, которая не хотела блекнуть». Оставалась надежда, что «однажды всё это будет окончательно искуплено».
Несомненной правдой является и то, продолжал Грасс, что граждане Федеративной Республики Германия благодаря собственной инициативе «цивилизовались» – «люди обращались друг с другом цивилизованно. Вошло в оборот слово “культура спора”». «Прошлое оставалось темой, обязательной для изучения в школе». Правда, существовали еще старые нацисты, «вечно вчерашние». Но когда в конце 1960-х годов НДП, праворадикальная партия, объединявшая в основном стариков, сумела войти в некоторые земельные парламенты, ей противостояла демократическая левая, которая в открытой и ненасильственной борьбе свела этот правый потенциал к полной утрате какой-либо значимости: исчез призрак, «правый лагерь стал ничем». Во всяком случае, так это выглядело, добавлял Грасс.
Но еще до падения Стены и стремительно осуществившегося объединения видимость того, что наконец Германия, во всяком случае ее западная часть, «очистилась», оказалась обманчивой. И «сразу же с трудом завоеванный социальный консенсус» оказался таким хрупким. И вот уже близкие к государству газеты стали призывать к тому, чтобы «сбросить бремя немецкого прошлого – остававшегося болезненной частью нашего самосознания – и смотреть вперед, только вперед». И даже деятельная вера в конституцию, «самая надежная защита против праворадикальных рецидивов», тоже оказалась не нужна.








