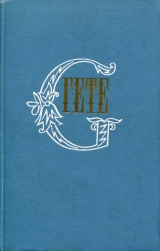
Текст книги "Собрание сочинений в десяти томах. Том седьмой. Годы учения Вильгельма Мейстера"
Автор книги: Иоганн Вольфганг фон Гёте
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 34 (всего у книги 43 страниц)
С такими помыслами, с такими надеждами, сударь мой, ждала вас эта благородная девушка; вы не пришли. Ах, как описать мне эту муку ожидания и упований! Я доселе вижу тебя перед собой, слышу, с какой любовью, с каким обожанием говорила ты о человеке, чью жестокость еще не успела испытать!
– Милая, добрая Барбара, – воскликнул Вильгельм, схвативши старуху за руку. – Довольно притворствовать и подготовлять меня! Невозмутимый, спокойный, самодовольный тон рассказа выдал тебя. Верни мне Мариану! Она жива, она где-то тут, рядом, не зря ты назначила для своего прихода этот поздний укромный час, не зря подготовляла меня своим завлекательным повествованием. Куда ты ее дела? Куда спрятала? Я верю тебе во всем, я обещаю во всем тебе поверить, только покажи мне ее, верни ее в мои объятия. Тень ее уже мелькнула передо мной, так позволь же мне вновь сжать ее в своих объятиях. Я кинусь перед ней на колени, я буду молить о прощении, я буду восхвалять ее борьбу и победу над собой и над тобой, я приведу к ней моего Феликса. Идем же! Где ты ее скрываешь? Перестань томить неизвестностью ее и меня. Твоя цель достигнута! Где ты ее прячешь? Идем, вот свеча! Я хочу осветить, я хочу увидеть ее пленительный лик!
Он насильно поднял старуху со стула, она тупо смотрела на него, слезы неизбывного горя хлынули у нее из глаз.
– Какое несчастное заблуждение напоследок питает ваши надежды! – воскликнула она. – Да, я укрыла ее, только под землей! Ни свету солнца, ни мерцанию свечи больше не дано озарить ее пленительный лик. Поведите милого Феликса на ее могилу и скажите ему: тут лежит твоя мать, которую отец твой осудил, не выслушав. Дорогое сердечко больше не стучит от нетерпения увидеть вас, и не ждет она в соседней горнице, чем кончится мой рассказ или моя сказка; ее приняла темная горница, куда не последует за ней жених, откуда она не выйдет навстречу возлюбленному.
Старуха упала наземь возле стула и горько зарыдала. На сей раз Вильгельм уверился в том, что Мариана умерла, и скорбь овладела им.
Старуха поднялась.
– Больше мне нечего вам сказать! – выкрикнула она и бросила на стол какой-то сверток. – Прочитайте эти листки – вам вдвойне станет стыдно своей жестокости! Не знаю, можно ли читать их без слез.
Она бесшумно выскользнула вон, а у Вильгельма в эту ночь не хватило духу открыть портфельчик, который он сам подарил Мариане и знал, что она бережно хранила там каждую записочку, полученную от него. На другое утро он пересилил себя, развязал ленту, и из портфеля выпали листочки бумаги, исписанные его собственной рукой; они воскресили в его памяти все события прошлого, от первого радостного дня знакомства до последнего страшного дня разлуки. И с жгучей болью прочитал он пачку записок, обращенных к нему. Их отсылал назад Вернер.
«Ни одно из моих писем не попало к тебе. Мои мольбы и заклинанья не достигли тебя; неужто сам ты дал такой жестокий приказ? Неужто я никогда больше тебя не увижу? Попытаюсь еще раз. Молю тебя: приди, о, приди! Я не требую, чтобы ты остался, только бы хоть раз еще прижать тебя к сердцу».
«Когда в прежние дни я сидела возле тебя, держала твои руки, заглядывала тебе в глаза и от всего сердца, полного любви и доверия, говорила: «Милый, милый, добрый мой муж!» – тебе так нравилось слушать это и ты хотел, чтобы я все повторяла эти слова; вот я повторяю их еще раз: «Милый, милый, добрый мой муж, будь таким же добрым, как был, приди и не дай мне погибнуть от горя!»
«Ты считаешь меня виноватой, я и виновата, но не тал, как ты думаешь. Приди, дай мне последнее утешение, что ты знаешь меня, какая я есть, а там будь что будет».
«Не только ради себя, но и ради тебя самого молю я, чтобы ты пришел, я чувствую, какую ты терпишь муку, избегая меня. Приди, чтобы смягчить жестокость расставания! Может быть, больше всего я была достойна тебя как раз в ту минуту, когда ты оттолкнул меня и бросил в бездонную пропасть отчаяния!»
«Во имя всего святого, во имя всего, что может тронуть человеческое сердце, взываю я к тебе! Дело идет о душе и о жизни, о двух жизнях, из которых одна должна быть тебе навеки дорога. В своей подозрительности ты и этому не придашь веры, и все же я говорю тебе в смертный свой час: твое дитя я ношу под сердцем. С тех пор как я тебя полюбила, никто другой даже руку не посмел мне пожать. О, почему твоя любовь, твое прямодушие не были от юности моими спутниками!»
«Ты не хочешь меня выслушать? Что же, придется мне умолкнуть, но эти письма не должны погибнуть; может быть, им еще суждено воззвать к тебе, когда мои уста уже покроет надгробная пелена и голос твоего раскаяния не достигнет моих ушей. За всю мою печальную жизнь вплоть до последней минуты единственным утешением будет мне, что нет у меня вины перед тобой, хоть я и не смею назвать себя невинной».
Вильгельм не мог продолжать – горе захлестнуло его; но еще тягостнее было ему скрывать свои чувства, когда в комнату вошел Лаэрт с кошельком, полным дукатов; он их считал и пересчитывал и уверял Вильгельма, что в мире нет ничего лучше, чем быть на пути к богатству; богатому нет ни в чем помех и препон.
Вильгельм вспомнил свой сон и улыбнулся, но тут же спохватился, с содроганием припомнив, что в том же сновидении Мариана покинула его и последовала за его умершим отцом, а потом оба, точно духи, воспарили над садом.
Лаэрт оторвал его от грустных дум и повел в кофейню, где Вильгельма обступили люди, весьма одобрявшие его как актера; они порадовались встрече с ним, но выразили сожаление, что он, по слухам, намерен покинуть сцену; они так уверенно и разумно говорили о нем, об его игре и даровании, о том, какие надежды возлагали на него, что под конец Вильгельм, расчувствовавшись, воскликнул:
– Как ценно было бы мне ваше участие несколько месяцев тому назад! Как поучительно и как радостно! Ни за что бы я тогда не отрешился так безоговорочно от театра и не дошел бы до того, чтобы разочароваться в публике.
– До этого уж никак нельзя было дойти, – выступая вперед, заявил пожилой мужчина. – Публика многочисленна, подлинное понимание и умение чувствовать встречаются не так редко, как принято думать; только артисту нельзя ждать от публики безоговорочного одобрения всего, что бы он ни создавал, – именно безоговорочное-то недорого стоит, а оговорки господам артистам не по нутру. Я знаю, в жизни, как и в искусстве, прежде чем что-то сделать или создать, надо прислушаться к своему внутреннему голосу; когда же все кончено и завершено, вот тогда следует внимательно выслушать многих и при помощи навыка составить из этих многочисленных голосов полноценное суждение, ибо те, кто мог бы избавить нас от такого труда, предпочитают помалкивать.
– Им не следовало бы так себя вести! – сказал Вильгельм. – Я не раз слышал, как люди сами словом не обмолвятся об удачных произведениях, а при этом скорбят и сетуют, что о них молчат!
– Так поговорим же сегодня всласть! – крикнул какой-то молодой человек. – Если вы с нами отобедаете, мы сквитаем свой долг перед вами, а отчасти и перед милейшей Аврелией.
Вильгельм отклонил приглашение и отправился к мадам Мелина потолковать с ней о детях, которых думал забрать у нее.
Тайна старухи оказалась не в надежных руках. Он не замедлил проговориться, как только увидел красавчика Феликса.
– Дитя мое! Дорогое мое дитя! – воскликнул он, поднял его и прижал к своему сердцу.
– Папа, что ты мне привез? – спросил мальчик. Миньона поглядела на обоих, как бы наказывая им не выдавать себя.
– Что это еще за новость? – удивилась мадам Мелина.
Детей поспешили выдворить, и Вильгельм, не считая себя обязанным блюсти тайну старухи, поведал приятельнице всю историю. Мадам Мелина с улыбкой посмотрела на него.
– Ох, и легковерный же народ мужчины! – воскликнула она. – Как легко навязать им все, что бы ни попалось на их пути; зато в другие разы они не глядят по сторонам и не придают цены ничему, кроме того, что когда-то отметили своей любовной прихотью. – Ей не удалось подавить вздох, и, не будь Вильгельм совершенно слеп, он заметил бы в ее поведении следы так и не изжитой склонности.
Он заговорил с ней о детях, о том, что Феликса думает оставить у себя, а Миньону отправить в деревню. Как ни огорчилась мадам Мелина разлуке сразу с обоими детьми, однако сочла такое решение удачным и даже необходимым. Феликс совсем одичал у нее, а Миньона явно нуждалась в свежем воздухе и других условиях жизни; бедная девочка была слаба здоровьем и никак не могла окрепнуть.
– Не приписывайте легкомыслию мои сомнения в том, действительно ли вы отец ребенка, – продолжала мадам Мелина. – Конечно, старуха не очень-то заслуживает доверия; но кто ради своей выгоды измышляет неправду, тот может разок сказать и правду, коль скоро она покажется ему полезной. Аврелии старуха нашептала, будто Феликс – сын Лотарио, а мы, женщины, отличаемся той особенностью, что горячо привязываемся к детям наших любовников, либо вовсе не зная матери, либо ненавидя ее всей душой.
Тут вприпрыжку вбежал Феликс, и она прижала его к себе с горячностью, ей совсем не свойственной.
Вильгельм поспешил домой и позвал к себе старуху, однако она пообещала прийти только в сумерки; он встретил ее неприветливо и сразу заявил:
– Что может быть постыднее, чем сочинять сказки и враки. Ты уж и прежде натворила этим много зла, а ныне, когда от твоего слова зависит счастье моей жизни, ныне я полон сомнений и не смею заключить в свое объятие дитя, спокойное обладание коим сделало бы меня поистине счастливым. Не могу без ненависти и презрения смотреть на тебя, мерзкая тварь!
– Скажу напрямик, я дольше не в силах терпеть ваше поведение, – ответствовала старуха. – Допустим, он не был бы ваш сын, все равно это самый красивый, самый милый ребенок на свете, и всякий рад бы любой ценой приобрести его. Разве не стоит он того, чтобы вы взяли на себя попечение о нем? А разве я, положив на него столько трудов и забот, не заслужила скромной поддержки на остаток дней? Да, вам, господам, хорошо рассуждать о правде и прямоте, вы бедности не знавали; но горемычной старухе, которая нигде не находит подспорья в самых насущных своих нуждах, которую в трудную минуту никто не поддержит ни участием, ни советом, ни помощью, каково-то ей пробиваться сквозь людскую черствость и бедовать в тиши, – вот о чем много бы можно сказать, только вы не умеете и не желаете слушать. Прочитали вы письма Марианы? Их она писала в ту злосчастную пору. Тщетно пыталась я добраться до нас, напрасно билась, чтобы передать вам эти письма; ваш бесчеловечный зять огородил вас таким заслоном, который я не могла одолеть ни хитростью, ни сметкой, а когда он под конец пригрозил нам с Марианой тюрьмой, мне поневоле пришлось оставить всякую надежду. Разве все это не совпадает с моим рассказом? И разве письмо Норберга не устраняет всякие сомнения?
– Что за письмо? – спросил Вильгельм.
– Неужто вы не нашли его в портфеле?
– Я еще не все прочитал.
– Так дайте мне портфель! Это самый важный документ. Норбергова злополучная записка положила начало роковому недоразумению, пускай же другая, писанная его рукой, распутает узел, пока нить еще не порвана окончательно.
Она достала листок из портфеля, и Вильгельм узнал ненавистную руку, однако овладел собой и прочитал:
«Объясни мне, детка, каким манером ты так околдовала меня. Никогда не думал, чтобы даже богиня ухитрилась обратить меня в томного воздыхателя. А ты нет того, чтобы бросаться навстречу с распростертыми объятиями, ты еще отталкиваешь меня; право же, по твоему поведению может показаться, что я тебе постыл. Где это видано, чтобы мне пришлось провести ночь в каморке на сундуке со старухой Барбарой? А моя милашка была всего лишь за двумя дверьми. Это уж совсем из рук вон, скажу я тебе! Я обещал дать тебе время на размышление, обуздать себя, а теперь взбеситься готов из-за каждой потерянной четверти часа. Чем только я не задаривал тебя! Неужто ты еще сомневаешься в моей любви? Чего тебе хочется? Скажи слово, тебе ни в чем не будет отказу. Чтоб поп, который вбил тебе в голову всю эту чушь, онемел и ослеп на месте! И напала же ты на такого! Когда столько найдется других, имеющих снисхождение к молодежи. Так или иначе, говорю тебе, переменись и дай мне ответ в ближайшие дни – мне ведь нужно скоро опять уехать, и ежели ты не будешь опять мила и покладиста, ты меня больше не увидишь…»
В этом роде было все пространное письмо; к мучительному удовлетворению Вильгельма, оно без конца возвращалось к одному и тому же предмету, свидетельствуя о правдивости старухиного рассказа. Второе письмо ясно подтверждало, что Мариана не уступила и в дальнейшем, а Вильгельм из этих и других писаний с глубокой скорбью узнал всю историю несчастной девушки вплоть до смертного ее часа.
Старуха мало-помалу усмирила того мужлана, сообщив ему о смерти бедняжки и поддержав в нем уверенность, будто Феликс его сын; он несколько раз посылал ей деньги, которые она оставляла себе, навязав Аврелии попечение о ребенке. На беду, эта тайная пожива скоро кончилась. Норберг вел беспутную жизнь и промотал львиную долю своего состояния, а частые любовные связи остудили его чувство к мнимому первенцу.
Хотя все это звучало вполне правдоподобно и до точности сходилось между собой, Вильгельм еще не решался предаться радости, словно страшась взять подарок из рук злого гения.
– Вашу недоверчивость может излечить только время, – сказала старуха, угадав его душевное состояние. – Считайте ребенка чужим и тем пристальнее приглядывайтесь к нему, изучайте его склонности, его характер, его способности, и ежели вы постепенно не будете узнавать самого себя, значит, у вас плохое зрение. Послушайте меня, будь я мужчиной, никому не удалось бы подсунуть мне чужого ребенка; но, к счастью для нас, женщин, у мужчин в таких случаях менее зоркий глаз.
После всех этих толков Вильгельм договорился со старухой, что Феликса он возьмет к себе, а она отвезет Миньону к Терезе, после чего может жить, где заблагорассудится на небольшую пенсию, которую он ей обещал.
Он велел позвать Миньону, чтобы приготовить ее к предстоящей перемене.
– Мейстер! – взмолилась она. – Оставь меня при себе на радость и на горе.
Он убеждал ее, что она уже не маленькая и надо заняться ее дальнейшим образованием.
– Я и так довольно образованна, чтобы жить и горевать, – возразила она.
Он напомнил ей, что она слаба здоровьем и нуждается в постоянной заботе, в наблюдении сведущего врача.
– Зачем заботиться обо мне, когда и без того забот не оберешься, – говорила она.
Сколько он ни бился, стараясь доказать ей, что покамест не может взять ее к себе, что отвезет ее к людям, у которых часто будет видеться с ней, она пропускала мимо ушей все его доводы.
– Ты не хочешь взять меня к себе? – твердила она. – Тогда уж лучше отправь меня к старому арфисту! Бедный старик так одинок!
Вильгельм старался ей втолковать, что старику живется хорошо.
– Я постоянно тоскую по нем, – сказала девочка.
– А пока он жил с нами, я не замечал, что ты так привязана к нему, – возразил Вильгельм.
– Я боялась его, когда он не спал. Мне было страшно видеть его глаза; зато когда он засыпал, я любила садиться около него, отгоняла мух и не могла на него наглядеться. О, он помог мне в страшные минуты! Никто не знает, как я ему обязана. Знай я дорогу, я сейчас же побежала бы к нему.
Вильгельм пространно объяснил ей все обстоятельства, заключив словами: она девочка разумная, значит, и на сей раз послушается его.
– Разум жесток, сердце добрее! – воскликнула она. – Я пойду, куда ты захочешь. Только оставь мне твоего Феликса!
После долгих уговоров и споров она настояла на своем, и Вильгельм в конце концов решился поручить обоих детей старухе и вместе с ней отправить их к фрейлейн Терезе. Так ему самому было легче, ибо он все еще боялся по-отцовски привязаться к прелестному малышу. Он взял его на руки и принялся носить по комнате; мальчику хотелось дотянуться до зеркала, и Вильгельм, подняв его, стал безотчетно искать сходства между собой и мальчиком. На миг ему показалось, что сходство есть, и он крепко прижал ребенка к своей груди, но тут же, испугавшись, что это самообман, поставил его на пол и отпустил побегать.
– Ах, – вздохнул он, – если бы я признал это бесценное сокровище своим, а потом его отняли бы у меня, я был бы самый несчастный человек на свете.
Дети уехали, и Вильгельм вознамерился распроститься с театром по всей форме, почувствовав, что внутренне уже простился с ним и теперь остается только уйти. Марианы не стало, два его ангела-хранителя удалились, и он мыслями стремился им вслед. Прелестный мальчик чарующим смутным видением витал перед его мысленным взором, ему представлялось, как малыш, держась за руку Терезы, бегает по лесам и полям, как развивается телом и духом на вольном воздухе под надзором вольнолюбивой и веселой спутницы.
Он еще больше стал ценить Терезу с тех пор, как воображал себе ребенка в ее обществе. Даже сидя в театре как зритель, он улыбался, вспоминая ее; он почти дошел до ее умонастроения, – спектакль не создавал ему больше ни малейшей иллюзии.
Зерло и Мелина держали себя с ним весьма учтиво с тех пор, как поняли, что он не притязает на свое прежнее место. Часть публики желала увидеть его на сцене; для него это было бы теперь немыслимо, да и среди актеров этого не желал никто, если не считать мадам Мелина.
Прощаясь с этой своей приятельницей, он расчувствовался и сказал:
– Зачем человек дерзает что-то сулить на будущее, а сам и малого осуществить не в силах, не говоря уже о значительных замыслах? Как мне стыдно вспомнить, чего только я не наобещал всем вам в ту злосчастную ночь, когда мы, ограбленные, больные, изобиженные, израненные, теснились в убогом заезжем дворе. Мужество мое удвоилось от несчастья, и я открыл в себе целый клад благих намерений. Но из всего этого ничего, ровно ничего не получилось! Покидая вас, я чувствую себя вашим должником, и счастье мое, что никто не придал большой цены моему обещанию и ни разу не напомнил мне о нем.
– Не возводите на себя напраслины, – возразила мадам Мелина. – Пускай другие не желают признавать, как много вы сделали для нас, – я-то вполне сознаю это. Наше положение было бы совсем иным, если бы вы не оказались с нами. Наши намерения подобны нашим желаниям: стоит их осуществить, стоит им сбыться, как они перестают быть похожи на себя и нам кажется, что мы ничего не сделали, ничего не достигли.
– Своими дружескими уговорами вам не успокоить мою совесть, я знаю, что навеки остаюсь вашим должником, – заявил Вильгельм.
– Пожалуй, это верно, – признала мадам Мелина, – только не в том смысле, как вы полагаете. Мы считаем для себя позором не исполнить обещания, высказанного нашими устами. Друг мой, хороший человек одним своим присутствием обещает слишком много. Он вызывает доверие, он внушает симпатию, он пробуждает надежды, и все эти чувства не имеют предела, а он, сам того не ведая, становится и остается должником. Прощайте! Если наши внешние обстоятельства сложились столь счастливо под вашим руководством, то во внутреннем моем мире разлука с вами оставит пустоту, которую не так легко будет заполнить.
Перед отъездом из города Вильгельм написал пространное послание Вернеру. Правда, они за это время обменялись несколькими письмами, но, не придя к согласию, в конце концов прекратили переписку. Теперь же Вильгельм сделал шаг к сближению – он решился на то, чего так домогался Вернер; он мог сказать: «Я покидаю театр и завожу связи с людьми, чье общество должно во всех смыслах поощрить меня к положительной и благонадежной деятельности». Далее он спрашивал о своем состоянии и сам теперь удивлялся, что столько времени даже не думал о нем. Он не знал, что людям, сугубо озабоченным внутренним своим развитием, свойственно неглижировать внешними делами. В таком именно положении был Вильгельм; ему, как видно, впервые пришло в голову, что для солидной деятельности не обойтись без обеспечения извне. Он уезжал совсем с иными помыслами, чем в первый раз; перед ним открывались заманчивые виды на будущее, и он надеялся встретить немало радостного на своем пути.
ГЛАВА ДЕВЯТАЯВоротясь в имение Лотарио, он застал там большие перемены. Ярно встретил его известием, что скончался дядюшка и Лотарио поехал вступать во владение отказанными ему поместьями.
– Вы приехали очень кстати, чтобы помочь нам с аббатом, – заявил он. – Лотарио поручил нам сторговать обширные угодья по соседству от нас; дело было затеяно уже давно, а теперь мы как раз вовремя получили деньги и кредит. Нас смущало только, что один посторонний торговый дом тоже имел виды на эти угодья; и вот мы решились, не долго думая, войти с ним в соглашение, вместо того чтобы без нужды и смысла вздувать цену. По всей видимости, мы имеем дело с умным человеком. Сейчас мы заняты сметами и подсчетами; кроме того, надо еще определить с точки зрения финансовой, как делить земли, чтобы каждому досталась выгодная часть.
Перед Вильгельмом разложили планы, затем обозрели поля, строения, луга, и, хотя Ярно и аббат, очевидно, разбирались во всем, Вильгельм предложил привлечь к делу еще и фрейлейн Терезу.
Они провозились с этой работой несколько дней, и Вильгельм едва выкроил время рассказать приятелям о своих приключениях и о своем спорном отцовстве, но те крайне равнодушно и легкомысленно отнеслись к столь важному для него вопросу.
Он не раз замечал, что во время дружеской беседы то ли за столом, то ли на прогулке они вдруг умолкали, давали своим речам другой оборот и тем самым прежде всего показывали, что их между собой связывает многое такое, чего он не должен знать. Он припомнил слова Лидии и придал им тем больше веры, что целое крыло замка оставалось для него недоступным. Он тщетно искал пути и доступа к ряду галерей и особенно к старой башне, которую досконально изучил снаружи.
Однажды вечером Ярно сказал ему:
– Отныне мы с уверенностью можем считать вас своим, а посему несправедливо было бы не посвятить вас глубже в наши тайны. Человеку, едва вступающему в жизнь, хорошо быть о себе высокого мнения, рассчитывать на приобретение всяческих благ и полагать, что его стремлениям нет преград; но, достигнув определенной степени развития, он много выиграет, если научится растворяться в толпе, если научится жить для других и забывать себя, трудясь над тем, что сознает своим долгом. Лишь тут ему дано познать себя самого, ибо только в действии можем мы по-настоящему сравнивать себя с другими. Скоро вам станет известно, что целый мир в миниатюре находится по соседству с вами и что вас хорошо знают в этом малом мире; завтра на рассвете будьте одеты и готовы.
Ярно пришел в назначенный час и повел Вильгельма знакомыми и незнакомыми покоями замка, а потом несколькими галереями, пока они не достигли огромной старинной двери, накрепко обитой железом. Ярно постучался, дверь приотворилась ровно настолько, чтобы мог протиснуться один человек. Ярно втолкнул Вильгельма, а сам за ним не последовал. Вильгельм очутился в темном и тесном помещении; кругом царил мрак, а сделав шаг вперед, он снова натолкнулся на препятствие. Голос, как будто ему знакомый, крикнул: «Войди!» – и тут только он заметил, что пространство, где он находится, по сторонам завешено коврами, а сквозь них пробивается слабый свет. «Войди!» – повторил голос; он приподнял ковер и вошел.
Зала, в которой он оказался, по всему видимому, раньше была капеллой; вместо алтаря на возвышении в несколько ступеней помещался огромный стол, покрытый зеленым ковром, задернутый занавес позади стола, очевидно, закрывал какую-то картину, а по бокам стояли шкафы искусной резной работы с решетками из тонкой проволоки, как бывает в библиотеках, только вместо книг он увидел множество свитков. Зала была безлюдна; восходящее солнце приветливо сияло сквозь цветные стекла окон навстречу Вильгельму.
– Садись! – приказал голос, как будто исходивший из-за алтаря.
Вильгельм сел в тесное креслице у самого входа: другого седалища в зале не было, и ему пришлось удовольствоваться этим. Хотя утреннее солнце и слепило его, кресло нельзя было сдвинуть с места, так что оставалось лишь прикрыть глаза рукой.
Но вот с легким шорохом раздвинулся занавес над алтарем, и внутри пустой рамы обнаружилось темное отверстие.
Из него выступил мужчина в обычной одежде и, поклонившись Вильгельму, обратился к нему:
– Конечно, вы узнаете меня? Конечно, помимо всего прочего, вы желали бы узнать, где находится теперь художественная коллекция вашего деда? Припоминаете вы картину, так пленившую вас? Где же изнывает в тоске больной царский сын?
Вильгельм без труда узнал незнакомца, который в ту достопамятную ночь беседовал с ним в гостинице.
– Быть может, на сей раз нам легче будет столковаться касательно судьбы и натуры?
Вильгельм не успел ответить, как занавес вновь поспешно задвинулся.
«Удивительное дело, – подумал он, – неужто между случайными событиями существует взаимная связь? И то, что мы именуем судьбой, – всего лишь случайность? Где может находиться дедушкина коллекция? И почему в эти торжественные минуты надо напомнить мне о ней?»
Мысли его были прерваны, потому что занавес раздвинулся снова и глазам его предстал человек, в котором он сразу же узнал сельского священника, совершившего прогулку по реке с ним и с его веселой компанией. Он напоминал аббата, но как будто и не был одним с ним лицом. С достойным видом и с улыбкой на устах тот повел такую речь:
– Воспитателю людей должно не ограждать от заблуждений, а направлять заблуждающегося и даже попускать его полной чашей пить свои заблуждения – вот в чем мудрость наставника. Кто лишь отведал заблуждения, тот долго будет привержен ему, будет ему рад, как редкостному счастью, кто же до конца испил чашу, тот неминуемо поймет, что заблуждался, ежели только он в своем уме.
Занавес задвинулся снова, и у Вильгельма было время поразмыслить.
«О каком заблуждении говорил этот человек, – думал он, – как не о том, что всю жизнь преследовало меня, ибо я искал образования там, где его не найдешь; я воображал, что могу развить в себе талант, к которому у меня не было ни малейших задатков!»
Занавес раздвинулся теперь стремительно, в раме показался офицер и проронил как бы мимоходом:
– Научитесь узнавать людей, достойных доверия!
Занавес сомкнулся, и Вильгельму не пришлось ломать голову, дабы признать того самого офицера, что обнимал его в графском парке и по чьей вине Вильгельм заподозрил в Ярно вербовщика. Но каким образом тот попал сюда и кто он такой, – осталось для Вильгельма полнейшей загадкой.
«Ежели столько людей принимали в тебе участие, наблюдали твой жизненный путь и знали, что бы следовало тебе делать, почему они не направляли тебя строже, решительнее? Почему потворствовали твоим забавам, а не отвлекали тебя от них?»
– Не обвиняй нас, – раздался голос. – Ты спасен, ты на пути к цели. Ни в одной своей глупости ты не раскаешься и ни одну не захочешь повторить, – лучший удел не может выпасть человеку.
Занавес разверзся, и во всех своих доспехах в раме явился старый король Датский.
– Я дух твоего отца, – промолвил образ на портрете, – и удаляюсь утешенный, ибо упования мои исполнились для тебя в большей мере, чем дано было мне постичь их. На кручи взбираются лишь обходными тропами, а на равнине от одного места к другому ведут прямые пути. Прощай и вспоминай меня, когда будешь вкушать то, что я тебе уготовал.
Вильгельм был потрясен, ему слышался голос отца, но это был тот и не тот голос; смешение действительности и воспоминания привело его в полнейшее замешательство.
Не успел он опомниться, как появился аббат и встал за зеленым столом.
– Подойдите сюда! – позвал он изумленного друга.
Вильгельм подошел и поднялся по ступеням. На столе лежал небольшой свиток.
– Вот предназначенное вам Наставление, – заявил аббат. – Проникнитесь им, оно содержит мысли первостепенной важности.
Вильгельм взял свиток, развернул его и прочел:
НАСТАВЛЕНИЕ.
Искусство вечно, жизнь коротка, суждение трудно, случай быстротечен. Действовать легко, мыслить трудно, претворять мысль в действие – нелегко. Всякое начало радостно, порог – место ожидания. Мальчик дивится, впечатление руководит им, он учится, играя, суровая правда его пугает. Подражание присуще нам от рождения, но трудно распознать, что достойно подражания. Редко открываем мы прекрасное, еще реже умеем его оценить. Нас манит высота, но не ступени к ней; обратя взор на вершину, мы предпочитаем идти равниной. Преподать художество можно лишь отчасти; художнику оно нужно целиком. Кто научился ему вполовину, постоянно ошибается и много говорит; кто овладел им полностью, тот занят делом, а говорит редко или погодя. У тех нет тайн и нет силы, учение их – точно испеченный хлеб, вкусный и сытный на один день; но муку нельзя сеять, а семена незачем молоть, слова хороши, но они не самое лучшее. Лучшее в словах не выразить. Превыше всего дух, что вдохновляет нас к действию. Действие постигается лишь духом и воспроизводится им. Никто не знает, что делает, поступая как должно. Но недолжное мы всегда сознаем. Кто орудует только знаками, тот педант, ханжа или тупица. Таких великое множество, и вместе им раздолье. Их болтовня отталкивает ученика, а упрямая их посредственность запугивает самых лучших. Учение настоящего творца служит к вразумлению, ибо где недостает слов, там за себя говорит дело. Настоящий ученик научается извлекать неизвестное из известного и тем приближается к мастеру.
– Довольно! – крикнул аббат. – Остальное в свое время. А теперь поройтесь по шкафам.
Вильгельм подошел и стал читать надписи на свитках. К своему удивлению, он обнаружил стоявшие в ряд свитки, содержащие годы учения Ярно, а также Лотарио, его самого и еще многих других, чьи имена были ему неизвестны.
– Могу я надеяться, что мне дозволено будет развернуть эти свитки?
– Отныне здесь, в зале, для вас нет ничего запретного.
– Могу я задать один вопрос?
– Разумеется. И вы вправе рассчитывать на исчерпывающий ответ, если дело идет о чем-то, что близко вашему сердцу и должно быть ему близко.
– Так вот! Вы, загадочные и мудрые люди, проникающие взором во многие тайны, можете вы сказать мне, правда ли, что Феликс мой сын?
– Хвала вам за этот вопрос! – вскричал аббат и от радости захлопал в ладоши. – Да, Феликс ваш сын. Клянусь самым священным, что таим мы между собой, Феликс – ваш сын! И его усопшая мать помыслами своими не была недостойна вас. Примите же это милое дитя из наших рук, оглянитесь и позвольте себе быть счастливым!








