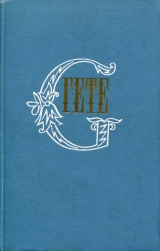
Текст книги "Собрание сочинений в десяти томах. Том седьмой. Годы учения Вильгельма Мейстера"
Автор книги: Иоганн Вольфганг фон Гёте
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 14 (всего у книги 43 страниц)
Баронесса меж тем целые дни проводила, мучась тревогой и неутоленным любопытством. Дело в том, что поведение графа после вышеописанного происшествия было для нее совершенно непостижимо. Он полностью изменил обычным своим повадкам; шуток его как не бывало. Требования к актерам и к слугам стали заметно скромнее. Куда девался его придирчивый, повелительный тон? Он как-то притих и замкнулся в себе, но при этом старался быть веселым и вообще словно переродился. Для чтений вслух, которые иногда устраивались по его желанию, он выбирал серьезные, зачастую религиозные труды; и баронесса жила в постоянном страхе, что за его внешним спокойствием прячется затаенный гнев, скрытое намерение покарать проступок, случайно им открытый. Посему она решилась довериться Ярно, тем более что была с ним в таких отношениях, когда обычно у людей нет между собой тайн. С недавних пор Ярно стал ее интимным другом; однако у них хватило ума держать в тайне от окружающего их шумного света свое увлечение и свои услады. Лишь от глаз графини не ускользнула эта новая интрижка, и можно предположить, что баронесса старалась на такой же манер занять подругу, дабы избегнуть кротких укоров, которыми эта благородная душа нередко донимала ее.
Не успела баронесса рассказать всю историю своему другу, как он, расхохотавшись, вскричал:
– Конечно же, старик уверен, что видел самого себя! Он испугался, что видение предрекало ему беду и даже, чего доброго, смерть; вот он и присмирел, как все получеловеки, когда подумают о развязке, от которой никто не ушел и не уйдет. Но об этом молчок! Надеюсь, он проживет еще долго, а потому лучше воспользуемся случаем и постараемся так перевоспитать его, чтобы он больше не был в тягость ни жене, ни домочадцам.
Отныне они, улучив всякую удобную минуту, норовили в присутствии графа навести разговор на предчувствия, видения и тому подобное. Ярно разыгрывал из себя скептика, его приятельница вторила ему, и оба довели дело до того, что граф под конец отвел Ярно в сторону, поставил ему на вид вольнодумство и на собственном своем примере постарался убедить его в том, что такие явления могут быть и бывают на самом деле. Ярно изобразил изумление, сомнения, а под конец признал себя убежденным; зато позднее, под сенью ночи, всласть посмеялся со своей подругой над малодушием светского человека, который в один миг с перепугу укротил свой вздорный нрав и заслуживает похвалы лишь за то, что с таким присутствием духа дожидается надвигающейся беды или, чего доброго, смерти.
– К возможным естественным последствиям этого явления он никак не был готов! – воскликнула баронесса с обычной игривостью, к которой переходила, едва с души у нее снимали тревогу. Ярно был щедро награжден, и оба стали строить новые планы, как укротить графа и еще более разжечь и упрочить увлечение графини Вильгельмом.
В этих целях вся история была рассказана графине, которая сперва даже разгневалась, однако с той поры стала задумчивее и в спокойные минуты, казалось, обдумывала, переживала, воображала себе подстроенную для нее сцену.
Происходившие повсеместно приготовления решительно подтверждали слух, что войска скоро двинутся дальше и принц тоже перенесет свою главную квартиру; говорили еще, что одновременно и граф покинет свое поместье и возвратится в город. Нашим актерам нетрудно было представить себе свою дальнейшую участь; но один лишь Мелина принял в связи с этим меры на будущее, остальные же старались урвать от настоящего как можно больше удовольствий.
Тем временем Вильгельм был поглощен занятием особого рода. Графиня потребовала, чтобы он переписал для нее все свои пьесы, и это желание любезной дамы было им сочтено за наилучшую награду.
Молодой, ни разу не печатавшийся сочинитель прилагает в таком случае величайшее тщание, чтобы как можно опрятнее и красивее переписать свои произведения. Это как бы золотой век сочинительства: поэту кажется, будто он перенесен в те времена, когда печать еще не наводняла мир уймой никчемных опусов и лишь ценные творения ума удостаивались быть списанными и сохраненными благороднейшими людьми, а посему нетрудно впасть в ошибку, сделав вывод, что всякая аккуратно нацарапанная рукопись – тоже достойное творение ума, которое знатоку и меценату должно приобрести и выставить напоказ.
В честь принца, которому вскорости предстояло отбыть, был дан парадный обед. Приглашение получили многие из дам, обитавших по соседству, и графиня оделась заблаговременно. Для этого дня она выбрала более богатый наряд, чем обычно, прическа и убор были изысканнее, все ее драгоценности блистали на ней. Баронесса тоже приложила много старания, чтобы одеться попышнее и поизящнее.
Филина заметила, что обеим дамам скучно дожидаться гостей, и предложила позвать Вильгельма, которому не терпелось вручить готовый манускрипт и в дополнение почитать кое-какие мелкие вещицы. Он вошел и застыл на пороге, пораженный осанкой и грацией графини, подчеркнутыми роскошью наряда. По приказанию дам он начал читать, и читал так рассеянно и плохо, что дамы сразу отпустили бы его, не будь они так деликатны.
При каждом взгляде на графиню перед глазами его словно вспыхивала электрическая искра; под конец ему невмоготу стало декламировать, так у него захватило дыхание. Прекрасная графиня всегда нравилась ему, но сейчас ему казалось, что никогда он не видел ничего столь совершенного, и вот к чему примерно сводились те тысячи мыслей, которые переплетались в его уме:
«До чего же нелепо возмущение многих поэтов и так называемых тонко чувствующих людей богатством и блеском наряда и желание их видеть женщин любых сословий в простой, гармонирующей с природой одежде. Они ополчаются против нарядов, но того не понимают, что злосчастный наряд тут ни при чем, что нам противен вид уродливой или не очень красивой особы, богато и претенциозно одетой; хотел бы я созвать сюда всех знатоков мира и спросить у них, что им хотелось бы убрать вот из этих складок, из этих лент и кружев, из этих буфов, локонов и сверкающих каменьев? Не побоялись бы они нарушить приятность зрелища, предстающего им таким непринужденным и естественным? Да, именно естественным! Если Минерва в полном вооружении появилась из головы Юпитера, то нам кажется, что эта вот богиня во всем блеске своего наряда легкой поступью вышла из цветка».
Во время чтения он то и дело поднимал на нее взгляд, будто хотел запечатлеть ее облик навеки, несколько раз сбивался, но даже не думал смущаться, хотя обычно мог прийти в отчаяние от обмолвки в одном слове, одной букве, как От позорного провала.
Шум, ошибочно отнесенный к прибытию гостей, положил конец его чтению; баронесса ушла, а графиня, собираясь захлопнуть крышку секретера, взяла шкатулочку с перстнями и нанизала на пальцы еще несколько перстней.
– Мы скоро расстанемся, – вымолвила она, не отрывая глаз от шкатулки. – Примите это на память о доброй приятельнице, которая от души желает вам всякого благополучия.
Сказав это, она достала перстень, где в осыпи из драгоценных камней под хрусталем был помещен щит, красиво сплетенный из волос. Она протянула его Вильгельму, который стоял как вкопанный, принимая подарок, и не знал, что сказать, что сделать. Графиня замкнула секретер и села на софу.
– А я уйду ни с чем, – произнесла Филина, став на колени по правую руку графини. – Взгляните-ка на этого молодчика, который болтлив не в пору, а сейчас ни единым словечком поблагодарить не может. Живее, сударь, хотя бы мимикой постарайтесь отдать долг признательности, а если вы нынче не в силах что-нибудь придумать, так последуйте, по крайности, моему примеру!
Филина схватила правую руку графини и горячо облобызала ее. Вильгельм упал на колени, завладел левой рукой и поднес ее к губам. Графиня как будто смутилась, по неудовольствия не выразила.
– Ах! – вскричала Филина. – Столько украшений мне, конечно, случалось видеть, но ни разу не видела я дамы, в такой мере достойной их носить. Какие браслеты! Но и какая же рука! Какое ожерелье! Но и какая же грудь!
– Замолчи, льстица! – прикрикнула графиня.
– Это изображает его сиятельство графа? – спросила Филина, указывая на богатый медальон, драгоценной цепочкой прикрепленный слева к груди графини.
– Он написан здесь женихом, – пояснила графиня.
– Неужто он был тогда так молод? – удивилась Филина. – Насколько я знаю, вы состоите в супружестве всего несколько лет.
– Молодость надо отнести за счет живописца, – заявила графиня.
– Красивый мужчина, – признала Филина, – но может ли статься, чтобы в этот заповедный ларчик ни разу не проник другой образ? – заключила она, кладя руку на сердце графини.
– Ты не в меру дерзка, Филина, – вскричала та, – я разбаловала тебя, но чтобы в другой раз я этого не слыхала.
– Горе мне – я вас прогневила! – С этим возгласом Филина вскочила и бросилась прочь из комнаты.
Вильгельм все еще не отпускал прелестнейшей руки.
Глаза его были прикованы к фермуару браслета, где, к величайшему его изумлению, из бриллиантов были выложены начальные буквы его имени.
– Неужели, получив этот бесценный перстень, я в самом деле стал обладателем ваших волос? – смиренно спросил он.
– Да, – приглушенным голосом ответила она; затем, овладев собой, пожала ему руку и сказала: – Встаньте и прощайте.
– Здесь стоит мое имя, – воскликнул он, показывая на фермуар. – Какое удивительное совпадение!
– Что вы? Это вензель моей подруги.
– Это начальные буквы моего имени. Не забывайте же меня. Ваш образ неизгладимо запечатлен в моем сердце. Прощайте, позвольте мне бежать от вас.
Он поцеловал ее руку и хотел встать. Но как во сне нас ошеломляет одно событие необычайнее другого, так графиня вдруг очутилась в его объятиях, ее губы прижались к его губам, и жгучие поцелуи вселили в обоих такое блаженство, какое способны дарить лишь первые глотки со свежевспененного кубка любви.
Голова ее покоилась на его плече, о смятых локонах и бантах никто и не помышлял. Она обвила его рукой; он обнял ее и пылко прижал к своей груди. О, почему такое мгновение не может длиться вечно! Горе завистливой судьбе, поспешившей отнять эти краткие мгновения также и у наших друзей!
Как испугался Вильгельм, в каком смятении очнулся от блаженного забытья, когда графиня, вскрикнув, вырвалась из его объятий и схватилась рукой за сердце. В смятении стоял он перед ней. Она поднесла вторую руку к глазам и после паузы произнесла:
– Уйдите, не медлите!
Он не двигался с места.
– Оставьте меня! – повторила она, отняла руку от глаз и, посмотрев на него неизъяснимым взглядом, добавила исполненным нежности голосом: – Бегите от меня, если вы меня любите!
Вильгельм бросился прочь и очутился у себя в комнате, не сознавая, где находится.
Несчастные! Кто же, случай или провидение, таинственным образом предостерег их и оторвал друг от друга?
КНИГА ЧЕТВЕРТАЯ

Лаэрт в задумчивости стоял у окна, опершись на руку и глядя на окрестные поля. Филина прокралась к другу через всю большую залу, прислонилась к нему и принялась подшучивать над его сосредоточенной миной.
– Нечего смеяться, – оборвал он, – страшно подумать, как летит время, как все меняется, всему приходит конец. Взгляни, вот здесь недавно был раскинут великолепный лагерь! Как весело глядели палатки! Какое оживление царило в них! Как тщательно охранялся весь округ! И вдруг все разом исчезло. Недолго сохранятся последние следы – затоптанная солома, ямы от котлов, а там все перепашут, и память о пребывании в здешних краях многих тысяч бравых молодцов застрянет лишь в памяти нескольких старческих голов.
Филина запела и потянула друга потанцевать по зале.
– Раз время прошло, догнать его мы не можем, – заявила она, – так давай же, пока оно еще весело идет мимо нас, красиво почествуем его, как прекрасное божество.
Не успели они сделать несколько туров, как по зале прошла мадам Мелина. У Филины достало злорадства пригласить ее тоже на танец и тем самым напомнить, как обезображена ее фигура беременностью.
– Хоть бы мне никогда не видать женщины на сносях, – сказала Филина ей вдогонку.
– А все-таки она рада своей ноше, – возразил Лаэрт.
– Но это ее ужасно уродует. Заметил ты, как подхвачена спереди юбка, как передние сборки торчат и выдаются при каждом шаге? У нее нет ни вкуса, ни способности взглянуть на себя со стороны и хоть чуточку скрыть свое положение.
– Оставь! – сказал Лаэрт. – Время само придет ей на помощь.
– А насколько было бы красивей, если бы детей стряхивали с деревьев, – заключила Филина.
Вошел барон и передал им несколько приветливых слов от графа и графини, уехавших рано утром, и наделил их небольшими подарками. После этого он отправился к Вильгельму, который занимался с Миньоной в соседней комнате. Девочка была очень ласкова, заботливо расспрашивала Вильгельма о его родителях, братьях, сестрах и родственниках и тем самым напомнила ему, что он обязан подать о себе весть своим близким.
Наряду с прощальным приветом от их сиятельств барон принес ему заверения, что граф остался весьма доволен им, его игрой, его поэтическими опусами и трудами по части театра. Дабы подкрепить такое расположение, он достал кошелек, сквозь красивое плетение которого соблазнительно сверкали новенькие золотые; Вильгельм отшатнулся, отказываясь принять его. Барон настаивал.
– Считайте этот дар возмещением потраченного вами времени, признательностью за ваши старания, но отнюдь не наградой вашему таланту. Если им мы приобретаем доброе имя и расположение людей, то вполне справедливо, чтобы прилежанием и усердием мы добывали средства удовлетворять свои потребности, ибо мы ведь не бесплотные духи. Находись мы в городе, где все можно достать, эта небольшая сумма была бы превращена в часы, в перстень или тому подобное, а сейчас я передаю волшебную палочку непосредственно вам в руки; добудьте себе с ее помощью сокровище, которое вам понадобится или приглянется, и храните его на память о нас. К кошельку относитесь бережно. Дамы собственноручно связали его, желая через вместилище сделать содержимое как можно привлекательнее.
– Простите мне смущение и колебание принять подарок, – отвечал Вильгельм. – Он как будто обесценивает то малое, что я сделал, и мешает мне свободно предаться счастливым воспоминаниям. Деньги – превосходный способ на чем-нибудь поставить точку, а я вовсе не хочу, чтобы на мне окончательно поставили точку в вашем доме.
– Для данного случая это не подходит, – возразил барон, – вы сами, как человек деликатный, не станете требовать, чтобы граф считал себя кругом у вас в долгу; ведь он из тех людей, которые величайшую свою гордость полагают в том, чтобы быть внимательным и справедливым. Для него не осталось тайной, сколько вы положили трудов, сколько времени посвятили его планам, мало того, он знает, что для ускорения кое-каких работ вы не жалели собственных денег. Как же мне показаться ему на глаза, если я не могу его заверить, что его признательность была вам приятна.
– Если бы я мог думать только о себе и следовать лишь собственным побуждениям, я бы, невзирая на все доводы, наотрез отказался принять этот дар, сколь он ни прекрасен и ни почетен, – ответил Вильгельм, – но не стану таиться: испытывая от него неловкость, я через него избавлюсь от неловкости по отношению к моим близким, которая втайне меня сокрушала. Мне должно отдать отчет и в деньгах, и во времени, которыми распорядился я не слишком похвально; теперь же великодушие его сиятельства позволит мне спокойно сообщить близким, какое богатство я приобрел столь неожиданным окольным путем. Во имя высшего долга я жертвую щепетильностью, подобно чуткой совести, предостерегающей нас в таких случаях, и ради того, чтобы смело предстать перед отцом, стою пристыженный перед вами.
– Удивительное дело, – заметил барон, – почему люди так стесняются брать деньги от друзей и покровителей, меж тем как всякий другой дар принимают от них с радостью и благодарностью! Человеческой натуре свойственно создавать и ревностно поддерживать в себе подобные предубеждения.
– Но разве это не относится ко всем вопросам чести?
– Ну да, и ко всем прочим предрассудкам, – подтвердил барон. – А мы боимся их искоренять, чтобы заодно не вырвать и ценные побеги. Но я всегда радуюсь, когда мне встречаются отдельные личности, сознающие, чем можно и должно пренебречь, и с удовольствием вспоминаю анекдот про остроумного писателя, который сочинил для придворного театра несколько пьес, коими снискал полное одобрение монарха. «Я желаю отменно наградить его, – заявил щедрый государь, – надо узнать, доставит ли ему удовольствие ценная вещь или он не побрезгует принять деньги». Отряженному для этого царедворцу писатель ответил на привычный ему шутливый лад: «Сердечно благодарю за высочайшую милость, но pa? государь ежедневно взимает с нас деньги, не вижу, почему мне должно быть зазорно взять деньги у него».
Как только барон вышел из комнаты, Вильгельм живо стал пересчитывать капитал, доставшийся ему так неожиданно и, по его мнению, незаслуженно. Казалось, что стоимость и ценность золота, которую мы постигаем лишь в позднейшие годы, впервые смутной догадкой блеснула перед ним, когда красивые сверкающие монеты выкатились из нарядного кошелька. Произведя подсчет и приняв во внимание, что Мелина обещал тут же уплатить долг, он обнаружил, что в наличности у него оказалось столько же и даже больше, чем в тот день, когда по милости Филины он потратился на первый букет. С тайным удовлетворением думал он о своем даровании и с тихой гордостью об удаче, что напутствовала его и сопутствовала ему. Уверенно взялся он за перо, дабы сочинить письмо, которым сразу выведет всю семью из затруднения и в наилучшем свете выставит свой образ действий. Он избегал вдаваться в подробности и многозначительными туманными намеками предоставлял догадываться о своих приключениях.
Благополучное состояние его казны, достаток, которым он обязан был своему таланту, расположение сильных мира сего, успех у женщин, обширный круг знакомства, развитие телесных и духовных задатков, надежды на будущее – все вместе рисовало перед ним такой ослепительный воздушный замок, фантастичнее которого не могла бы соорудить сама фата-моргана.
В таком счастливом возбуждении продолжал он, запечатав письмо, вести долгий монолог, в котором повторял содержание написанного и сулил себе деятельное и достойное будущее. Пример столь многих благородных воителей воодушевил его, творения Шекспира открыли ему новый мир, а с губ красавицы графини он выпил неизъяснимый пламень. Все это не могло и не должно было остаться бесплодным.
Явился шталмейстер и спросил, сложены ли у них вещи. К несчастью, никто, кроме Мелины, еще об этом не подумал. А теперь надо было спешно уезжать. Граф обещал предоставить труппе средства перевозки на несколько дней пути; сейчас лошади были уже заложены, и долго задерживать их не следовало. Вильгельм потребовал свой сундук, – его присвоила мадам Мелина; он спросил свои деньги, – господин Мелина запрятал их на самое дно сундука.
– В моем сундуке найдется свободное место, – заявила Филина, взяла одежду Вильгельма и велела Миньоне принести остальное. Вильгельму пришлось поневоле согласиться.
Пока все собирали и складывали, Мелина сказал:
– Противно думать, что мы путешествуем, как ярмарочные фокусники и канатные плясуны; мне хотелось бы, чтобы Миньона надела женское платье и чтобы арфист сейчас же остриг бороду.
Миньона прижалась к Вильгельму и с горячностью заявила:
– Я мальчик! Не желаю я быть девочкой.
Старик молчал, а Филина отпустила несколько ехидных замечаний по поводу причуды графа, своего благодетеля.
– Если арфист обстрижет бороду, – говорила она, – пускай нашьет ее на ленту и хранит очень бережно, чтобы, встретясь где-нибудь на белом свете с графом, он мог опять ее надеть, – только бородой он и заслужил милость его сиятельства.
Когда все приступили к ней, требуя объяснить это странное утверждение, вот что она заявила:
– Граф полагает, что сохранению иллюзии очень способствует старание актера сохранять и в обыденной жизни характерные черты своей роли; поэтому-то он и был благосклонен к педанту и находил, что арфист умно делает, нося привязную бороду не только вечером, на театре, но и днем не снимает ее, и очень радовался натуральности этого маскарада.
Пока все остальные потешались над заблуждением графа и над его странными понятиями, арфист отвел Вильгельма в сторону, стал прощаться и слезно просить, чтобы тот немедля отпустил его. Вильгельм всячески увещевал старика, обещая оградить его от кого угодно, уверяя, что никому не позволит не то что обстричь, но даже тронуть на нем хоть волосок.
Старик был в сильном волнении, глаза его горели странным огнем.
– Не это гонит меня прочь! – вырвалось у него. – Уже давно корю я себя за то, что не оставляю вас. Нигде не следовало мне задерживаться, ибо злосчастье настигает меня и причиняет вред тем, кто водится со мной. Страшитесь любых бед, если не отпустите меня. Только не задавайте мне вопросов, я не властен над собой и не могу остаться.
– Кто же имеет над тобой такую власть?
– Господин мой, оставьте мне мою ужасную тайну и освободите меня. Не земной судья обрек меня мщению; надо мной властвует неумолимый рок. Я не могу, я не смею остаться!
– В таком состоянии, как сейчас, я, конечно, не отпущу тебя.
– Промедление будет предательством против вас, моего благодетеля. Мне ничего не грозит возле вас, зато опасность грозит вам. Вы не знаете, кого пригрели близ себя; я виновен, но несчастье мое больше вины. Мое присутствие отпугивает удачу, и куда приближусь я, там доброе дело теряет свою силу. Вечно блуждать и скитаться обречен я, дабы не настиг меня мой злой гений, который непоспешно следует за мной и показывает свою власть, стоит мне лишь только приклонить голову, чтобы отдохнуть. Всего благодарнее покажу я себя тем, что покину вас.
– Странный ты человек! Доверие к тебе ты так же бессилен отнять у меня, как и надежду увидеть тебя счастливым. Я не хочу вторгаться в тайну твоего суеверия; но коль скоро живешь ты в предчувствии удивительных совпадений и предначертаний, так я скажу, дабы утешить и ободрить тебя: присоединись к моему счастью, и мы увидим, чей гений возьмет верх, твой ли черный, мой ли светлый!
Вильгельм не упустил возможности еще многое добавить ему в утешение, ибо с некоторых пор угадывал в странном своем спутнике человека, по воле случая и рока взвалившего на себя тяжкую вину и ныне влачащего за собой память о ней. Недаром за несколько дней до того Вильгельм подслушал его песню и приметил в ней следующие строки:
Что бы ни говорил старец, Вильгельм всякий раз выдвигал довод более веский, умел все обернуть и показать лучшей стороной, умел найти такие добрые, душевные и утешительные слова, что старик как будто приободрился и отбросил свои мрачные помыслы.








