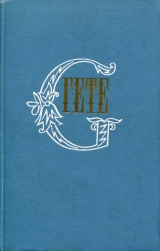
Текст книги "Собрание сочинений в десяти томах. Том седьмой. Годы учения Вильгельма Мейстера"
Автор книги: Иоганн Вольфганг фон Гёте
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 20 (всего у книги 43 страниц)
Она лежала на софе и с виду была спокойна.
– Вы надеетесь, что будете в силах играть завтра? – спросил он.
– Конечно, – живо подхватила она. – Вы ведь знаете, тут мне ничто помешать не может. Только бы я нашла способ отвести от себя одобрение партера; намерения у них самые лучшие, но они еще доконают меня этим! Третьего дня я думала, сердце у меня разорвется! Обычно я ничего не имела против, если сама нравилась себе; когда я долго готовилась и учила роль, мне было приятно, если со всех концов слышалось желанное подтверждение, что роль удалась. Теперь я говорю не то, что хочу, и не так, как хочу; увлекшись, не помню себя, и моя игра производит гораздо больше впечатления. Рукоплескания нарастают, а я думаю: «Знали бы вы, чем восхищаетесь! Вас трогают, вас поражают эти мрачные, страстные, непонятные звуки, вы не чувствуете, что это скорбные стоны той несчастливицы, которую вы одарили своим благоволением».
Нынче с утра я учила роль, а сейчас повторяла и репетировала. Я утомлена, разбита, а завтра все начнется сызнова. Завтра вечером должен быть спектакль. Так вот я и влачу свою жизнь; мне скучно вставать и противно ложиться. Все во мне нескончаемо вращается по кругу. То передо мной встают жалкие утешения, то я отбрасываю и кляну их. Я не хочу покоряться, покоряться неизбежности, – почему должно быть неизбежным то, что сводит меня в могилу? Разве не могло быть по-иному? Я расплачиваюсь за то, что родилась немкой; в натуре немцев все отягощать для себя и собой отягощать все.
– Ах, друг мой! – прервал ее Вильгельм. – Перестаньте сами оттачивать кинжал, которым непрерывно раните себя! Неужто ничего вам не осталось? И ничего не стоит ваша молодость, наружность, ваше здоровье, ваши таланты? Если вы не по собственной вине потеряли что-то из своего Достояния, зачем же бросать вслед все остальное? Кому это нужно?
Она помолчала, потом встрепенулась:
– Я знаю, это пустая забава! Любовь – всего лишь пустая забава! Чего только я не могла и не должна была свершить! И все разлетелось прахом! Я несчастное влюбленное создание, влюбленное, только и всего! Пожалейте же меня, видит бог, какое я несчастное создание!
Она задумалась и после краткой паузы заговорила с жаром:
– Вы привыкли, чтобы все висли у вас на шее. Нет, вам этого не постичь. Ни один мужчина не способен постичь, чего стоит женщина, умеющая себя уважать. Всеми ангелами небесными, всеми образами блаженства, создаваемыми чистым, незлобивым сердцем, могу поклясться, что нет ничего возвышеннее женщины, всецело предающейся любимому человеку! Мы холодны, горды, неприступны, чисты, умны, когда заслуживаем зваться женщинами, и все эти достоинства складываем к вашим ногам, как только полюбим, как только понадеемся добиться ответной любви. Как сознательно и стремительно отреклась я от всего своего бытия! Ныне же я хочу предаться отчаянию, умышленно предаться отчаянию. Пусть будет наказана каждая капля моей крови, пусть ни одна жилка не уйдет от мучительства. Усмехайтесь же, смейтесь над таким театральным накалом страстей!
Но наш друг далек был от смеха. Слишком тягостно было ему ужасное, наполовину естественное, наполовину вымученное состояние приятельницы. Он на себе ощущал всю пытку такого страшного напряжения, мозг его был потрясен, кровь лихорадочно бурлила.
Аврелия встала и ходила взад и вперед по комнате.
– Я все доказываю себе, почему не должна его любить. Я отлично знаю, что он недостоин любви. Я отвлекаюсь мыслями на то, на другое, стараюсь, сколько возможно, занять себя чем-нибудь. Иногда берусь разучивать роль, которую мне даже не придется играть; твержу от начала до конца известные старые роли, все глубже и глубже вникаю в подробности, все твержу и твержу, – друг, задушевный мой друг, что за страшный труд насильственно отрываться от себя самой! Разум мой изнемогает, мозг напряжен до крайности, и, спасаясь от безумия, я снова уступаю сознанию, что люблю его. Да, я люблю, люблю его! – заливаясь слезами, вскричала она. – Люблю и с этим умру!
Он схватил ее руку и настойчиво просил не терзать себя.
– Увы, – говорил он, – какая бессмыслица, что человеку недоступно не только многое невозможное, но и многое возможное. Вам не суждено было найти преданную душу, которая вполне составила бы ваше счастье. Мне же было суждено связать все блаженство моей жизни с несчастной, которую я гнетом моей верности, точно тростинку, пригнул к земле, а может статься, и сломил.
Он успел поверить Аврелии историю своих отношений с Марианой и потому мог ссылаться на нее. Пристально глядя ему в глаза, она спросила:
– Можете вы утверждать, что ни разу не пытались обмануть женщину беспечным волокитством, кощунственными клятвами, завлекательными уверениями не домогались ее милостей?
– Да, могу, – отвечал Вильгельм, – и притом без бахвальства, ибо жизнь моя была проста и мне редко представлялся соблазн кого-то соблазнить. И каким же предостережением явилось для меня то прискорбное состояние, до какого были доведены вы, мой прекрасный, мой благородный друг! Возьмите с меня зарок, в полной мере созвучный моему сердцу, через сострадание к вам обретший форму и выражение и освященный настоящей минутой: всякому мимолетному увлечению буду я противостоять впредь и даже самое глубокое чувство скрою в своей душе – признания в любви не услышит ни одна женщина из моих уст, если я не в силах буду отдать ей всю мою жизнь.
Она смотрела на него тупым, ужасающе безразличным взглядом, а когда он протянул ей руку, отпрянула на несколько шагов.
– Чему это поможет! – воскликнула она. – Женской слезой больше или меньше, от этого море полнее не станет. И все же, – продолжала она, – спасти одну из многих тысяч не так уж плохо, найти среди многих тысяч одного порядочного и вовсе хорошо! А вы понимаете, что обещали?
– Да, понимаю, – улыбаясь, промолвил Вильгельм и снова протянул руку.
– Что ж, принимаю, – промолвила она и сделала движение правой рукой; он решил было, что она подала ему руку; но она торопливо сунула ее в карман, с быстротой молнии выхватила оттуда кинжал и заостренным лезвием полоснула его по руке. Он отдернул руку, но кровь уже потекла.
– Вас, мужчин, нужно метить побольнее, чтобы вы почувствовали! – выкрикнула она с диким торжеством, которое тут же сменилось лихорадочной суетливостью. Она обмотала его руку носовым платком, чтобы остановить проступившую кровь.
– Простите меня, одержимую, – вскричала она, – не жалейте об этих каплях крови! Я смирилась, я снова стала сама собой. На коленях буду я молить, чтобы вы меня простили, дайте мне в утешение исцелить вас.
Она бросилась к шкафу, достала холст и какие-то инструменты, остановила кровь и тщательно осмотрела рану. Порез шел через мякоть ладони, под большим пальцем и, пересекая линию жизни, оканчивался у мизинца. Она перевязала ранку молча, с какой-то сосредоточенной значительностью, уйдя в себя.
Он несколько раз спрашивал:
– Дорогая! Как могли вы поранить своего друга?
– Молчите, – отвечала она, приложив палец к губам, – молчите!
КНИГА ПЯТАЯ

Так у Вильгельма к двум едва залеченным ранам прибавилась третья, порядком его стеснявшая. Аврелия не позволяла ему прибегнуть к помощи хирурга, сама делала перевязки, уснащая свои труды фантастическими речами, церемониями и сентенциями, чем ставила его в крайне тягостное положение. Впрочем, не он один, а все окружающие страдали от ее нервозности и странностей; а всех более маленький Феликс. Живому ребенку невтерпеж был подобный гнет, и чем чаще она его журила и одергивала, тем строптивее он становился. Мальчику были свойственны такие прихоти, на которые принято смотреть как на капризы, и она их не спускала ему. Так, он предпочитал пить не из стакана, а из бутылки, а кушанья явно казались ему вкуснее с блюда, чем из тарелки. Такое неприличие ему никак не прощали, а ежели он оставлял дверь открытой или громко хлопал ею, ежели, получив приказание, он либо не двигался с места, либо стремглав бросался прочь, то выслушивал длинную рацею, но не видно было, чтобы это способствовало его исправлению. А любовь к Аврелии заметно убывала с каждым днем; когда он называл ее мамой, в голосе его не слышалось нежности, зато он был страстно привязан к старухе няньке, которая, правда, потворствовала ему во всем.
Но старуха с некоторых пор так расхворалась, что пришлось перевезти ее из дому в более спокойное жилище, и Феликс оказался бы совсем один, если бы Миньона не явилась для него ласковым ангелом-хранителем. Дети превосходно ладили друг с другом; она учила его песенкам, а у него была отличная память, и он охотно повторял их, на удивление слушателям. Пыталась она растолковать ему и ландкарты, которыми сама по-прежнему увлекалась, однако избрала не самую удачную методу. В каждой стране ее по-настоящему занимало лишь одно – тепло ли там или холодно. Зато она прекрасно умела рассказать о полюсах, какие там страшные льды, а чем дальше от них, тем становится теплее. Если кто-нибудь отправлялся путешествовать, она спрашивала только, куда он едет – на север или на юг, и старалась проследить его путь по своим маленьким картам. Особливо настораживалась она, когда о путешествии заговаривал Вильгельм, и огорчалась, если разговор переходил на другую материю. Насколько упорно отказывалась она сыграть какую-нибудь роль или хотя бы пойти на представление в театр, настолько охотно и прилежно заучивала наизусть оды и песни и всех приводила в изумление, когда неожиданно, словно бы экспромтом, начинала декламировать стихи, главным образом серьезного, возвышенного содержания.
Зерло, по своей привычке подмечать малейший признак зарождающегося дарования, всячески поощрял ее; но более всего одобрял он ее приятное, разнообразное, порой даже веселое пение; тем же искусством расположил его к себе и старик арфист.
Сам Зерло не имел способностей к музыке, не играл ни на одном инструменте, но музыку ценил высоко и как можно чаще старался доставить себе наслаждение ею, не сравнимое ни с каким другим. Раз в неделю он устраивал у себя концерт, теперь же Миньона, арфист, а также Лаэрт, недурно игравший на скрипке, составили для него небольшую, но превосходную домашнюю капеллу.
Он любил повторять: «Человека так тянет к пошлости, ум и чувства так легко становятся тупы к восприятию прекрасного и совершенного, что надо всячески оберегать в себе эту восприимчивость. Никто не может совсем обойтись без такого наслаждения, и только непривычка наслаждаться чем-то по-настоящему хорошим – причиной тому, что многие люди находят вкус в самой вульгарной чепухе, лишь бы она была внове. Надо бы, – говорил он, – каждый день послушать хоть одну песенку, прочитать хорошее стихотворение, посмотреть талантливую картину и, если возможно, высказать несколько умных мыслей».
При таком умонастроении, до известной степени присущем Зерло от природы, окружающие его проводили время не без удовольствия. Посреди столь приятного образа жизни Вильгельму однажды принесли письмо, запечатанное черным сургучом. Вернерова печать предвещала печальное известие, и друг наш был потрясен, узнав из короткого сообщения о смерти своего отца. Скончался отец после внезапной недолгой болезни, оставив домашние свои дела в образцовом порядке.
Нежданная весть до глубины души поразила Вильгельма. Всем сердцем осознал он, с каким холодным небрежением относимся мы часто к друзьям и родным, покуда они вместе с нами пребывают на земле, и каемся в своем упущении, когда блаженному этому состоянию на сей раз приходит конец. Единственное, что смягчало боль от безвременной кончины столь достойного человека, – это сознание, как он мало что в мире любил и как мало чем наслаждался.
Вскоре Вильгельм обратился мыслями к своим собственным делам и встревожился не на шутку. Хуже нет, как если внешние обстоятельства вносят коренные перемены в положение человека, когда он мыслями и чувствами не подготовился к ним. Тут возникает как бы эпоха без эпохи, разлад становится тем сильнее, чем меньше человек сознает, что он не дорос до нового положения.
Вильгельм почувствовал себя свободным в такой период, когда не успел еще прийти к согласию с самим собой. Помыслы его были благородны, цели ясны, а в намерениях, казалось бы, не было ничего предосудительного. Все это он признавал за собой с известной долей уверенности; однако у него не раз был случай убедиться, что ему недостает опыта, а потому он придавал непомерную цену опыту других людей и выводам, которые они безоговорочно отсюда извлекали, и тем самым терялся окончательно. То, чего ему недоставало, он надеялся в первую очередь обрести, запомнив и собрав все примечательное, что встретится ему в книгах или в разговорах. Поэтому он записывал чужие и свои мнения и мысли и даже целые разговоры, вызвавшие у него интерес, и на такой манер, к сожалению, держал в памяти ложь наравне с правдой, слишком долго носился с одной мыслью, вернее сказать, с одной сентенцией, забывая думать и действовать самостоятельно, следуя за светом чужих идей, как за путеводной звездой.
Ожесточенность Лврелни и холодное презрение к людям друга его Лаэрта чаще, чем следовало, воздействовали на его суждения. Однако всех опасней оказался для него Зерло, человек, своим светлым умом справедливо и строго судивший современность, но страдавший тем недостатком, что отдельным суждениям он придавал обобщающий характер, тогда как приговоры разума действительны лишь единожды и притом лишь в определенном случае, становясь неправильными при попытке применить их к следующему случаю.
Так, стараясь прийти к согласию с самим собой, Вильгельм все больше отдалялся от спасительного согласования чувств и мыслей, а при такой растерянности страстям его было легче обратить в свою пользу все прежние планы, так что он окончательно потерялся, не зная, как ему быть.
Скорбная весть оказалась на руку Зерло? тем более что с каждым днем у него все прибавлялось причин для преобразования его театра. Ему надо было либо возобновить старые контракты, к чему он не очень стремился, так как многие участники труппы, считавшие себя незаменимыми, день ото дня становились нестерпимее; либо ему надо было придать труппе совсем новый облик, что отвечало и его желанию.
Воздерживаясь самому уговаривать Вильгельма, он подстрекал Аврелию и Филину; остальные собратья, жаждавшие ангажемента, в свой черед, не давали покоя нашему другу, так что он, в изрядном смущении, оказался на перепутье. Кто бы подумал, что следующее Вернерово письмо, написанное с противоположным умыслом, натолкнет его на окончательное решение. Мы опускаем вступительную часть и приводим письмо в несколько измененном виде.
ГЛАВА ВТОРАЯ«…Так оно было и так, видно, быть должно, чтобы любой человек в любых обстоятельствах занимался своим делом и поступал, как ему свойственно. Уже через четверть часа после того, как славный старик испустил дух, все в доме пошло наперекор заведенным им порядкам. Отовсюду стекались друзья, знакомые и родные, особливо же люди того сорта, которые находят чем поживиться при подобных обстоятельствах. Что-то приносили, уносили, платили, записывали и подсчитывали; одни подавали вино и пироги, другие пили и ели; но никого не видел я озабоченнее женщин, запятые выбором траурного платья.
А посему не сердись на меня, дорогой мой, если и я в этих обстоятельствах подумал о своей пользе, постарался по мере сил быть поддержкой и помощью твоей сестре и, как только позволили приличия, дал ей понять, что впредь в нашей воле ускорить союз с которым отцы наши от чрезмерной педантичности медлили без конца.
Только не подумай, что мы замыслили занять большой опустевший дом. Нет, у нас достало ума и скромности; послушай, что мы решили. Сейчас же после свадьбы твоя сестра переселится к нам, и даже матушка твоя поедет с нею.
«Да мыслимо ли это? – возразишь ты. – Вам самим тесно в вашей лачуге!» В этом-то все искусство, дружок! Нет ничего невозможного при умелом устройстве, и ты не поверишь, сколько находишь места, когда не требуешь простора. Большой дом мы продадим, к чему уже представляется подходящая оказия; а вырученные деньги дадут стократные барыши.
Надеюсь, ты не будешь возражать, и я только порадуюсь, если ты не унаследовал отцовых и дедовых бездоходных увлечений. Для деда высшим блаженством было обладание множеством невзрачных произведений искусства, которыми никто, смею утверждать – никто, не мог насладиться вместе с ним; отец жил среди роскошной обстановки, которой он никому не давал насладиться. Мы хотим все это изменить, и я надеюсь на твое согласие.
Правда, для меня самого в целом доме не найдется местечка, кроме как за конторкой, и я покамест не вижу, где в будущем уместится колыбель; зато тем больше простора вне дома. Кофейни и клубы для мужа, прогулки и катания для жены и прекрасные загородные увеселительные места для обоих. А самое большое преимущество я вижу в том, что за нашим круглым столом негде будет поместиться отцовым приятелям, которые тем небрежительнее о нем отзываются, чем усерднее он потчует их.
Не надо ничего лишнего в доме! Поменьше мебели и посуды, не надо карет и лошадей. Ничего, кроме денег, а тогда разумно проводи каждый день, как тебе заблагорассудится. Не надо лишнего гардероба, всегда ходи в самом новом и хорошем: пускай муж выкидывает сюртук, а жена продает платье, едва оно хоть чуточку выйдет из моды. Ничего нет для меня несноснее, чем хранение старого тряпья. Подари мне кто драгоценнейший из камней с условием носить его каждый день, я бы не принял подарка; какая может быть радость от мертвого капитала? Итак, вот тебе мой шуточный символ веры: дела свои справляй, деньги добывай, с домашними веселись, а с прочим миром не водись, разве только пользу из него извлекай.
Но ты спросишь: «Как же это в ваш отменный план не включен я? Куда мне деваться, если вы продадите мой отчий дом, а в вашем не найдется свободного уголка?» Это, конечно, братец мой, главный вопрос. И тут я приду тебе на помощь, сперва достодолжно похвалив тебя за столь пользительную трату времени.
Скажи, как ты ухитрился всего за несколько недель приобрести столько нужных и важных сведений? Хотя я знаю тебя как обладателя многих дарований, однако же такой наблюдательности и такого прилежания я в тебе не предполагал. Твой дневник показал нам, какую пользу извлек ты из путешествия: описание железных и медеплавильных заводов сделано превосходно и свидетельствует о глубоком изучении дела. В свое время я тоже посещал их, но моя реляция сильно проигрывает при сравнении. Все письмо о полотняной мануфактуре весьма поучительно, а соображение о конкуренции метит прямо в цель. Кое-где ты допустил ошибки в подсчете, впрочем, вполне извинительные.
Но превыше всего меня и моего отца радуют твои основательные познания в управлении земельными угодьями, а главное, в усовершенствовании оных. У нас на примете большое поместье, которое расположено в очень плодородной местности и находится под секвестром. На уплату за него мы употреби» деньги, вырученные с продажи твоего родительского дома, остальное частью возьмем в долг, частью отсрочим платеж; мы рассчитываем, что ты переселишься туда и займешься нужными усовершенствованиями, дабы поместье за несколько лет повысилось в цене по меньшей мере на треть; тогда мы его сменяем на другое, побольше; оно, в свой черед, будет усовершенствовано и продано, и для всего этого ты самый подходящий человек. А тем временем и мы здесь не собираемся сидеть праздно, так что вскоре нашему положению можно будет позавидовать.
Пока что прощай! Пользуйся в своих странствиях всеми радостями жизни и отправляйся, куда найдешь для себя приятней и полезней. На первые полгода мы обойдемся без тебя, так что можешь в свое удовольствие повидать белый свет, ибо лучше образования, чем в путешествии, толковому человеку не найти. Прощай! Я рад, что, породнившись так близко, мы с тобой отныне сблизились и по роду деятельности».
Как ни складно было написано это послание и сколько экономической премудрости ни содержалось в нем, Вильгельму оно не понравилось по ряду причин. Похвалы его мнимым статистическим, технологическим и агрономическим познаниям явились для него скрытой укоризной, а нарисованный затем идеал бюргерского благополучия отнюдь не соблазнял его; даже наоборот, тайный дух противоречия неудержимо увлекал его в противную сторону. Он убедился, что лишь на театре может завершить то образование, какого для себя желал, и, казалось, тем тверже укреплялся в своем решении, чем более явным противником становился ему Вернер.
Собрав воедино все свои доводы, он тем крепче утверждался в своем намерении, чем больше видел оснований выставить это намерение перед умным Вернером в самом благоприятном свете, следствием чего явился ответ, который мы также помещаем здесь.








