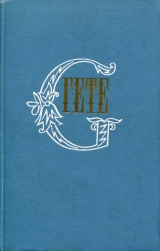
Текст книги "Собрание сочинений в десяти томах. Том седьмой. Годы учения Вильгельма Мейстера"
Автор книги: Иоганн Вольфганг фон Гёте
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 30 (всего у книги 43 страниц)
КНИГА СЕДЬМАЯ

Весна пришла во всей своей красе; ранняя гроза, надвигавшаяся с утра, разразилась в горах, дождь пролился над равниной, солнце засияло в полном блеске и на сером фоне туч раскинулась великолепная радуга. Вильгельм ехал верхом ей навстречу, с грустью глядя на нее. «Увы! – говорил он про себя, – не на таком ли точно фоне предстают перед нами самые приманчивые краски жизни? И зачем струятся капли, когда мы исполнены восторга? Ясный день подобен хмурому, когда мы равнодушно созерцаем его, и что может взволновать нам душу, как не затаенная надежда, что заложенное в нас от природы влечение не останется беспредметным? Душу нам волнует и рассказ о каждом добром поступке, и созерцание каждого гармонического образа; нам кажется тогда, что мы уже не совсем на чужбине, нам мнится, что мы ближе к той отчизне, куда нетерпеливо стремится все лучшее, что сокрыто в тайниках нашего сердца».
Тем временем его нагнал пешеход, который присоединился к нему, размашисто шагая рядом с конем, и после нескольких безразличных слов обратился к всаднику:
– Если не ошибаюсь, мы с вами уже где-то встречались?
– Я тоже как будто признаю вас, – отвечал Вильгельм. – Помнится, мы вместе совершили веселую прогулку по реке.
– Совершенно верно! – подтвердил попутчик.
Вильгельм пристально вгляделся в него и, помолчав, добавил:
– Не пойму, что за перемена произошла с вами. Тогда я принял вас за лютеранского пастора, теперь вы скорее похожи на католического патера.
– Нынче, по крайней мере, вы не заблуждаетесь, – сказал тот, сняв шляпу и обнажив тонзуру. – А куда девалась ваша труппа? Долго вы состояли при ней?
– Дольше, чем следовало; когда я вспоминаю время, которое провел в ней, я с сожалением убеждаюсь, что гляжу в беспредельную пустоту. Память моя ничего не сохранила от той поры.
– В этом вы ошибаетесь; с чем бы мы ни столкнулись, все оставляет по себе след и незаметно способствует нашему развитию; однако опасно стараться дать себе в этом отчет. В итоге нас одолеет либо гордыня, либо уныние и малодушие, и одно не менее вредоносно, чем другое. Вернее всего заниматься своим ближайшим делом, а в данную минуту, – с улыбкой добавил он, – это значит поспешать к месту назначения.
Вильгельм спросил, далеко ли до имения Лотарио, попутчик ответил, что оно расположено за горой.
– Может быть, я вас там застану, – добавил он, – мне надо только закончить кое-какие дела по соседству. Итак, до скорого свидания! – С этими словами он свернул на более крутую тропу, очевидно, сокращавшую дорогу через гору.
«Да, конечно же, он прав, – про себя решил Вильгельм, продолжая путь, – надо думать о ближайшем деле, а для меня нет сейчас ничего ближе печального поручения, которое надлежит мне выполнить. Посмотрим-ка, полностью ли сохранилась у меня в памяти речь, которой я должен пристыдить жестокосердого друга».
И он принялся повторять про себя этот литературный опус, он не пропустил ни полслова, и чем вернее служила ему память, тем более росли в нем негодование и отвага. Страдание и смерть Аврелии живо встали перед его внутренним взором.
– Осени меня, душа моей подруги! – вскричал он. – И, если можешь, подай мне знак, что ты примирена и успокоена!
С этими речами и мыслями добрался он до вершины горы и по ту сторону на склоне ее увидел причудливое строение, в котором тотчас же признал жилище Лотарио. Старый несуразный замок с несколькими башнями и фронтонами был, очевидно, первоосновой всего сооружения; но еще несуразнее оказались новые пристройки, возведенные частью рядом с главным зданием, частью поодаль от него и соединенные с ним галереями и крытыми переходами. Всякая внешняя симметрия, всякий намек на архитектоническую сообразность были явно принесены в жертву внутреннему удобству. От рва и вала, как и от искусственно разбитых садов и больших аллей, не осталось ни малейшего следа. Огород и плодовый сад подступали к самым зданиям, а мелкие огородики были разведены даже между ними. Неподалеку раскинулась нарядная деревенька, сады и поля были на вид в превосходном состоянии.
Вильгельм ехал вперед, углубившись в свои беспокойные думы и не очень вникая в то, что видел. Он оставил лошадь на постоялом дворе и не без волнения поспешил в замок.
Старый слуга встретил его у входа и благодушно объяснил, что нынче ему вряд ли удастся повидать барина; барину надо написать много писем и он велел уже отказать кое-кому из тех, кто приходил по делу. Вильгельм настаивал; в конце концов старик уступил и пошел доложить о нем. Воротившись, он проводил Вильгельма в большую старинную залу и попросил его обождать, потому что барин еще задержался. Вильгельм беспокойно шагал взад и вперед, поглядывая на рыцарей и дам, чьи старинные портреты были развешаны по стенам; он повторял начало своей речи, и здесь, в окружении доспехов и брыжей, она казалась вполне уместной. Заслышав шорох, он поспешил принять подобающую позу, с достоинством встретить противника, сперва вручить ему письмо, а затем пустить в ход оружие упрека.
Несколько раз он обманывался и уже стал раздражаться, когда наконец из боковой двери показался статный мужчина в ботфортах и простом кафтане.
– Что хорошего привезли вы мне? – приветливо обратился он к Вильгельму. – Простите, что я заставил вас ждать.
Говоря, он складывал письмо, которое держал в руках. Вильгельм не без смущения вручил ему послание Аврелии и сказал:
– Я привез вам последние слова вашей подруги, которые должны вас тронуть.
Лотарио взял письмо и воротился с ним в комнату и, как было видно Вильгельму через раскрытую дверь, сначала надписал и запечатал еще несколько писем, а затем уж вскрыл и стал читать послание Аврелии. По-видимому, он перечел письмо несколько раз, и хотя Вильгельм чувствовал, что его патетическая речь не очень-то соответствует столь естественному приему, однако он собрался с духом, направился к порогу и приготовился было начать свою рацею, когда потайная дверь кабинета растворилась и вошел патер.
– Я получил поразительнейшее известие! – воскликнул ему навстречу Лотарио и добавил, оборотясь к Вильгельму: – Простите мне, но сейчас я не расположен продолжать нашу беседу. Вы переночуете у нас! А вы, аббат, позаботьтесь, чтобы гость наш ни в чем не терпел недостатка.
С этими словами он поклонился Вильгельму, а патер взял нашего друга за руку, и тот неохотно последовал за ним.
Молча шли они причудливыми галереями и пришли в очень приветливую комнату. Патер ввел в нее гостя и удалился без дальнейших извинений. Вслед за тем появился бойкий подросток и объяснил Вильгельму, что приставлен ему служить; подавая ужин, он рассказал, какой распорядок в доме: когда здесь завтракают, обедают, работают и развлекаются, и при этом не уставал восхвалять Лотарио.
Как ни приятен был мальчик, Вильгельм постарался поскорее отделаться от него. Ему хотелось побыть одному, слишком уж неловким и тягостным было его положение. Он попрекал себя за то, что так плохо осуществил свое намерение и лишь вполовину выполнил данный ему наказ. То он давал себе слово завтра же утром наверстать упущенное, то вынужден был признаться, что знакомство с Лотарио настроило его совсем на другой лад. Да и очень уж необычным представлялся ему этот дом, он никак не мог освоиться здесь. Собираясь разоблачиться, он отпер свой чемодан; вместе с ночными принадлежностями он извлек покрывало призрака, которое уложила Миньона. Оно только усугубило тоскливое состояние его духа. «Беги, юноша! Беги!» – воскликнул он. Что означают эти таинственные слова? Чего бежать, куда бежать? Лучше бы призрак крикнул мне: «Оглянись на самого себя!» Он принялся рассматривать английские гравюры, висевшие в рамках на стене. Почти по всем он скользнул равнодушным взглядом и вдруг увидел одну, изображавшую гибель корабля; отец со своими прекрасными дочерьми ждет смерти от подступающих волн. У одной из женщин было сходство с красавицей амазонкой; неизъяснимая жалость охватила нашего друга. Он ощутил непреодолимую потребность дать волю чувствам, слезы хлынули у него из глаз, он не мог успокоиться, пока сон не сморил его.
Странные сны привиделись ему под утро. Он находился в саду, где часто бывал мальчиком, и с радостью узнавал знакомые аллеи, изгороди и цветники. Ему встретилась Мариана, он ласково заговорил с ней, не поминая прежних неладов. Тотчас же к ним подошел его отец в шлафроке и, приказав сыну принести из садового павильона два стула, с радушием, не присущим ему, взял Мариану за руку и повел ее к беседке.
Вильгельм бросился в павильон, но тот оказался пуст, только у противоположного окна стояла Аврелия; он приблизился и заговорил с нею, однако она не взглянула на него, и хотя он стоял рядом, лицо ее ему так и не удалось рассмотреть. Он выглянул в окно и увидел в каком-то незнакомом саду скопище людей, некоторых из них он сразу узнал. Под деревом сидела мадам Мелина, играя розой, которую держала в руке; рядом с ней стоял Лаэрт и считал золотые монеты, пересыпая их из руки в руку. Миньона и Феликс лежали в траве, она растянувшись на спине, а он ничком. Появилась Филина и захлопала в ладоши над детьми. Миньона не пошевельнулась, а Феликс вскочил и пустился бежать от Филины; сперва он смеялся, когда Филина бросилась ему вдогонку, когда же арфист крупными медленными шагами пошел следом за ним, мальчик испуганно закричал. Он бежал напрямик к пруду. Вильгельм кинулся ему вслед, но опоздал – малыш был уже в воде. Вильгельм стоял как вкопанный. И вдруг на том берегу пруда увидел прекрасную амазонку, она протянула правую руку к мальчику и пошла вдоль берега; малыш пересек пруд по прямой линии, как указывал ее палец, и плыл за ней, пока она шла, наконец она подала ему руку и вытащила его из пруда. Вильгельм тем временем приблизился, малыш был охвачен пламенем, огненные капли скатывались с него. Вильгельм совсем растерялся, но амазонка быстро сняла с головы белое покрывало и окутала им малыша. Огонь тотчас был загашен. Когда она подняла покрывало, из-под него выскочили два мальчугана, и они принялись вместе играть и резвиться, а Вильгельм рука об руку с амазонкой пошел по саду и увидел, как вдалеке его отец и Мариана прогуливаются по аллее, высокие деревья которой, казалось, окружали весь сад. Вильгельм направился к пим и вместе со своей прекрасной спутницей пересек сад, как вдруг им заступил дорогу белокурый Фридрих, с хохотом и паясничаньем задерживая их. Они попытались, невзирая на него, продолжать свой путь, тогда он отстал и помчался вдаль, ко второй чете; отец и Мариана, по-видимому, убегали от него, а он мчался все быстрее, и Вильгельм увидел, как те двое почти что летят по аллеям. Голос природы и привязанности принуждал его поспешить им на помощь, но рука амазонки держала его. И как охотно позволял он удерживать себя! С этим смешанным чувством он проснулся и увидел, что комната уже залита ярким утренним солнцем.
ГЛАВА ВТОРАЯМальчик пригласил Вильгельма к завтраку; в зале уже находился аббат, а Лотарио якобы куда-то выехал верхом; аббат не отличался словоохотливостью да и был явно озабочен; он спросил, как умерла Аврелия, и участливо выслушал рассказ Вильгельма.
– Ах, – вскричал он, – кто живо представляет себе, какое множество манипуляций требуется от природы и искусства, чтобы получился просвещенный человек, кто сам посильно участвует в просвещении своих сограждан, тому впору отчаяться, видя, как безбожно человек зачастую губит себя и еще чаще, по собственной вине или без вины, способствует своей гибели. Когда я думаю об этом, сама жизнь начинает мне казаться случайным даром, и я готов хвалить всякого, кто не ставит ее выше, чем следует.
Не успел он договорить, как дверь с силой распахнулась и в комнату ворвалась молодая женщина, оттолкнув старого слугу, который попытался ее остановить. Она устремилась к аббату, схватила его за руку, сквозь слезы и рыдания едва выговаривая отрывистые слова:
– Где он? Куда вы его дели? Какое чудовищное предательство! Признавайтесь! Я знаю, что творится! Я хочу к нему! Я хочу знать, где он.
– Дитя мое, успокойтесь, – промолвил аббат с деланной невозмутимостью, – пойдемте к вам в комнату, вы все узнаете, если пожелаете выслушать меня.
Он предложил ей руку, чтобы увести ее.
– Не пойду я к себе в комнату! – выкрикнула она. – Мне ненавистны стены, в которых вы столько времени держите меня взаперти! А я наперекор вам все узнала: полковник вызвал его, он ускакал, чтобы встретиться с противником и, может быть, именно в эту минуту… мне даже не раз слышались выстрелы. Велите запрягать, и едемте со мной, не то я буду кричать на весь дом, на всю деревню!
Рыдая, она бросилась к окну, аббат удержал ее и тщетно пытался успокоить. Услышав, что подъехал экипаж, она распахнула окно.
– Он убит! – закричала она. – Его привезли!
– Он выходит сам. Взгляните, он жив, – уговаривал аббат.
– Он ранен, – перебила она, – иначе он бы приехал верхом! Его ведут! Он опасно ранен!
Она кинулась в дверь, сбежала с лестницы, аббат поспешил за ней, Вильгельм за ними обоими; он увидел, как молодая красотка встретила возлюбленного, поднимавшегося на крыльцо.
Поддерживаемый своим спутником, в котором Вильгельм сразу же узнал давнего своего покровителя, Ярно, Лотарио нежно и ласково успокаивал неутешную женщину и, опираясь теперь на нее, медленно поднимался по лестнице; он поздоровался с Вильгельмом и с помощью друзей направился к себе в кабинет.
Вскоре оттуда появился Ярно и подошел к Вильгельму.
– Видно, рок судил вам всюду попадать на спектакли и актеров. Сейчас у нас разыгрывается весьма невеселая драма.
– Я рад, что встретил вас в такой необычайной ситуации, – сказал Вильгельм. – Я изумлен, испуган, а ваше присутствие успокаивает меня, приводит в равновесие. Скажите, это опасно? Барон ранен тяжело?
– Полагаю, что нет, – ответил Ярно.
Немного погодя из кабинета вышел молодой хирург.
– Ну, что скажете? – крикнул ему навстречу Ярно.
– Скажу, что положение очень опасное, – отвечал врач, укладывая инструменты в кожаную сумку.
Вильгельм смотрел на ленту, привязанную к сумке. Лента показалась ему знакомой: яркие контрастирующие тона, причудливый узор, золото и серебро в хитрых переплетениях отличали ее от всех лент в мире. Вильгельм был убежден, что перед ним сумка старика хирурга, который делал ему перевязку в достопамятном лесу, и надежда после столь долгого времени напасть на след своей амазонки огнем пронизала все его существо.
– Откуда у вас эта сумка? – вскричал он. – Кому она принадлежала до вас? Умоляю, ответьте мне!
– Я купил ее на аукционе, – ответил врач, – какое мне дело, кому она принадлежала?
С этими словами он удалился, а Ярно сказал:
– От этого молодого человека слова правды не добьешься!
– Значит, неверно, что он купил сумку? – спросил Вильгельм.
– Так же, как и то, что Лотарио в опасности, – ответил Ярно.
Вильгельм стоял, обуреваемый разнородными мыслями, когда Ярно спросил его, как ему все это время жилось.
Вильгельм в общих чертах изложил свою историю, и после того как он под конец рассказал о смерти Аврелии и данном ему поручении, Ярно произнес:
– Чудеса, право же, чудеса!
Из кабинета вышел аббат, кивком головы позвал Ярно сменить его и обратился к Вильгельму:
– Барон просит вас задержаться, на несколько дней примкнуть к нашей компании и поспособствовать его развлечению ввиду таких обстоятельств. Если вам надобно известить своих близких, письмо будет отослано без промедления. А чтобы вам было понятно необычайное происшествие, свидетелем коего вы оказались, я должен осведомить вас о том, что, собственно, не составляет тайны. У барона была интрижка с одной дамой, получившая больше огласки, чем следовало, ибо даме не терпелось насладиться торжеством победы над соперницей. На беду, ее общество вскорости прискучило ему, и он стал ее избегать; но, будучи наделена весьма пылким нравом, она не могла смириться со своей участью. Разрыв произошел публично, на бале. Считая себя крайне оскорбленной, дама искала кого-нибудь, кто за нее отомстил бы; такого рыцаря никак не находилось; наконец ее муж, с которым она давно разошлась, узнав о происшедшем, решил вступиться за нее, вызвал барона и нынче его ранил; однако, по слухам, сам полковник поплатился еще сильнее.
С этого времени нашего друга привечали в доме так, словно он был членом семьи.
ГЛАВА ТРЕТЬЯВремя от времени больного развлекали чтением вслух. Вильгельм с радостью оказывал ему эту скромную услугу. Лидия не отходила от постели, забота о раненом поглощала все ее внимание; но сегодня сам Лотарио был как-то рассеян и даже просил прекратить чтение.
– Нынче я особенно живо чувствую, как нелепо человек упускает дорогое время, – сказал он. – Сколько я строил планов, сколько всего обдумывал, и как же мы медлим с лучшими своими намерениями! Я прочитал предложенные мне прожекты изменений, которые следует ввести у меня в поместьях, и смею сказать, особливо ради этого радуюсь, что пуля не избрала себе пути поопаснее.
Лидия посмотрела на него с нежностью и со слезами на глазах, словно хотела спросить, не вправе ли она и друзья его претендовать на свою долю в этой радости жизни. А Ярно заметил:
– Такие изменения, как вы имеете в виду, надо всесторонне обсудить, прежде чем на них решиться.
– Долгие обсуждения показывают обычно недостаточное знание того предмета, о коем идет речь, а необдуманные действия – полную в нем неосведомленность, – возразил Лотарио. – Мне совершенно ясно, что по части хозяйствования в поместьях я во многих делах не могу обойтись без услуг моих крестьян, и посему должен прямо и строго отстаивать свои права. Но мне не менее ясно, что другие мои права хоть и выгодны, но не так уж необходимы для меня, и я могу частично поступиться ими в пользу моих людей. Отказываясь, теряешь не всегда. Разве я не извлек из своих поместий больше выгоды, нежели извлекал мой отец? Разве я и далее не повышаю свои доходы? Неужто же мне одному пользоваться растущими выгодами? Как же не уделить тому, кто работает со мной и на меня, заслуженную долю доходов, кои мы получаем от расширения познаний и успехов нашей эпохи?
– Такова человеческая натура! – воскликнул Ярно. – И мне не зазорно ловить себя на этом. Человек жаждет завладеть всем, чтобы по своему произволу распоряжаться добытым, он считает пропащими те деньги, которые расходует не сам.
– Да, конечно, – признал Лотарио, – мы смело могли бы обойтись без значительной части капитала, если бы не так беспечно транжирили проценты.
– Одно я считаю нужным вам напомнить, – продолжал Ярно, – и объяснить, почему не советую вам именно сейчас предпринять преобразования и потерпеть хотя бы временный убыток, – ведь вы еще обременены долгами и находитесь в стесненном положении, пока их не выплатите. Посему примите мой совет и отложите ваши планы.
– А тем временем пуле или черепице с крыши заблагорассудится навсегда уничтожить плоды моей жизни и деятельности! Да, мой друг, – продолжал Лотарио, – в том-то и состоит основная ошибка людей просвещенных, что они рады все отдать идее и мало или ничего определенному предмету. Для чего я входил в долги? Почему я рассорился с дядей и надолго предоставил моих сестер самим себе, как не во имя идеи? Я желал трудиться в Америке, думал за морем приносить пользу и оказывать помощь; если какая-либо деятельность не была сопряжена с уймой опасностей, она представлялась мне незначительной и недостойной. Как изменился ныне мои взгляд на вещи, как ценно и дорого для меня то, что мне всего ближе!
– Я помню письмо, полученное мною из-за моря, – вставил Ярно. – Вы писали мне: я возвращусь и у себя дома, у себя в саду, в кругу своих близких скажу: здесь или нигде моя Америка!
– Да, мой друг, и я не устаю это повторять и все же браню себя за то, что здесь я менее деятелен, чем был там. Для длительного однообразного существования нам нужен только разум, мы и становимся настолько разумны, что уж не замечаем того необычного, чего требует от нас любой рядовой день, а заметив, находим тысячи оснований не заниматься им. Разумный человек – большая ценность для себя, но недостаточная для всего в целом.
– Не будем хулить разум, – заметил Ярно, – лучше признаем, что необычное чаще всего оборачивается нелепицей.
– Конечно, но лишь потому, что, творя необычное, человек ломает установившиеся обычаи. Так зять мой отдает всю отчуждаемую часть своего состояния братской общине, полагая, что тем самым радеет о спасении своей души; пожертвуй он малую толику своих доходов, он осчастливил бы множество людей, создав для себя и для них рай на земле. Наши жертвы редко бывают действенны, мы тотчас отрекаемся от того, что отдаем. Не с решимостью, а с отчаяния отдаем мы свое достояние. Признаюсь, последние дни граф неотступно стоит у меня перед глазами, и я твердо решил по убеждению сделать то, на что его толкает трусливая дурь. Не стану дожидаться полного выздоровления; вот бумаги, остается только привести их в порядок. Возьмите себе в подспорье судейского чиновника, гость наш тоже не откажется вам помочь, вы не хуже моего знаете, о чем идет речь, я же, выздоравливая или умирая, буду твердить одно: «Здесь или нигде – мой Гернгут!»
Когда Лидия услышала слова своего друга о смерти, она упала на колени перед его постелью и разрыдалась, прильнув к его груди. Вошел хирург, Ярно вручил бумаги Вильгельму и принудил Лидию удалиться.
– Бога ради, скажите, что такое с графом? – воскликнул Вильгельм, когда они остались одни в зале. – Кто этот граф, вступающий в братскую общину?
– Вам он отлично известен, – отвечал Ярно. – Вы – тот призрак, что гонит его в лоно благочестия. Вы тот злодей, что привел его любезную супругу в такое состояние, при котором она готова безропотно последовать за мужем.
– Она – сестра Лотарио? – воскликнул Вильгельм.
– Совершенно верно.
– И Лотарио знает…
– Всё.
– Тогда мне надо бежать! – вскричал Вильгельм. – Как посмею я предстать перед ним? Что он скажет?
– Что никто не смеет бросить камень в ближнего своего и что никто не должен сочинять длинные речи для посрамления других или уж держать эти речи перед зеркалом.
– Это вам тоже известно?
– Как и многое еще, – с улыбкой ответил Ярно. – Но на сей раз вы не уйдете от меня так легко, кстати, как вербовщика вам больше нечего меня бояться. Я уже не солдат, впрочем, и будучи солдатом, я напрасно внушал вам подобные опасения. С той поры, как мы встречались, многое переменилось. После кончины моего государя, единственного моего друга и благодетеля, я устранился от мира и от всех мирских дел. Я охотно поощрял то, что почитал разумным, и не молчал, ежели находил что-либо бессмысленным, а люди все толковали, что у меня взбалмошная голова и злой язык. Людская свора ничего так не боится, как разума; ей бы следовало страшиться глупости, если бы она понимала, что́ по-настоящему страшно; но разум стеснителен – его надо устранять, глупость же только вредна, а это можно претерпеть. Но, так и быть, я еще поживу, а потому слушайте о моих дальнейших планах. Если пожелаете, можете принять в них участие; только сперва расскажите о своих похождениях. Я вижу, я чувствую, вы тоже переменились. Как обстоит дело с вашей старой фантазией создать нечто прекрасное и ценное в компании бродяг?
– Я достаточно наказан! – вскричал Вильгельм. – Не напоминайте мне, откуда я пришел и куда направляюсь. О театре говорят много, но кто сам не побывал на подмостках, не имеет о них настоящего понятия. Трудно даже вообразить, до какой степени эти люди не знают самих себя, как бездумно занимаются своим делом, как безграничны их притязания. Каждый не только хочет быть первым, но и единственным, каждый желает отстранить всех остальных, а того не видит, что и с ними вместе не способен чего-то достигнуть. Каждый мнит себя чудом своеобразия и при неустанной жажде новизны не в силах найти свой путь вне рутины. Как яростно воюют они между собой и лишь из низменного себялюбия, тупого своекорыстия держатся друг за друга! Об их личных отношениях и говорить не приходится; постоянное недоверие питается скрытыми кознями и злословием; кто не живет распутно, живет бессмысленно. Каждый претендует на безоговорочное уважение, каждый обижается на малейшее порицание. Как же? Он сам все отлично знает! А почему же упорно делает обратное? Вечно нуждаясь в совете и никому не доверяя, они ничего так не боятся, как разума и тонкого вкуса, и ничем так не дорожат, как непререкаемой властью собственного произвола.
Вильгельм перевел дух, намереваясь продолжить свою тираду, но оглушительный хохот Ярно остановил его.
– Бедные актеры! – воскликнул он и бросился в кресло, не переставая смеяться. – Славные бедные актеры! Знаете ли вы, мой друг, – продолжал он, немного отдышавшись, – что ваше описание относится не к театру, а ко всему миру, и я в любом сословии подберу достаточно персонажей и поступков вроде тех, что вы изображаете вашей суровой кистью? Простите, но я не могу удержаться от смеха, – почему вы связываете эти прекрасные качества только с подмостками?
Вильгельм постарался овладеть собой, ибо необузданный и несвоевременный хохот Ярно в самом деле раздосадовал его.
– Вы не можете вполне скрыть свое человеконенавистничество, утверждая, что эти пороки присущи всем, – сказал он.
– А вы показываете, что плохо знаете мир, ставя все подобные явления в укор театру. Право же, я готов простить актеру любой недостаток, проистекающий из самообольщения и жажды нравиться; ведь если он не может казаться чем-то и себе и людям, значит, он ничто. Его призвание в том, чтобы казаться, и как же должен он ценить минутный успех, раз другой награды ему не дано; ему непременно надо блистать – ведь для того он и стоит на сцене.
– Позвольте и мне хотя бы улыбнуться, в свой черед, – вставил Вильгельм. – Никак не ожидал, что вы можете быть столь справедливы, столь снисходительны.
– Клянусь богом, я говорю вполне продуманно и серьезно. Все человеческие пороки я прощаю актеру и ни одного актерского порока не прощаю человеку. Не вызывайте меня на сетования по этому поводу, они прозвучат патетичнее ваших.
Из кабинета вышел хирург и на вопросы, каково самочувствие больного, ответил с подчеркнутой веселостью:
– Как нельзя лучше. Надеюсь вскорости увидеть его совсем здоровым.
И он тотчас же выбежал вон из залы, не дожидаясь расспросов Вильгельма, а тот уже рот раскрыл, чтобы осведомиться, откуда у него сумка. Настойчивое желание хоть что-нибудь узнать о своей амазонке побудило его довериться Ярно. Он поведал ему свое приключение и попросил о содействии.
– Вам столько всего известно, – добавил он, – неужто вы не дознаетесь и до этого?
Ярно задумался на миг, а затем сказал своему молодому другу:
– Будьте покойны и не выдавайте себя, мы уж как-нибудь нападем на след вашей красавицы. Сейчас меня тревожит здоровье Лотарио. Положение опасное, об этом свидетельствует чрезмерная веселость и успокоительные речи хирурга. Я охотно спровадил бы Лидию – от нее здесь ни малейшей пользы. Только не знаю, как это устроить. Надеюсь, сегодня приедет наш старый лекарь, а потом уж мы обсудим дальнейшее.








